alex lynx
Navium Tirocinium
Пролегомена
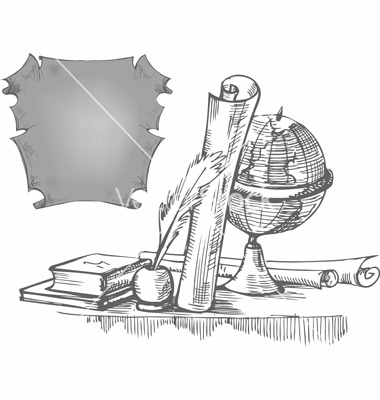
Вот уж не думал, что когда-либо займусь писательством. Талантов подобных никогда в себе не наблюдал, скорее даже наоборот – тяготел к более точным наукам. В школе литература была одним из самых моих нелюбимых предметов.
Да и говоря по правде, я был бы достоин презрения окружающих и потерял бы уважение сам к себе, если бы до последнего настойчиво твердил, что эту книгу полностью написал я сам. Хотя по ходу того, как продвигалась работа, я говорил моим друзьям и знакомым, что я пишу историко-приключенческий роман. Бесспорно, моей заслуги в том, что получилось, очень даже немало. Но совесть не позволяет мне полностью присвоить себе авторство.
Постараюсь вкратце пояснить. С детства я тяготел к странствиям и путешествиям – стремление, которое, правда, заключалось в основном в прочтении огромного числа книг про моряков, индейцев, ковбоев, рыцарей и всякого рода путешественников. Мне хотелось знать, как там, в далёких странах живут люди и на что они похожи эти далёкие края. Но заботливые правители нас тщательно от подобной информации ограждали. И мне, простому мальчишке, оставалось лишь смотреть «Клуб кинопутешествий» и мечтать… Я уже учился в вузе – конечно же, в техническом, – когда в нашем царстве-государстве начались желанные перемены. Занавес, отделявший нас от остального мира, упал или приподнялся – это кому как нравится, и перед нами открылись уникальные возможности. Но поскольку авантюризма мне явно не доставало, и к тому же я имел несчастье быть единственным ребёнком у своей матушки, я никуда не уехал, а покорно пошёл по проторенной дорожке. Однако детское моё любопытство никуда не делось. Я уже немного знал английский и за скромную плату достал пару адресов тех иностранцев, желавших переписываться с кем-нибудь из России – тогда на Западе вошло в моду всё русское. Разумеется, я предпочёл выбрать адреса девушек. С одной из них, американкой я обменялся парой писем, после чего она предпочла исчезнуть. Но вот с другой мы стали настоящими друзьями. Это оказалась замечательная молодая шотландка, весёлая, общительная, деятельная и настоящая патриотка. Несмотря на мой далёкий от совершенства английский, а может быть, даже благодаря простоте моих немудрёных, но искренних фраз, мы достаточно скоро подружились. Я с нетерпением по много недель, а то и не один месяц ждал от неё каждое письмо. Это только через несколько лет у меня появилась возможность пользоваться факсимильным аппаратом, а уж затем всеобщим достоянием стали электронная почта и интернет, а поначалу всё было мучительно долго. Через три года я первый раз побывал в Шотландии и сразу стал почётным гостем на свадьбе у моей шотландской сестры – поскольку именно такие отношения установились между нами и чему я был безмерно рад. Я перезнакомился со всеми её многочисленными родственниками и друзьями, среди которых чувствовал себя очень уютно и комфортно. Излишне говорить, что недолгая моя поездка была полна впечатлений и знакомств, что и отложило отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь.
Когда я вернулся домой, то сам завёл семью. Но, увы, долго наслаждаться благами семейной жизни мне было не суждено. Более того, к большому моему сожалению всё закончилось, как это частенько и бывает, позорным скандалом, который я по своей глупости и неопытности не смог избежать и даже чем-то спровоцировал. Наверное, здесь всё и началось… Пережить этот удручающий и драматичный этап в моей жизни мне помогла моя шотландская сестрёнка и новая поездка, итогом чего, в конце концов, уже через много лет стала эта книжка…
Я не раз встречал у маститых писателей в прологах к романам любопытные истории о том, как эти самые романы создавались и что послужило их основой. Великие авторы увлечённо писали про услышанные ими якобы истории в забытых богом селениях, про принесённые им незнакомцами рукописи, про откопанные в старых библиотеках манускрипты и приводили ещё множество подобного рода выдумок. Да-да, именно выдумок, как же иначе, или для корректности можно их назвать литературным приёмом. Не мог же я считать себя настолько простофилей, чтобы поверить во всю эту чушь, призванную лишь заинтриговать будущих читателей.
И вот сейчас мне в некотором роде стыдно тех моих мыслей, хотя они, возможно, и были вполне разумными. Краска приливает к моему лицу, когда я представляю, что будут думать обо мне читатели, когда я сообщу им, что на самом деле произошло. Это выглядит ещё более нелепо, чем те инсинуации великих прозаиков о происхождении их трудов. Поэтому я со стыдом и ужасом предвижу, как читатели – если таковые вообще найдутся – отнесутся к моим следующим словам и с каким презрением они будут обо мне думать, принимая меня за обманщика и шарлатана. Что ж, я этого вполне заслужил и обязан терпеть, и заранее всех прощаю.
Итак, когда я второй раз оказался в Шотландии, друзья сделали всё возможное, чтобы я забыл о своих горестях и проблемах. Посещение многочисленных музеев, старинных замков, плавание на паромах на острова, поездки на машине по безлюдным горным дорогам с живописными пейзажами, прогулки по покрытым вереском холмам – всё это должно было отвлечь меня от проблем и вновь пробудить вкус к жизни. Но и, конечно же, хорошие, добрые компании по вечерам со стаканом вина или толикой чего покрепче. Однажды мы очутились в доме Сэдди – так зовут маму моей названной сестры. На самом деле её имя Сара, но все её зовут Сэдди. В общем-то, я ещё с моей первой поездки в Шотландию был знаком с этой немолодой неунывающей женщиной, родоначальницей огромного семейства, и ныне бабушкой роты гвардейцев и стайки фрейлин, а также прабабушкой многочисленной и не поддающейся счёту армии правнуков и правнучек. Она ещё жила в тот год в небольшой трёхкомнатной квартирке в западной части Глазго. Муж её умер за несколько месяцев до свадьбы их младшей дочери, моей названой сестры, и поэтому я его, к сожалению, никогда не видел. Знаю лишь, что он был честным рабочим на верфях на Клайде, а его бабушкой была некто Дженни МакГрегор, в то время как Сэдди являлась потомком Максвеллов и Лесли… И вот, после тёплой встречи, обниманий и поцелуев я вручил Сэдди привезённый мною подарок. Честно говоря, уже не помню точно, что это было – по-моему, оренбургский пуховый платок. Мы мило пили чай, разговаривали о том, о сём. Потом старушка поинтересовалась, читаю ли я книги. Конечно, я читал, и ещё сколько! Тогда Сэдди вышла на пару минут и вернулась с каким-то большим предметом, завёрнутым в ткань неопределённого цвета и перевязанным хлипкой бечёвкой. Моя гостеприимная хозяйка сообщила, что в свёртке находятся какие-то рукописи. Бумаги эти, по её словам, были очень очень старые, потому что ей они достались ещё от недавно почившей старшей её сестры Нетты, а ей – от их родителей, а от кого они достались им она не знала. Нетту я хорошо помнил по первому моему визиту в Глазго. Казалось, тогда они с сестрой соперничали в привлечении моего внимания и опеке надо мной. Она курила как паровоз, как и её сестра Сэдди, и в результате получила рак лёгких. Предчувствуя приближение смерти, Нетта попросила свою сестру свозить её на море – на один из испанских курортов. Через пару месяцев после возвращения в Шотландию, её не стало. Кстати, Сэдди после этого трагического случая бросила курить (это на семидесятом-то году жизни!)
Кажется, я немного ушёл в сторону. Так вот, Сэдди сказала шамкающим голосом, что она как-то пыталась разобрать, что в них написано, но так и не смогла понять, что это такое – то ли письма, то ли какие-то рукописные книги или скорее их черновики. Она показывала эти бумаги своим детям, уже немолодым и даже некоторым из их детей. Однако, как она сообщила со вздохом, ни у кого из них не появилось желания копаться в этой толстой кипе листов. Но у Сэдди рука не поднималась выбросить этот свёрток, который так и оставался лежать в её кладовой многие годы. И вот она, с видом будто делает великий подарок, вручила мне эти бумаги. Разумеется, я был не в силах отказаться, тем более, что Сэдди намекнула, что надеется узнать от меня, что же написано на этих листах. В свою очередь, сделав вид, что с огромной радостью принимаю «подарок», и пообещав почитать рукописи, я забрал свёрток, горячо поблагодарил старую шотландку и на том мы и расстались. Тогда я ещё не представлял, во что вляпался. Очутившись через пару недель у себя дома, я ради любопытства развернул свёрток и понял, что в кипе в общей сложности около тысячи (!) листов, исписанных мелким почерком. Хотя я прилично читаю по-английски, но необходимость прочесть этот штабель листов не пойми чего привела меня в ужас. В итоге, я снова аккуратно завернул рукописи, завязал, убрал на самую верхнюю полку и надолго забыл про них. Тем более что в следующие месяцы я был всецело поглощён работой, поиском путей приобретения моего собственного жилья, оформлением документов на ипотеку и прочей связанной с этим суетой. Сначала я успокаивал мою совесть (я ведь обещал прочесть рукописи!) большой занятостью и нехваткой времени. А когда она, совесть то бишь, мало-помалу впала в летаргический сон, то я и вовсе забыл про бумаги. Причём так сильно забыл, что чуть не лишился рукописей. Когда я перевозил мои небогатые пожитки в свою новую квартиру, я просто напросто не удосужился залезть на стул и глянуть, не осталось ли чего в шкафу. Лишь когда я закрывал дверь и бросил в этот миг прощальный взгляд на последнее моё временное обиталище, что-то ёкнуло внутри и я вдруг вспомнил о тех бумагах.
Потом прошло несколько месяцев обустройства нового жилья. Понятное дело, что занятие это было хоть и хлопотное, но куда приятнее, чем читать не пойми что. Так прошла весна, лето. И вот, одним тёмным осенним вечером, не зная чем себя занять, я вдруг вспомнил про эти бумаги и решил наконец-то если не выполнить моё давнишнее обещание прочитать их, то хотя бы попытаться это сделать. С некоторой неохотой я достал эту кипу макулатуры, развернул, уселся в старое кресло (новое я ещё не приобрёл) и принялся просматривать страницы.
Я сразу сообразил, что это рукопись книги со странным названием на латыни или нескольких книг. Судя по пожелтевшим страницам, написано всё это было ужас как давно. Ещё более я удивился после прочтения первых нескольких страниц. Как я говорил, в то время на досуге, обычно перед сном – для скорейшего засыпания – я читал много книг, причём в оригинале, и большую часть из них составляла английская классика. Так вот, стиль изложения, используемые обороты в рукописи сильно смахивали на английский литературный язык… первой половины девятнадцатого века! Витиеватые фразы, многоуровневые предложения, апелляции автора к читателю и ещё много чего, свойственного тому времени. Хотя, возможно, это была лишь хорошая имитация, кто знает, или же я просто ошибся в своём суждении – всё же в вопросах литературы я всего лишь дилетант…
День за днём читая понемногу рукопись, я обнаружил, что некоторые страницы отсутствуют. К счастью страницы были пронумерованы. Оказалось просто напросто, что некоторые листы лежат не на своём месте, как будто очередной «хранитель» рукописи случайно рассыпал её, а потом неаккуратно сложил обратно, перепутав порядок страниц. Мне пришлось потратить битых два часа, чтобы устранить эту оплошность. Про себя я ругал того небрежного неизвестного хранителя (не знаю, кто там был – Максвелл, Лесли или кто ещё), не подозревая ещё, что мне предстоит потратить на эту рукопись ещё не час, не день и не месяц – а целые годы! Более того, то, что сейчас находится перед вами, это перевод лишь трети всей этой рукописи, и мне предстоит ещё титаническая работа, если господь отпустит мне ещё время.
Сейчас я пытаюсь понять, с какой стати я взялся за это неблагодарное дело. Наверное, потому что жизнь сложилась так, что у меня не было больше семьи, и вряд ли уже появится, и не надо было уделять всё свободное время заботливой жене и послушным детям. К тому же я избавлен, к моему большому сожалению, от необходимости честным трудом зарабатывать себе на хлеб насущный, ибо здоровье моё давно уже пошатнулось, да так пошатнулось, что наше доброе государство взяло на себя заботу о моём благополучии. Мне не надо было обязательно работать, и порой появлялось много времени, которое я не мог потратить на привычные для других радости жизни. Но сидеть без дела и скучать, наблюдая, как бесцельно, впустую проходят день за днём, я тоже не мог, и потому решил попробовать перевести рукопись. Кроме того, мне нравилось, то, что я уже успел прочесть.
Почему я потратил так много времени на перевод трёх сотен листов? Да потому что это была не просто работа переводчика! Рукопись напоминает собой по большей части черновик с множеством зачеркиваний, пометок, исправлений, клякс. Где-то встречаются нестыковки в сюжете, а в иных местах откровенные исторические ляпы. Поэтому, по сути, мне пришлось не просто редактировать, а вносить несчётное число разного рода исправлений и поправок. А для этого потребовалось стать немножко писателем и даже историком, проштудировать кучу материала про ту эпоху. К тому же мне хотелось перевести рукопись как можно ближе к стилю оригинала – может быть, чтобы тем самым отдать дань уважения автору. Поэтому мне пришлось много читать классических переводов подобной литературы того времени, чтобы набрать лексический запас и перенять стилистику той эпохи. Я ведь за всю свою жизнь к тому времени даже и маленького рассказика не накрапал. А поскольку мне приходилось по мере возможности работать в различных компаниях по своей основной профессии, то перевод и редактирование рукописи проходили очень неравномерно, порой только по выходным дням, а иногда я вынужден был прерывать моё «писательство» на месяца.
После этого я бывал в Шотландии ещё несколько раз и пытался выяснить, кого на самом деле стоит считать автором рукописей. Но, увы, Сэдди знала про это не более того, что уже рассказывала мне ранее, и заверила меня, что я, если хочу, могу опубликовать перевод под своим именем.
В итоге, через одиннадцать лет после того, как бумаги попали в мои руки, я, наконец-то, могу быть немного доволен. Немного – потому как прошло столько лет, а я в состоянии предъявить на суд публики пока лишь треть рукописи…
Ну, вот и закончились мои разъяснения, которые, надеюсь, вас не сильно утомили и не отбили охоту прочесть этот роман. Что ж, если это так, то желаю вам твёрдости духа, чтобы «переплыть» эту книжку. Если вы, кстати, не заснёте после первых пяти-шести страниц, то, значит, у нас есть что-то общее и вы также упрямы, как был и я, когда принялся за перевод этой старой рукописи или не пойми чего.
Итак,
NAVIUM TIROCINIUM

Часть 1 Пейсли
Глава I
В монастырских чертогах
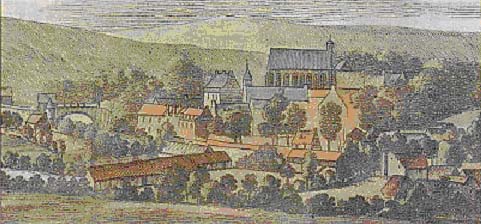
Бам-бум! Бам-бум! – мерный звук колокола настойчиво сзывал монахов Пейсли к вечерне. Они оставляли свои занятия и со всех концов тянулись к величественному готическому собору, высившемуся над монастырём и надо всей округой. Кто-то, отличавшийся прилежанием и усердием, откладывал в сторону перья, толстые книги с серебряными застёжками и старинные манускрипты. Другие иноки, более свойские, около монастырских ворот прощались с мирянами (по большей части мирянками), великодушно благословляя их крестным знамением и, в зависимости от пригожести и возраста прихожанки, лаская её благосклонным взглядом или же сурово напоминая о покаяниях и умилостивительных жертвах. Иные же святые отцы лениво, со вздохом поднимали свои телеса со скамеек в монастырском саду, где они под сенью каштанов проводили послеобеденные часы в блаженной полудрёме или в досужих разговорах друг с другом. Лишь монастырский повар со своим подручным не покинули поста у кухонных печей, занятые приготовлением такого сытного ужина для братии, коему мог бы позавидовать любой из обитателей селения близ стен монастыря. Да угрюмый монах-привратник не мог оставить ворота без присмотра, чтобы – не приведи Господь! – какой-нибудь грешник не покусился на монастырское добро.
Стоял погожий сентябрьский денёк. На окружающем пейзаже ещё играли летние краски, хотя кое-где уже чуть подёрнутые нежно-золотистыми оттенками наступающей осени. На монастырских полях вокруг там и здесь, будто тёмные жучки виднелись крестьяне – аббатские ленники, спешившие собрать урожай. Бойко крутилось колесо мельницы на берегу речки. Солнечный диск уже намеревался было опуститься за возвышавшиеся далеко к западу холмы, но, как будто, на миг задумался и в нерешительности завис над кромкой утёсов. Последние лучи весело играли на цветных витражах в высоких окнах большой квадратной башни, высившейся в самом центре длинного нефа старинного собора.
Началась вечерня и всё утихло в пределах монастырских стен, и лишь из-за полуоткрытых массивных дверей доносилось усиленное акустикой огромного помещения торжественное пение монахов-бенедиктинцев, иногда прерываемое речитативом молитв. Казалось, даже птахи в монастырском саду перестали порхать с ветки на ветку и прыгать по зёленым лужайкам, как будто понимая важность происходящего в соборе священнодействия.
В самый разгар богослужения к воротам подъехал молодцеватого вида всадник в сверкающих латах, шлеме с чёрным плюмажем, на плече его висел круглый щит, а на боку – грозный меч.
– Salve in nomine sancto, mi fili,1 – произнёс монах-привратник, впуская кавалериста внутрь обители, что, по-видимому, доблестному стражу монастырских ворот приходилось делать уже не впервой.
– Проводи-ка меня к архиепископу, благой инок… Впрочем, нет, лучше позаботься о моей лошадке, я сам найду дорогу к аббатским покоям, чай эта обитель мне теперь как дом родной, – бросил вновь прибывший, спускаясь с седла и отдавая поводья монаху. – Ого! Да я слышу, у вас здесь вечерня идёт. Надеюсь, его высокопреосвященство не снизошёл до участия в распевании Бревиария наравне с монахами. Ха-ха-ха!
Довольный собой, он уверенно поднялся по одной из двух каменных лестниц, ведших в верхние помещения монастыря – туда, где находились личные апартаменты церковных властителей, прошёл через длинную сводчатую анфиладу и смело постучал в одну из боковых дверей, ничем не приметную, если бы не внушительные металлические заклёпки на ней. Она тут же отворилась, и навстречу ему вышел страж с алебардой. Он сразу узнал прибывшего, хотя и с некоторым удивлением, и, не проронив ни слова, пропустил того в комнату. В покоях кроме второго стражника находился лишь один человек – немолодой, сухопарый и невзрачный, по тёмному строгому церковному одеянию и требнику в руках похожий на капеллана, каковым он, в общем-то, и являлся. Он поднялся навстречу гостю и с еле заметным иностранным акцентом приветствовал того слегка ошеломлённым возгласом:
– О, неужели это сэр Фуляртон из Дрегхорна, ordonnance2 его светлости!
– Как видите, он самый, патер Фушье, – ответил гость.
– Но коим образом, – изумился каноник, – управитель прозналь, и так скоро, о прибитии архиепископа в Пейсли? Ведь его высокопреосвященство никого не посвящаль в плани своего передвижения!
– Удивительно, святой отец, что вы такого невысокого мнения о всесилии моего господина, – небрежно ухмыльнувшись, ответствовал сэр Фулартон. – Его люди находятся по всей Шотландии, а уж тем более в землях клана Гамильтонов, коим главой он является. Клянусь небесами! да он проведал о вашем прибытии в Пейсли ещё ранее, чем вы с вашим покровителем въехали в монастырские ворота. Ну, вы меня право рассмешили, патер Фушье. Сколько лет вы уже рядом с примасом, а все время удивляетесь всесилию его кровного брата.
– Да, воистину говорят: «Fama nihil est celerius»,3 – беспокойно вздохнул капеллан. – Однако, ви, дольжно быть, привезли архиепископу значимие известия от досточтимого сэра Джеймса.
– Не то слово, патер Фушье! Клянусь остротой моего клинка, я всегда прибываю с вестями чрезвычайной важности. Для пустяковых письмишек существует огромная армия бездельников скороходов и посыльных. Но самые опасные задания и секретные поручения его светлость может доверить лишь такому отважному, преданному и благородному человеку как я, притом с древней незапятнанной родословной. Ведь мой предок самим Робертом Первым был назначен королевским ловчим. Это знаменательнейшее историческое событие имело место при королевском дворе в городе Перте. А произошло это, почтенный патер, так…
– С вашего позволения, сэр Фуляртон, – прервал его клирик, – я осмелюсь смиренно напомнить, что эту историю я имель счастие услишать ещё в прошлом году, а также, видимо, забив об этом factum,4 ви поведали мне её в последний ваш приезд в свите регента к архиепископу в Эдинбург. Раuса verba,5 син мой. Что же вас привело на сей раз в церковние чертоги? Однако же, я би искренне посоветоваль вам отдохнуть с дороги и вкусить восхитительних деликатесов, которие так искусно, с Божьей помощью приготовляет frater ad succurrendum 6 монастирской кухни, и освежиться живительним бордо, которим польни здешние подвали.
– Ах, да, бордо с монастырской трапезой! Это как раз то, что мне сейчас не помешало бы, – сказал, облизываясь, ординарец. – Но дело у меня, однако, чересчур важное и срочное, святой отец, а потому отведать аббатских яств и запить их прекрасным нектаром французских виноградников я смогу себе позволить лишь после того, как выполню поручение моего господина, герцога Шательро и переговорю с его высокопреосвященством. Надеюсь, архиепископ не будет сильно потревожен, если вы тотчас же известите его о моём прибытии.
– Прошю прощения, э…, но вам придётся немного обождать, благородний сэр, ибо его высокопреосвященство решиль прервать свои труди, угодние небесам, и вкусить пищи земной, даби воспольнить свои сили для приготавливания пищи духовной во благо всей шотландской пастви, – с торжественным ударением на последних словах молвил каноник.
– Как так, отец Фушье! Клянусь моими шпорами, что известия, кои я должен сообщить архиепископу, имеют куда большую важность для судьбы королевства, нежели написание этих ваших катехизисов вместе взятых, – воскликнул гость, не скрывая своего раздражения. – Я осмелюсь просить вас, патер, нет, требовать безотлагательно сообщить архиепископу о моём прибытии и передать ему следующие слова…, – ординарец покопался в памяти, вспоминая фразу, слышанную им от герцога, и сказал, исполненный величия: – Qui autem post me venturus est fortior.7 Вот видите, мне тоже кое-что ведомо из вашей этой латыни.
Каноник, видимо, желая избежать дальнейших пререканий с ретивым посланцем регента Джеймса Гамильтона, смиренно подошёл к отделанной дубовыми панелями стене, нажал какой-то невидимый рычажок и проскользнул в открывшуюся потаённую дверь. Архиепископ Джон Гамильтон, после убийства протестантами в 1546 году своего предшественника кардинала Битона, чрезвычайно заботился о своей личной безопасности и денно и нощно держал при себе охрану. Помимо двух телохранителей, постоянно присутствовавших в апартаментах примаса шотландской церкви, под рукой у него всегда находился отряд копьеносцев и алебардщиков, который в описываемый момент квартировался в одноимённом селении около стен обители, дабы не тревожить умиротворение монастырской жизни, но готовый по первому сигналу тревоги ринуться на защиту примаса.
Через некоторое время невидимая дверь снова приоткрылась, и секретарь архиепископа пригласил Фулартона из Дрегхорна войти в покои своего патрона, сам почтительно оставшись в наружной комнате.
Когда посланник очутился в аббатских апартаментах, примас величаво восседал на кресле с высокой спинкой, покрытой причудливой резьбой. На архиепископе была длинная до самых пят расшитая золотом тёмно-синяя накидка. Из-под круглой вельветовой шапочки весело выглядывали слегка рыжеватые волосы, которые как-то не вязались с аккуратно постриженной степенной бородой. Человек этот был в самом расцвете своих жизненных сил, на вид ему трудно было дать больше сорока лет. Чуть раздобревшие формы его тела и лёгкий румянец на лице давали понять, что архиепископу отнюдь не чужды были земные слабости и, возможно, даже выходившие за ограничения его церковного сана. Тем не менее, обыденность его общего вида, пусть и приукрашенного красивыми архиепископскими одеждами, искупалась необыкновенно выразительным лицом с пристальным и всепонимающим взглядом, светящимися умом глазами и плотно сжатыми губами, что свидетельствовало об интеллекте, твёрдости характера и незыблемости убеждений.
В огромном камине догорали два полена, уже почти превратившиеся в тлеющие угольки. Рядом стоял дубовый столик, на котором лежали остатки жареного каплуна и стоял кубок с недопитым вином.
Вошедший поклонился и поцеловал протянутую ему ладонь с драгоценным перстнем.
– Я вас слушаю, сэр Фулартон – так, кажется, ваше имя, если меня не обманывает память, – несколько свысока молвил архиепископ Сент-Эндрюс, видимо, недовольный тем, что его оторвали от столь важного занятия.
– С вашего позволения – сэр Джон Фулартон из Дрегхорна, если говорить точнее, – поправил гость, приосаниваясь. – Я прибыл с поручением от его светлости герцога Шательро.
– Надо заметить, вы вошли в большое доверие к управителю, сэр Джон Фулартон из Дрегхорна, – примас сделал нарочитое ударение на имени. – Последние два года он лишь вам и доверяет быть посланцем к его брату. Странное постоянство лорда-управителя, так ему несвойственное. Говоря по правде, я теряюсь в догадках, чем вы могли заслужить такую честь, сэр, – закончил архиепископ и пристально посмотрел в глаза Фулартону.
– Признаться, я тоже не могу взять этого в толк, – сказал посланец. – Вероятно, всё дело в моей верности и лояльности герцогу Шательро, управителю Шотландии. Как всем известно, наш род знаменит своей преданностью шотландским королям.
– Королям, сэр! Но не забывайте, что мой брат всего лишь регент, пока королева Мария слишком мала даже для того, чтобы вскарабкаться на трон без помощи нянек, – строго произнёс архиепископ. – И где же ваш хвалёный патриотизм, сэр, раз вы ставите за лучшее называть моего брата Джеймса Гамильтона, лорда-управителя оным французским титулом – герцог Шательро!
– Ах, ваше высокопреосвященство! Видите ли, при солнечных лучах можно легко и быстро прочесть святое писание, а под лунным мерцанием на это потребуется в стократ больше времени. А посему, хоть это и одно и то же лицо, мне, однако, предпочтительнее быть слугой его светлости герцога Шательро, нежели просто лорда Джеймса Гамильтона. Ведь мой славный предок прислуживал самому королю Роберту Первому, будучи его ловчим! – изрёк посланец.
«Какой тщеславный тип, этот Фулартон! Мой братец любит окружать себя такими как он», – подумал архиепископ, а вслух произнес:
– Перед Богом все равны: лорды и герцоги, крестьяне и ремесленники, ратники и священнослужители… Так в чём же состоит ваша миссия, и как понимать эту цитату из святого евангелие, которую мне передал патер Фушье? Не кажется ли вам, сэр, кощунственным в объяснении своих поручений использовать священные тексты, кои дозволено произносить лишь в храмах божьих? Быть может, вас, как и раньше, уполномочили передать мне письмо его свет… хм… от Джеймса Гамильтона? – спросил архиепископ, надеясь уколоть самолюбие амбициозного посланника. – Где же оно?
– Сэр Джеймс Гамильтон, – решил уклониться от обсуждения титулов своего патрона его клеврет, ничуть не обескураженный тоном архиепископа, – повелел сообщить вашему высокопреосвященству, что он нуждается в вашем совете по неким государственным вопросам, кои не могут быть доверены ни предательской бумаге, ни чужим ушам, и что нынче ночью после девяти часов он тайно и в одиночестве подъедет к воротам монастыря. Мой господин просил предпринять всё возможное для сохранения полной секретности его краткого приватного визита. Это всё, что мне поручено сообщить вашему высокопреосвященству.
Кратко и чётко изложив суть дела, не сказав ничего лишнего, сэр Фулартон из Дрегхорна снова поклонился – больше для того, чтоб скрыть свою ухмылку, нежели для учтивости.
– А не опасается ли мой брат в одиночку путешествовать по этим неспокойным дорогам, да к тому же и ночью? – в голосе архиепископа беспокойство смешивалось с недовольством, ибо примасу не по душе пришлась секретность предстоящего визита его брата регента.
Посланец, не догадываясь об истинных причинах тревоги архиепископа, лишь усмехнулся и ответил:
– Ваше высокопреосвященство заблуждаетесь, коли полагаете, что шотландский управитель будет подвергать себя такой опасности как путешествие в одиночку. Всем же ведомо, сколько у него недоброжелателей! Да и простое отребье, шатающееся по нашим дорогам… Известное дело, охрана у моего господина самая что ни на есть надёжная: все превосходные воины. Но коли весь отряд подъедет к монастырским воротам, монахи могут переполошиться и поднять тревогу, подумав, будто монастырь собираются брать штурмом… Охрана регента останется чуть поодаль. Так что нет никаких причин беспокоиться за безопасность его светлости.
– Но к чему такая таинственность? – спросил примас скорее себя самого. – Разве же, как случалось раньше, не может один родственник повидать другого, не вызывая сплетен и кривотолков?
– Ну, на это я не в состоянии дать вразумительный ответ, ваше высокопреосвященство, – ответил ординарец. – Слуге не следует лезть в тайны своего господина, ежели тот не желает его в них посвящать.
– Однако же, сэр, мне удивительно слышать, как вы, благородного происхождения человек, называете себя слугой, – архиепископ не оставлял надежд задеть собеседника.
– Прошу прощения, но ведь ваше высокопреосвященство тоже не может не считать себя слугой. Ну, хотя бы слугой Господа, – парировал укол Фулартон и, взметнув голову, добавил: – Невзирая на то, что я и не вассал Гамильтонов, я служу сэру Джеймсу как его единомышленник… а иногда и как добрый советчик.
– Интересно, какие же общие воззрения могут быть у вас с моим братом? – пренебрежительно-равнодушно спросил Джон Гамильтон, втайне, как опытный придворный, надеясь вытянуть из Фулартона какие-либо сведения о намерениях своего высокопоставленного брата и о его, Фулартона, в том участии.
– Ваше высокопреосвященство сможете вскоре сами поинтересоваться об этом у сэра Джеймса, – кратко ответил ординарец, который был весьма осмотрителен в своих речах и не позволил из своих уст вылететь более того, что ему было велено передать, за исключением разве что пышных фраз, высказанных в угоду своему честолюбию.
Архиепископ Сент-Эндрюс, насупившись, молча кивнул головой и сэр Фулартон, поклонившись, покинул его тайную комнату с гордым видом человека, выполнившего ответственнейшее поручение. А примас остался в раздумье: «Ох уж, не нравится мне этот тайный приезд Джеймса под покровом ночи, когда всем добропорядочным людям полагается отдыхать от дневных трудов. Какие ещё мысли пришли в голову моему амбициозному брату? Вероятно, опять строит некие авантюрные планы, коим как обычно мне приходится противопоставлять доводы смиренного разума, дабы умерить его чересчур честолюбивые и далёкие от благочестия порывы. А коли он хочет сохранить в тайне нашу встречу, значит, так и есть – намерения его не совсем чисты». Примас вздохнул и с помощью серебряного свистка призвал патера Фушье…
А тем временем Фулартон, выйдя во двор, направился в трапезную, бормоча по дороге:
– Тьфу! Проклятые паписты! А этот Сент-Эндрюс! Перед Богом, говорит, все равны. Наверное, досадно ему, что брат-то его Джеймс унаследовал и титул и богатство, хоть и младший, а он, Джон Гамильтон – всего лишь бастард, и поднялся-то до вершин власти благодаря брату же… А взять патера этого, французишку набожного! Всё рот мне затыкал. Устроился прихлебателем у примаса, а сам других учит, как жить надобно. Ничего, вот разгонят их монастыри, как в Англии сделали, по-другому птички в рясах запоют. По-шотландски говорить надобно, чтоб всё понятно было, а не на латыни учёность свою показывать… Ну, хорошо, регент уже на нашей стороне – не зря я ординарцем при нём состою. Пускай теперь постарается, и речами своими витиеватыми брата-церковника к нам приманивает.
Ординарец Джеймса Гамильтона вошёл в трапезную и зычно кликнул:
– Эй, Фергал! Кухонная твоя душа.
На зов из примыкавшей к трапезной кухни вынырнул юркий повар – монах на вид лет около двадцати пяти, коренастый, невысокого роста. Его рябая физиономия пылала негодованием касаемо того наглеца, кто посмел столь непочтительным образом отвлечь его от сакрального действа – приготовления трапезы для монастырской братии. Однако, узнав зовущего, кухарь сменил гнев на милость, и более того, лицо его расплылось в самой очаровательной улыбке, которую вполне можно было бы принять за искреннюю, если бы не настороженный, колючий взгляд её обладателя.
– Ах, это вы, сэр Фулартон из Дрегхорна! Доброго вам здравия, да благословит вас Господь, пресвятая дева Мария и все святые угодники! – воскликнул повар, как и все монахи наученный щедро раздавать благословения, после чего обвёл взывающим взором стены трапезной, где из ниш строго взирали каменные изваяния этих самых великомучеников. Взгляд монаха преисполнен был такого благочестия и смирения, что, казалось, статуи святых должны были не иначе как закивать в подтверждение искренности слов монаха.
Однако, в итоге подобные воззвания и благословения оставили равнодушными изваяния в нишах и, похоже, мало подействовали и на Фулартона из Дрегхорна, ибо первые молча взирали, а второй бесцеремонно уселся во главе длинного стола на место, предназначенное для настоятеля, и заявил самым беспардонным образом:
– Пичкай этими восхвалениями своего приора, любезный монашек. А мне принеси-ка лучше доброго вина да яств, каковые расхваливал французский патер… Смею покорно надеяться, вы не прочь, святой отец, – и не наложите за то на меня епитимью, – что я называю вас Фергалом, а не отцом Галлусом? Ха-ха-ха!
Продолжая задушевно улыбаться, монах исчез в кухне. Когда через некоторое время он вернулся и расставил блюда вокруг гостя, Фулартон спросил:
– Скажи-ка, приятель, нет ли каких новостей для меня? Не бродят ли крамольные мысли среди братии, и верно ли исполняет свой долг отец-настоятель?
Монах оскалился и ответил любезным и слегка вкрадчивым тоном:
– Что вы, сэр! Наши монахи кротки как ягнята, а приор правит ими подобно пастуху, посохом понукающему своё стадо.
– А почему ты мне не говоришь, что к вам пожаловал архиепископ Джон? – спросил ординарец, хмурясь. – Не за то тебе платят, чтобы ты забывал сообщать о таких важных вещах!
– Тише, тише, прошу вас, сэр, брат Томас может услышать, – сказал повар, опасливо оглядываясь на ведущую в кухню дверь. – Так вы же и не спрашивали про примаса! Но раз вы упомянули патера Фушье, то я догадался, что вам, должно быть, обо всём и без меня уже известно. Так оно и есть – его высокопреосвященство только утром-то и прибыл, во время мессы. Вот мне и приходится помимо похлёбки для братии, ещё и кушанья для архиепископа стряпать, – и монах испустил тяжкий вздох, а улыбка на его лице сменилась печальным выражением.
– Ну-ну, не грусти, монашек, – подбодрил его Фулартон. – Может, скоро твое иночество-то и закончится, как знать. Хотя тебе, должно быть, и так неплохо здесь живётся, а? Пока же продолжай быть тут моими очами и ушами, с чем ты небезуспешно до сих пор справлялся. И какая же удача, что я повстречал такого смышлёного монаха в Эдинбурге в доме архиепископа… А что, больше тебя туда не приглашают?
– Нет, сэр Фулартон, – грустным голосом ответил повар. – Видимо, примас в моих услугах более не нуждается. Ходят слухи, у него какой-то новый иностранный лекарь объявился, некий итальяшка по имени Кардано.
– Ну, не стоит переживать по этому поводу, Фергал. Зато в твоих услугах нуждается больший, нежели примас, – многозначительно сказал ординарец. – А теперь сделай милость – не порти мне ужин своим нытьём и возвращайся к стряпне на кухню.
Повар ушёл, а Фулартон из Дрегхорна продолжал с жадностью уничтожать свою еду, обильно запивая её прекрасным французским вином из монастырского подвала.
Глава II
Учитель и ученик

Впрочем, ещё на двух человек призыв набата к вечерне, не возымел своего повелевающего действия. Они продолжали неспешно прогуливаться бок о бок и мирно беседовать под тенистыми ветвями платана в большом монастырском саду.
Один из собеседников являлся иноком сей обители. Его невысокую и непрочную фигуру облачала ряса из тёмной шерсти, подпоясанная ремешком из оленей кожи; узкие плечи укрывала белая пелерина с прикреплённым к ней чёрным куколем, который был откинут назад и длинный его хвост опускался почти до самой земли.
Дуновения ветерка время от времени теребили остатки седых волос на висках святого отца, равно как и опускавшуюся до самого пояса белую бороду. Судя по её длине, можно было судить о привилегированном положении монаха в обители, ибо по канонам ордена бенедиктинцев того времени бороды инокам были не положены и сбривались как правило каждый месяц, а церемония эта была далеко не очень приятным занятием, принимая во внимание несовершенство бритвенных приспособлений того времени. (Говорят даже, что в монастырях обычай петь псалмы во время этого действа ввели с целью заглушить вопли обриваемых иноков). Поэтому вполне можно понять, почему позволение носить бороду благостно воспринималось теми редкими монахами, на кого оно снисходило, и считалось значимой привилегией. Хотя лицо монаха, испещрённое мелкими морщинами, и несло на себе печать прожитой долгой жизни, на нём не было заметно и толики того выражения безысходной усталости, присущего очень старым людям. Наоборот, казалось, лик старца был озарён какой-то исходящей изнутри энергией, выражавшейся в его безмятежном, умном взгляде и благожелательном выражении его лица. В смотревших из-под густых седых бровей глазах, конечно же, давно уже не сверкал блеск и азарт молодости, но зато лучились накопленные прожитыми годами мудрость и знания.
Можно сказать, что полную противоположность старому монаху являл его компаньон, обладавший как разительным преимуществом в возрасте, так и более привлекательной наружностью. То был стройный юноша, на вид не больше девятнадцати-двадцати лет, шести футов росту, с тёмными слегка вьющимися ничем непокрытыми волосами. То, что он не принадлежал к благочестивой братии этой обители, можно было понять по вполне мирскому одеянию, скромному и аккуратному. Костюм юноши состоял из камзола из серой шерстяной ткани и таких же штанов, поверх которых был наброшен тёмно-синий плащ без отделки, подпоясанный широким ремнём с висевшей на нём кожаной сумочкой, в каких в то время школяры обычно носили свои ученические принадлежности; чёрные рейтузы обтягивали мышцы ног, давая наглядное представление об их крепости, а сандалии из оленьей кожи делали лёгкую поступь ещё более мягкой и неслышной.
Впрочем, внимательный наблюдатель заметил бы, что совсем простой костюм молодого человека явно разнился с его манерой держаться, благородным взором и прямой осанкой. Несмотря на неспешность ходьбы, упругость шагов и завидное соотношение между размером плеч и талии свидетельствовали о натренированности молодого тела. Лицо юноши, весьма приятное на вид, тем не менее, мы не рискнули бы назвать чересчур красивым или невероятно мужественным. Но вместе с тем высокий лоб, открытый, добрый и даже чем-то простодушный взгляд его живых зеленоватых глаз не могли не вызывать безотчётную симпатию или, по крайней мере, располагать в его пользу. Действительно, он более походил на с любопытством вступающего в жизнь наивного мальчика, чем на взрослого юношу, успевшего познать уже суровую действительность бытия. С почтительно склоненной головой молодой человек внимал своему убелённому сединами собеседнику.
– На твоём лице я вижу радость, – рёк старый монах, – причиной коей, должно полагать, является предвкушение возвращения в отчий дом. Но вместе с тем лик твой затемняет облако грусти и смущения. Что же печалит тебя, юноша?
– Вот уж верно, мой добрый наставник, от вашего мудрого взора ничто не укроется, – ответил молодой человек. – Действительно, так оно и есть! Я прямо-таки ликую при мысли, что вновь окажусь среди так любимых мест моего детства, опять буду вдыхать пахучий воздух вековых лесов, укрывающих холмы и ущелья вокруг нашего замка, любоваться спокойной гладью озёр в окружении высоких утёсов и манящих горных вершин, наблюдать за полётом беркутов высоко-высоко в небесах и слушать завораживающее вечернее пение девушек в Хилгай на мелодичном гэльском наречии, которое вызывает столь тёплые воспоминания о моей бедной матушке… А печально мне оттого, что должен буду скоро расстаться с вами – самым мудрым и добрым человеком на этой земле, соблаговолившему так многому меня научить. К тому же мне кажется, что для вас, отец Лазариус, наше прощание едва ли представляется таким уж радостным событием. А посему я и чувствую себя как будто виноватым.
– Что поделаешь, Ронан! – сказал старик, не в силах подавить тяжкий вздох, после чего, однако, продолжил более ровным голосом: – Наше земное бытие состоит из встреч и расставаний, радостей и печалей. Оно подобно переменчивому небосводу, на котором то сияет солнце в безоблачной синеве, то тяжёлые тёмные тучи превращают день в ночь… Но пусть нас утешает сознание того, что праведные души снова встретятся на небесах и уже никогда не расстанутся… Однако ты заблуждаешься, ежели полагаешь, будто предстоящая наша разлука ввергнет меня в уныние, кое на самом деле происходит у людей от неверия в промысел божий и непокорства его воле. Напротив, моё сердце уже преисполнено благодарностью Вседержителю… и радостью за того, кому он сподобил меня передать большую часть моих скромных познаний; должно быть, так душа отца – хоть мне и неведомы истинные родительские чувства – проникается разом и ублаготворением за выполненный долг, и ощущением счастья в тот самый миг, когда он отправляет своё чадо в плавание по океану жизни, благоразумно снабдив его всем необходимым в этом долгом и полном опасностей путешествии… За это время я действительно сильно привязался к тебе и мою душу посетили земные чувства, неведомые ей дотоле, ибо должно мне признаться, что я полюбил тебя как родное дитя. Да простит меня лорд Бакьюхейд, что я дерзаю называть тебя своим сыном.
– Так ведь так оно и есть!- воскликнул молодой человек. – Вы же мой духовный отец… и к тому же учитель и наставник во многих науках. Ежели батюшка заботился о воспитании моего тела и укреплении духа, то вы взрастили мой разум и пестовали душу.
Монах, чуть смущённый восторженными юношескими дифирамбами, посмотрел с укором на молодого ученика и молвил наставительным тоном:
– Чти отца своего превыше прочих твоих учителей! ибо кто, как не он вдохнул в тебя изначально жизнь и направляет затем стопы твои по первым тропам бытия.
– Да-да, вы правы, святой отец, – согласился юноша. – Ведь именно благодаря моему родителю я познакомился с таким замечательным человеком, как вы, отец Лазариус. Мой батюшка сильно переменился после Пинки, на что, вероятно, повлияло его невероятное избавление от смерти в том кровавом месиве. И если до того он прочил мне пойти по его стопам и стать воителем, то после той, последней в его жизни битвы, он необъяснимым образом поменял свои намерения относительно моей будущности и отправил постигать науки под наставничеством учёнейшего из всех монахов.
– То была воля Божья, сын мой! – сказал монах и после краткого молчания задумчиво изрёк: – Ибо тебе не предначертано создателем участвовать в убиение себе подобных.
– Интересно, а какое же мне суждено предопределение, отец Лазариус? – поинтересовался юноша. – Расскажите, прошу вас. Всем в монастыре ведомо о ваших чудесных способностях, и о вашей прозорливости.
Старец лишь покачал головой и с кроткой улыбкой ответил:
– Братия чересчур преувеличивает и часто превратно истолковывает мои умения. Я всего-навсего монах, который, быть может, чуть более чем остальные прочёл мудрых книг. Но умоляю тебя, хоть ты пожалей мои седины и не причисляй твоего учителя к астрологам-шарлатанам, предсказывающим судьбу по движению планет. Подобные горе-прорицатели утверждают, что якобы regunt astra homines8. Тем самым они отвергают божественный промысел, ставя себя в один ряд с еретиками и богохульниками, и всего лишь обманывают простаков ради своей ненасытной корысти. А по моему разумению, Deus regat populum9. И именно к его помощи надо взывать смертному в мгновенья трудностей и отчаяния… Я же тебя обучал наукам истинным, кои даны Богом в помощь людям, наиболее усердным и прилежным, дабы те лучше познали окружающее нас бытие и смогли извлечь для себя и своих ближних из того пользу. Обогащай ум свой познаниями, но не для своего лишь удовольствия, а применяй их во благо людей, делись ими – иначе знания станут для тебя пустым бременем, или даже могут отравить твою душу, запалив в ней пламя порочных страстей.
– Это уж верно, как нелегко мне было науками овладевать, – подтвердил Ронан, пропуская последние слова старика, и возвёл очи горе, как бы призывая небеса в свидетели. – Вспомните-ка, как я корпел над умными книгами, что вы мне давали. А сколько чернил перевёл, бумаги перепортил и сколько перьев поломал ваш ученик, покуда не овладел и старинной латынью, и греческим и теперешними чужеземными языками!
– Умение понимать людей, в других землях рождённых, и доносить им твои мысли есть великое благо, отобранное Богом у людей за их дерзостное желание возвести башню до самых небес, как говорит нам Библия, – с благодушной назидательностью молвил монах.
– Как же! Я хорошо помню то место в писании, где говорится про вавилонское столпотворение, – согласился Ронан и спросил наивно, но с хитрым огоньком в глазах: – Так неужели же можно и в самом деле построить башню до самих небес? Вон в Стёрлинге, замок на какой высоченной скале стоит, а до неба ему все равно, что от кротовины до шпиля вот этого храма, – и юноша поднял взор на уходившую ввысь кровлю готического собора.
Лазариус улыбнулся в ответ:
– Нет, сын мой. В священном писании об этом написано иносказательно. А толковать надобно так: ибо люди дерзнули уподобиться самому Богу, за то и были наказаны; и теперь, дабы понимать друг друга, им надо приложить немало сил, чтобы овладеть чужестранными языками.
– Ну, языки некоторые я уже одолел, – довольно заявил юноша, радуясь, что своим ребяческим вопросом смог вызвать улыбку у старца. – А ещё уйму этих формул мудрёных математических, благодаря которым на земле всё счёту поддаётся!
– О, математика – одна из древнейших наук, которая была на высоком уровне уже в античные времена, – с почтением к этому предмету сказал Лазариус. – И хотя не всем она подвластна, но тебе Господь ниспослал великую к ней даровитость.
– А философские трактаты, а Scholasticus10, которые развивают быстроту мысли и гибкость мышления! – юноша продолжал увлечённо перечислять науки, которыми его обучал монах.
– Однако же не забывай, что они не только учат рассуждать правильно, но и показывают единение Бога и науки, и истинный путь к познанию, – наставительно заметил учёный монах. – Ибо высшее воззрение на главные виды наук может даваться лишь в солнечном свете божественной истины. Помни, сын мой, что наука, хоть направляется на общее, но предметом своим имеет не общие понятия сами по себе, а вещи, которые мыслятся при их посредстве, за исключением, быть может, логики. Не забудь, что scientia est assimilatio scientis ad rem scitam11. Думается мне, что теперь-то ты, верно, можешь считать себя одним из учёнейших школяров по эту сторону Твида.
– А всё благодаря вам, отец Лазариус!
– Тебе надлежит благодарить, прежде всего, Господа Бога нашего за то, что он удостоил тебя такими дарованиями и прилежанием в учёбе. Но остерегись возгордиться своими познаниями! – в голосе монах слышались нравоучительные нотки. – Именно по воле божией ныне тебе больше ведомо о том, как устроен мир и по каким неподвластным людям законам всё в нем проистекает.
– Это уж верно! Да я прежде, к примеру сказать, и не задумывался, насколько сложно устроено мироздание. Скажем, чем руководствуются небесные светила и звёзды, выбирая траекторию своего движения, почему солнце поднимается из-за лесистых холмов Очил12, а исчезает за дальними горами по ту сторону Лох-Ломонда13. Но благодаря вам я постиг научные труды Николаса Коперника и знаю теперь, что наша Земля вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как я прежде-то думал, да к тому же и вокруг своей оси!
– О, юноша! То действительно был один из самых великих манускриптов, который мне когда-либо приходилось переписывать!14 Позднее эти мысли были изъяснены великим астрономом в книгах De revolutionibus orbium coelestium, кои были приобретены благодаря щедрости нашего лорда-аббата и хранятся в монастырской библиотеке.
– Да я же их все и прочёл! По вашему доброму совету, – радостно воскликнул Ронан.
– Ну, в астрономии ты теперь силён, юноша, как, впрочем, и в других науках… Как же ты собираешься распорядиться дальше своей судьбою, Ронан, – поинтересовался монах и добавил: – и своими познаниями?
– Хм… – на мгновенье задумался юноша. – Всё зависит от воли моего непредсказуемого родителя. Однако я вряд ли смогу забыть всё то, над чем корпел долгие месяцы. У меня, право, нет никаких оснований сожалеть о проведённой здесь поре. И я должен быть только благодарен моему отцу, что он именно так распорядился моим временем, которое до того я проводил, как мне сейчас кажется, бездумно в беззаботных ребячьих забавах. А вы, отец Лазариус, как вы желаете провести… – Ронан смущённо запнулся.
– Ты хотел, вероятно, спросить, как я желаю провести последние годы моей жизни?… Да-да, не прячь твой сконфуженный взор. Ты всегда был честен и меня не обижает прямолинейность твоего вопроса, ибо она проистекает от чистоты твоей души… Мне и впрямь долженствует глядеть правде в глаза. Я уже стар в летах и слаб телом, чтобы продолжить моё пилигримство по миру. К тому же многие государства на континенте уже захлестнула волна реформистской ереси. Все устои религии рушатся, у людей, подстрекаемых антихристами-кальвинистами, поднимается рука на монастыри, церкви и на христианские святыни. И в этой стране тоже уже пробиваются и даже начинают плодоносить ростки зловредной ереси. А наши прелаты вместо наведения порядка в церковном устройстве, где царят стяжательство, алчность и праздность, когда монастыри, а особенно превратившиеся в землевладельцев аббаты богатеют, а народ недоумевает, видя как слова церковников расходятся с делом, – Лазариус тяжко вздохнул,- вместо борьбы с чумой изнутри дома своего, мы всё больше и больше посылаем еретиков, так называемых протестантов на костёр, – с возрастающей досадой продолжал речь обычно спокойный Лазариус. – Всё более число вельмож и сановников оставляют ложе католичества и используют еретические вероучения ради достижения своих честолюбивых и корыстных целей.
Ронан смотрел на старца с широко открытыми глазами, в которых читалось недоумение.
– Отец Лазариус, я никогда не слышал от вас подобные речи! – воскликнул он.
– Не хотел потому что я бередить твою душу беспокойными думами. Но лучше уж я подготовлю тебя к борьбе с искушениями сейчас. Дабы пройти по дороге жизни как настоящий благочестивый христианин и приверженец правоверной католической церкви, тебе должно научиться отделять зёрна от плевел…
Надо признаться, однако, что последние экзальтированные фразы Лазариуса молодой человек хотя и слушал с почтительным уважением, но они не нашли в его сердце заметного отклика. Ибо, во-первых, он находился ещё в том возрасте, когда жажда жизни и юношеский максимализм оставляют зачастую без должного внимания наставления умудрённых опытом стариков. А во-вторых, у Ронана абсолютно не было тяги к теологии, равно как и философии. Юноша любил и уважал Лазариуса, хотя иногда и пытался спорить с ним. Но то были скорее попытки развязать полемику, чтобы научиться выражать свои мысли в правильном обрамлении и последовательности. Монах только поощрял такие упражнения в логике и риторике. Но на теологические темы Ронан старался не перечить старому человеку, побывавшему за свою долгую жизнь не в одном монастыре Европы и обогащённому знанием не только Библии, которую он знал почти наизусть, но и трудами теологов и философов как того времени, так и античности.
Еще долго длилась прощальная беседа монаха Лазариуса и молодого Ронана в саду аббатства Пейсли в начале осени 1552 года от рождества Христова. Мы будем приводить здесь летоисчисление в привычном для читателя виде, хотя, по правде говоря, в то время было принято ещё часто вести счёт не от рождества Христова, а от момента сотворения мира, что встречается во многих хрониках и летописях того периода. В этом случае надо было бы сказать: «…начале осени 5516 года от сотворения мира».
Прошёл срок, чуть более трёх лет, о котором уславливался барон Бакьюхейд, отец Ронана с аббатом Гамильтоном, коего мы встретили в первой главе, и который давно уже был примасом шотландской церкви и звался архиепископ Сент-Эндрюс. Это время юноша провёл в пределах аббатства Пейсли, где он вёл аскетическую жизнь наравне с монахами-бенедиктинцами и лишь пару раз наведывался домой на денёк-другой. По много часов в день он проводил с пожилым монахом-наставником, который обучал его сначала чтению, письму и разговору – причём не на родном языке, ибо грамоте юноша был обучен ещё в детстве, но на иных, имевших хождение в Европе 16-го века языках, а также латыни и греческому, а потом и другим наукам. Почти всё было необычно и интересно для Ронана: метафизика, математика, логика, астрономия. Лишь философские идеи и теории давались ему с трудом. Видя отсутствие склонности у своего ученика к теологии и философии, монах-учитель не стал сильно углубляться в общие науки, более уделив времени точным наукам, стараясь как можно больше познаний передать юноше.
А учёность старца была воистину исключительная. Лазариус, побывавший в молодые свои годы в монастырях не одной страны и даже одно время читавший богословские лекции в парижском университете, был настоящей кладезью знаний, собранных по крупицам и впитавшихся его проницательным умом в обителях Франции, Италии и Священной империи – ибо в средневековье монастыри как раз и были сосредоточием огромного числа архивов, манускриптов и трактатов. Во времена, когда печатное дело стало едва зарождаться, именно монахи просиживали днями и ночами, переписывая различные рукописи и манускрипты. Обыкновенно это были теологические труды, но попадались среди них и трактаты о природе, астрологии, метафизике и алхимии. Именно такие работы были семенами, упавшими на плодотворную почву пытливого интеллекта Лазариуса.
Возраст, однако, не позволял ему более путешествовать, а пребывание в шумной и суетливой французской столице, в университете которой монах читал теологию, начало досаждать. Весёлая беззаботность молодых богословских школяров тяготила старящегося бенедиктинца, ибо таков был монашеский орден, к которому он принадлежал последнее время. Учёному монаху захотелось спокойного уединения вдали от сумятицы мирской жизни. На счастье, одним из студентов, посещавших богословские лекции Лазариуса в Сорбонне, был его соотечественник, Джон Гамильтон, представитель одного из влиятельнейших и богатейших семейств Шотландии. Монах, узнав о его рукоположении в священный сан и скором возвращении в шотландское королевство, поздравил своего ученика, благословив того на служение истинной религии, и смиренно испросил его благодетельной помощи в возращении на родину, где монах собирался провести остаток своей жизни. Джон Гамильтон, будучи уже аббатом Пейсли, хотя и находился во Франции, изучая теологию и познавая таинства других наук, благосклонно отнёсся к просьбе своего лектора-соотечественника. К тому же Гамильтон был не прочь украсить братию своей обители таким светочем богословия, каким являлся пожилой монах-лектор. Таким образом, Лазариус вернулся на родину и обосновался в аббатстве Пейсли к югу от реки Клайд и недалеко от города Глазго, где он был дружелюбно встречен остальной братией. Тем паче, что ему покровительствовал сам аббат, Джон Гамильтон. Но не только благоволение аббата к старому монаху вызывало уважение к нему со стороны остальных иноков. По большей части они полюбили его за добросердечие, простоту, глубокую мудрость и в то же время кротость нрава. А удивительную проницательность отца Лазариуса, которая была плодом долгой жизни и многолетних странствий, монахи суеверно принимали за данную ему богом прозорливость.
Ещё большее почитание среди братии ему принесли несколько удивительных случаев. Да и взаправду, порой трудно было поверить в вещи, казавшиеся сверхъестественными. Как, скажем, упавшая на землю отставшая от своей стаи обессиленная ласточка, после четверти часа пребывания в тёплых ладонях Лазариуса могла снова подняться ввысь и возобновить свой путь на юг? Почему на засохшем в монастырском саду кусте орешника после молитвы монаха снова распустились зёленые листья? Монахи смотрели на такие события с суеверным благоговением и вопрошали старца, как он это делает, на что Лазариус скромно ответствовал, что всё свершается по велению всемогущего Бога, и что сильная вера и душевная доброта могут творить чудеса. Недоумевающие иноки не могли поверить в такое бесхитростное истолкование Лазариусом этих случаев и сравнивали старца со святым Мунго, который, как известно, за много столетий до этого совершал подобные чудеса, кои даже запечатлены в гербе славного города Глазго.
Джон Гамильтон, аббат Пейсли, когда-то в свои нечастые посещения монастыря любил побеседовать с Лазариусом на богословские темы. Он чтил мудрого монаха и не раз советовался с ним по религиозным вопросам. Ибо в то время всё большее беспокойство вызывало у служителей святой церкви быстрое распространение реформаторских идей, считавшихся ими самой ужасной ересью. И Гамильтон не прочь был послушать мудрого старца, который был верным адептом католической веры, и посоветоваться с ним. Однако такие встречи становились всё реже и реже, поскольку со временем круговерть политической жизни настолько закрутила Джона Гамильтона и вознесла к таким вершинам власти, что возможностей часто посещать аббатство Пейсли уже не было, потому как большую часть времени ему приходилось проводить теперь при дворе и участвовать в решении многих государственных вопросов. Реформаторски настроенные дворяне и сановники считали очень важным привлечь Джона Гамильтона в свои ряды, для чего прикладывали немало усилий, и для этого даже переманили на свою сторону регента, дабы тот попытался «вразумить» брата. Но если иногда в душе аббата Пейсли и зарождались сомнения, и твёрдость его убеждений пошатывалась, то после встреч с Лазариусом он укреплялся в своей вере как никогда. Если протестантские проповедники были знамениты своим суровым красноречием, то старый монах своим негромким голосом мог логически доказать ошибочность реформаторства и утвердить Гамильтона в незыблемой правоте католической веры. После убиения кардинала Битона Джон Гамильтон сделался примасом шотландской церкви, и новые государственные и церковные заботы заставили его почти забыть о своём родном аббатстве, оставив его на попечение настоятеля, и облик Лазариуса мало-помалу был вытеснен из памяти этого государственного мужа.
О том, что примас помнит о его существовании, Лазариус узнал из письма, переданного ему отцом-настоятелем около трёх с половиной лет назад, в котором архиепископ просил своего старого учителя и советника заняться образованием некоего Ронана Лангдэйла, сына «верного сторонника единственно верной католической веры и истинного шотландского патриота» барона Бакьюхейда. Поначалу Лазариуса не очень привлекало предложение стать учителем молодого дворянина. Но когда настоятель по предписанию архиепископа освободил монаха от всех повинностей, кои заключались главным образом в ведении монастырской летописи, помощи настоятелю в написании разных писем и ведении счетоводной матрикулы, инок согласился.
Познакомившись с юношей, старому монаху нетрудно было тотчас увидеть открытость и прямолинейность его характера, представлявшего собой сплав прямо-таки детской наивности и любознательности с одной стороны, а с другой – развитости и живости мышления, хотя и не обременённого ещё глубокими познаниями и жизненным опытом. Неподдельные почтительность и уважение юноши, проявляемые им к старому монаху, пытливость ума и жажда новых знаний вызвали у Лазариуса симпатию. Не удивительно поэтому, что скоро он сильно привязался к своему ученику. А честность Ронана, его прямодушие ещё более укрепляли тёплые чувства, которые монах начинал испытывать к своему подопечному. Как бы то ни было, через полгода эти чувства переросли почти в отцовские, неведомые дотоле Лазариусу. Порой он сам удивлялся тому, что испытывала его душа по отношению к ученику. Старец искренне радовался успехам Ронана в обучении, а когда у того что-то не получалось, Лазариус терпеливо объяснял юноше тайны наук. Благо способности молодого Лангдэйла были таковы, что ему редко требовалось многократное повторение для усвоения урока.
Но время обучения Ронана неумолимо подходило к концу, и вот пришла пора расставания. Искренняя, связывавшая старика и юношу дружба, выражавшаяся внешне лишь в уважительной почтительности ученика и добросердечном наставничестве учителя, делали это событие печально-меланхоличным. Однако, если юношескому максимализму не трудно было справиться с этой грустью, хотя и невозможно было её утаить, то пожилому Лазариусу, невзирая на проведённую в странствиях жизнь с неизмеримым числом встреч и расставаний, было гораздо тяжелее справиться со своими чувствами… Но, правда, ему было легче их скрыть с помощью своей невозмутимой рассудительности и мудрой смиренности.
Долго ещё толковали учитель и ученик накануне их расставания.
Глава III
Подслушанный разговор

Когда солнце уже зашло, старец и юноша расстались и договорились встретиться после второй заутрени до трапезы дабы проститься, как то подобает между монахами-наставниками и их учениками в католических обителях. Пожелав друг другу спокойной ночи, собеседники разошлись: Ронан направился в свою небольшую, но уютную келью, чтобы провести там последнюю ночь в ставшем почти уже домом монастыре – в отличие от большинства братии, которые спали в общей опочивальне, разделённой лишь перегородками, у юноши была своя отдельная каморка; а Лазариус по своему обыкновению пошёл в южную часть обители, где в то время находилась богатая монастырская библиотека – у пожилого монаха давно вошло в обычай проводить время до начала первой заутрени в чтении старых манускриптов в этой редко посещаемой другими монахами в столь поздний час комнате.
Смиренное спокойствие Лазариуса было потревожено в тот день не только грустью прощания со своим учеником, но и известием о прибытии в монастырь архиепископа Сент-Эндрюса, который также де-юре был и аббатом Пейсли. Старцу передали, что архиепископ намеревался встретиться с ним на следующий день, после мессы и утренней трапезы. Лазариус с противоречивыми чувствами ожидал этой встречи – ещё с одним своим учеником, поднявшимся ныне к самым высотам духовной и государственной власти. «Встречу ли я того же стоического ревнителя веры? – спрашивал себя старец. – Или непоколебимость идей, заложенных в него моими наставлениями, отступила перед искушениями власти?» Таковы были беспокойные думы старца.
Монастырская библиотека занимала большую и когда-то просторную комнату с массивными полками вдоль стен и длинным дубовым столом посередине. Однако, со временем количество свитков, манускриптов и фолиантов множилось, равно как и появлялись новые полки и шкафы для их хранения. Длинный стол исчез, а комната превратилась в некий лабиринт шкафов и стеллажей, занимавших почти всё пространство зала. Для удобства монахов там и здесь были сделаны опускавшиеся полочки двух футов в длину с приставными табуретами, которые служили им своего рода маленькими столиками, где можно было бы развернуть книгу и поставить чернильницу с пером.
Вот за таким-то столиком в дальнем закутке большой, безлюдной и совершенно тёмной в этот час монастырской библиотеки и устроился Лазариус. Он как обычно зажёг свечу, нашёл на тяжёлых полках свой увесистый том, представлявший собой сочинения некоего таррагонского архиепископа, где автор давал толкование некоторым положениям римского права. Ибо, как мы видели, Лазариус был от природы любознателен. А посему, когда он обнаружил за несколько дней до этого странную церковную книгу, где речь шла вовсе не о теологии – хотя именно из-за своего автора, известного испанского католического прелата, она, вероятно, и оказалась в монастырской библиотеке, – а о юридических вопросах, старому монаху книга показалась занимательной, как всё новое и неизведанное кажется интересным любознательному интеллекту, и он увлёкся этой малоизвестной ему ещё темой.
Прошёл час, другой. Монах так был поглощён своим занятием, что не услышал, как тихо, на хорошо смазанных петлях отворилась дубовая дверь и в большую комнату библиотеки кто-то вошёл. Лишь только когда раздались приглушённые голоса и центр зала тускло озарился светом полуприкрытой лампы, Лазариус встрепенулся и хотел было выйти из своего угла, но, неожиданно услышав давно ему знакомый голос архиепископа Джона Гамильтона, неуверенно замер, не решаясь потревожить беседовавших, и даже опустил едва тлевшую лампаду на пол под крышку стола, на котором лежал его фолиант, дабы свет от неё не привлёк внимания вошедших.
– Джон, ты уверен, что здесь нас никто не может подслушать; и почему мы не могли остаться в твоих покоях? Ибо то, ради чего я пожертвовал покойной ночью за пологом тёплого ложа в замке Стёрлинга и рисковал сломать себе шею, путешествуя верхом по ночным дорогам, и о чём мне необходимо держать совет с тобой, не должно быть услышано ничьими ушами, иначе, клянусь небом и землёй, мне грозит великая опасность, – приглушённо произнёс незнакомый монаху голос.
– За это у тебя нет повода беспокоиться, Джеймс, – ответил известный старцу, хотя и много лет не слышанный им голос примаса, – потому как в этот час все монахи сего древнего аббатства мирно почивают на своих соломенных тюфяках. Думаю, на них они, утомлённые служением Господу Богу и своими труженическими повинностями, спят крепче и спокойнее, нежели ты в своей тёплой постели на мягкой перине и шёлковых простынях, мучимый беспокойными мыслями… Право, я не уверен, что к моим комнатам в этом монастыре нет какого-нибудь потайного хода, по которому недоброжелатель, ежели таковой найдётся в стенах Пейсли, может подкрасться и подслушать всё целиком, что там говорится. А посему я и привёл тебя в эту удалённую от келий и моих покоев библиотеку. Покуда не пробьёт колокол к заутрене, мы сможем беседовать совершенно спокойно. А ежели ты покинешь монастырь до зари, то никто вовсе и не узнает, что наше аббатство удостоилось чести принять в своих стенах такого славного сановника и, надеюсь, его покровителя… Полагаю, так было бы даже лучше, чтобы избежать кривотолков.
– Вероятно, ваше высокопреосвященство не рады принимать меня в нашем родовом аббатстве, коли желаете так быстро от меня избавиться! – саркастически прошептал тот, кого звали Джеймс. Фраза, произнесённая таким манером, чем-то напомнила затаившемуся монаху шипение змеи.
– Джеймс!… Как ты можешь так неправильно истолковывать мои слова, кои продиктованы сугубо беспокойством за твою безопасность. Ты же знаешь, какими тесными узами мы связаны и как многим я тебе обязан, – с упрёком молвил шотландский примас.
«Кто бы мог это быть, кого архиепископ называет Джеймсом, и кто так фамильярно позволяет себе говорить с примасом? Неужели…» – спросил себя монах. Смутная догадка мелькнула у него в голове.
– Ладно, ладно, не сердись. Ты всегда был осторожным и предусмотрительным, что помогало твоим планам умного и сдержанного политика, каким и подобает быть прелатам церкви, но, право, мешало моим замыслам как государственного деятеля и управителя королевства. Ты же знаешь, дорогой братец, что я всегда стараюсь прислушиваться к твоим мудрым советам…
– Хотя не всегда им следуешь, мой лорд, – сердито прозвучал ответ архиепископа Гамильтона.
После этих фраз у Лазариуса не осталось сомнений, что второй персоной являлся не кто иной как сам Джеймс Гамильтон, полукровный брат архиепископа, глава клана Гамильтонов, носивший титул герцога Шательро, который вот уже почти десять лет являлся регентом Шотландии, управляя страной вместо маленькой королевы Марии.
– К месту сказать, Джон, прими мои сердечные поздравления с благополучным исцелением от этой заразы, которая так долго мучила твоё тело, – то ли искренне, то ли из вежливости молвил шотландский управитель. – Я более не слышу ни хрипов, ни покашливания, ни отдышки в твоем дыхания. Какому чуду мы обязаны твоим здравием, дорогой брат?
– За сие небывалое выздоровление я благодарю Бога и синьора Кардано, за здравие которого наши монахи три года будут воссылать молитвы. С этой треклятой астмой не могли справиться придворные лекари ни Франции, ни германских княжеств – ты же помнишь мои страдания! Я молил сего прославленного итальянца прибыть в Шотландию и избавить меня от мучений, суля ему всё взамен, на что он благосклонно согласился и за два месяца совершил это чудо, свидетелем коего ты сейчас являешься. Право, мне обошлось это в круглую сумму – две тысячи крон золотом, но я желал бы платить даже больше, лишь бы он остался при шотландском дворе и был всегда под рукой. Впрочем, эти учёные мужи так своенравны… Но я всё едино буду вовеки благословлять его в своих молитвах, хоть он и предпочёл возвратиться на родину в Италию, нежели остаться при шотландском дворе.
– А мой счастливый братец Джон тоже надумал вернуться на вотчинные земли Гамильтонов в родовое аббатство, хе-хе,- слова регента казались весёлыми и беззаботными, но в голосе чувствовалось некое напряжение.
– Я дал обет перед святым распятием в случае исцеления посетить Пейсли и приложиться к мощам святого Мирина, моего покровителя на небесах, – с благоговением в голосе ответил архиепископ. – Лишь только я завершил работу над новым катехизисом и увидел первый отпечатанный экземпляр в Сент-Эндрюсе, я безотлагательно отправился сюда, дабы исполнить мой обет.
– Ха, узнаю моего брата! Благочестие и обязательность в выполнении своих должков – будь то перед Богом или перед людьми, – ехидно заметил Шательро. – Ну-ну. А не пора ли тебе подумать о святом долге перед своим фамильным именем!
– Мне не понятны твои намёки, Джеймс. Разве не к умножению репутации и возвеличиванию имени Гамильтон ведут моё служение истинной вере, радение за нашу страну и преданность её старинной королевской династии?
– Преданность королевской династии! Вот то-то и оно! – воскликнул регент, вероятно, забыв об осторожности. – Опомнись, Джон! Король умер, не оставив сына. А его дочка спасается во Франции при Сент-Жерменском дворе. Спасается от англичан и от своего народа! Ещё пару тройку лет и Мария Стюарт станет женой дофина, а потом и французской королевой. А наша страна превратиться в провинцию Франции, она и сейчас наводнена её войсками… или погрузится в пучину религиозных раздоров!
Лазариус рассудил, что куда благоразумней будет не выходить из своего убежища, нежели дать понять высоким сановникам, что простому монаху известно, по крайней мере, про недоброжелательное расположение главы клана Гамильтонов к Стюартам и маленькой королеве. Однако, ежели бы у старца хватило духу предстать перед высшими сановниками в тот миг и смиренно испросить прощения за невольно подслушанные несколько малозначащих фраз, то этого бы повествования не было вовсе, ибо, как оказалось в дальнейшем, то был наиважнейший момент, предопределивший судьбы как главных героев нашего рассказа, так и многих других известных и безызвестных истории людей. Говоря по правде, лучше бы старому монаху всё же было предстать перед братьями в тот момент, нежели стать невольным свидетелем того, что было сказано далее, ибо тогда не случилось бы многих несчастий. Но порой малозначащие поступки неизвестных людей невольно влияют на исторические события больше, чем действия сильных мира сего.
– Помилуй бог! – воскликнул примас. – Не стоит так неблагодарно забывать, Джеймс, за что ты удостоился титула герцога Шательро и земельных владений во Франции от короля этой страны, – напомнил брату архиепископ Сент-Эндрюс. – За то ведь, что успешно договорился с ним об этом браке!
– Ну, знаешь ли, то было так-таки политическое решение. Как-никак Франция завсегда была нашим верным союзником в извечной борьбе с южным соседом. И кабы не этот мудрый шаг, англичане продолжали бы всеми средствами домогаться Марии для своего юного короля… а в приданое ей всего её королевства. Согласись, что тогда нам не нужна была новая война с Англией, которую мы хотели избежать, но к несчастью не смогли этого сделать, – слова регента звучали убедительно и с ними трудно было не согласиться.
– Ну что ж, может ты и прав. В то время ты поступил верно – к выгоде Шотландии… впрочем, и своей тоже. Однако же, лучше уж пусть Мария будет суженой католического принца Франциска, чем протестантского короля Эдварда. И всё-таки, чем тебя ныне перестал устраивать этот союз, который, по мнению шотландского духовенства, укрепит пошатнувшиеся под напором урагана демонической ереси – кою эти нечестивцы зовут протестантизмом, – устои католической веры и нашу правоверную святую церковь?
– Укрепит, защитит… – красивые фразы, да и только, мой любезный Джон. Время-то бежит, да-да. За четыре года в стране много что переменилось. И прежде всего это… – как бы тебе сказать, – словом, реформистские идеи приобрели уже очень большое влияние среди шотландской знати и даже среди черни.
– Как! Ты называешь богоотступническую ересь реформистскими идеями?! – гневно воскликнул архиепископ.
– Тише, тише, не воспаляй свой дух, Джон, – попытался утихомирить своего брата Шательро. – Все знают тебя как благоразумного и рассудительного человека. К месту сказать, катехизис, про который ты обмолвился, может считаться – и тебе это ведомо, – как отступление от догм римской церкви, и он тоже был написан тобой под давлением необходимости. Ты же это прекрасно осознаёшь. Между прочим, среди реформатских дворян и сановников этот великий богословский труд уже получил большую хвалу и одобрение. Так что, перед тобой открываются все возможности достичь с ними ещё большего компромисса… особенно, если положишься на посредничество твоего верного брата.
– Достаточно мне будет уже этой сделки с ними! Слишком уж велико их влияние в парламенте и я не мог противиться. Однако же, вспомни, как они поступили с моим благодетелем, с кардиналом Битоном, как подбивают народ своими гнусными проповедями против вековых устоев всей нашей церкви. А что они сотворили с монастырями в Англии! Неужели ты хочешь, чтобы и нас постигла та же участь? Э, нет, ты глубоко заблуждаешься, коли считаешь, что можешь примирить примаса шотландской церкви с нечестивыми кальвинистами.
– Beati pacifici!15 – с притворной кротостью произнёс регент.
– А вы, мой лорд, опять, как видно, меняете цвета в угоду своим амбициям. Э-эх, дорогой Джеймс, когда-то ты, казалось, стал стойким приверженцем католической веры после твоего примирения с кардиналом Битоном. А нынче снова якшаешься с этими протестантами, – попрекнул родственника примас.
– Так ведь перемена обличия у нас потомственная черта. Вспомни, любезный брат, почему на верхней части герба Гамильтонов изображена пила, дуб перепиливающая. А?…
– Пожалуй, скоро на нашем гербе может появиться хамелеон – по причине переменчивости твоих убеждений, – или флюгер – благодаря твоей вилявой политике, – с укором ответил архиепископ. – А про геральдику клановую, так то, меня ещё, кажется, в утробе матери начали обучать, хоть она и не была в отличии от твоей законной супругой нашего родителя… Что ж, верно, два столетия назад, Джилберт Гамильтон, наш предок, спасаясь от преследования английского короля Эдварда Второго, со своим слугой действительно поменяли облик, переодевшись дровосеками и, таким образом, погоня промчалась мимо… Но ведь, то было необходимо ради спасения жизни, которой наш великий предок рисковал во имя благородных целей! А помнишь ли ты, что стало причиной того самого бегства сэра Джилберта?… Он восхвалял при английском дворе шотландского короля, славного Роберта Брюса за его мужество, честность и благородство!
– Как, Джон! Неужели ты упрекаешь своего кровного брата в отсутствии мужества?
– Свою доблесть ты проявил на бранном поле в битве у Пинки-клюх ровно пять лет тому назад, в субботу, которая с тех пор и зовётся «чёрной» среди нашего народа, – угрюмо сказал архиепископ.
Если бы Лазариус мог видеть регента, то заметил бы краску смущения на лице регента, когда тот, оправдываясь, отвечал:
– По правде говоря, у Сомерсета было больше пушек, пеших ратников и всадников. И кто же знал, что английский флот подойдёт так близко к берегу и начнёт по нам пальбу с моря? Что я мог поделать? И всё же я не бежал с поля битвы!
– Да, ты тактично отступил… в первых рядах. Даже мои монахи сражались до последней капли крови, и сотни иноков погибли, защищая Шотландию и её веру, – сурово молвил примас.
– Джеймс, любезный брат мой, я прибыл к тебе, в конце концов, не для обсуждения моих полководческих достоинств или недостатков. Тебе же ведомо, как мне ненавистны эти склоки, коими так изобилует придворная жизнь, и мне тем паче не хочется искать ссоры с тобой, – голос регента стал ещё более мягким и вкрадчивым. – Напротив, я всей душой ищу понимания и содействия моего дражайшего брата и главы шотландской церкви.
– Если ты снова желаешь убедить меня отступиться от католической веры, то, видит Бог, я буду стоек к подобным сатанинским искушениям! – архиепископ Сент-Эндрюс, казалось, был непреклонен как скала.
– Но послушай, Джон, ведь династия Стюартов стала неспособной управлять страной. Иаков не оставил наследников мужеского пола, по крайней мере, законных. А юная Мария вскоре сочетается браком с дофином и непременно останется во Франции. Быть французской королевой, надо думать, более привлекательно, чем править в Шотландии. Увы, – Шательро вздохнул. – А ведь нашей стране в это тяжёлое время нужен монарх, который сможет примирить враждующих католиков и реформистов, найти компромисс между ними.
– Уж не такой ли как Джеймс Гамильтон, желаешь ты сказать? – с затаённой тревогой спросил шотландский примас, начинавший понимать, куда клонит его брат.
– Отрадно осознавать, что мой братец такой прозорливый. Тебе же ведомо – да и всей стране про то известно, – что я, то есть мы, конечно, – правнуки короля Иакова Второго и что после Марии Стюарт первый наследник шотландского трона – это я, сэр Джеймс Гамильтон, герцог Шательро, шотландский лорд, регент страны, член Тайного совета и так далее…
– То верно, что ты уже два десятка лет являешься первым наследником на шотландский трон. Но видно, Богу не угодно, чтобы ты на него когда-либо взошёл, – серьёзным тоном рассудил архиепископ.
– Может статься, не угодно твоему богу, дорогой Джон, – богу, коего поддерживает римский папа и вся его огромная рать кардиналов и епископов. А реформисты будут рады сместить католическую династию и возвести на трон протестантского короля, коим я мог бы с успехом стать. Поверь мне, брат, мы так сможем преобразовать твою церковь, что и протестантские лидеры будут довольны, и твоя власть как шотландского примаса останется, – уверено говорил регент. – On a menage la chevre et le chou16, так, кажется, говорят во Франции, хе-хе-хе. Право сказать, я уж немало размышлял, как этого добиться. Мы, кхе, то есть я считаю этот путь наилучшим для шотландского королевства.
– «Мы!» Так я и думал. Ибо всегда знал, что мой брат не обладает качествами для ведения своей независимой политики, а всего-то лишь как фигура на шахматной доске, которую игроки двигают то в одну сторону, то в другую. Ты мнишь, тебе позволят стать самодержавным королём – таким, какими были Роберт Брюс и Стюарты? Нет! Все эти лжедрузья-еретики пользуются твоими раздутыми амбициями за тем, чтобы насадить свою, как ты её называешь «реформистскую» религию, да поживиться церковным добром. К тому же, как вы сможете низложить законную королеву, пусть ещё девочку и вдали от родины? Да и посмеете ли? Как ты сможешь преодолеть влияние королевы-матери Мари де Гиз? Скорее она, с помощью многочисленных своих сторонников как здесь, так и во Франции, отнимет у тебя регентство, нежели позволит тебе и твоим приспешникам-протестантам свергнуть законную королеву.
– Благодарю ваше высокопреосвященство за столь лестный отзыв о моих способностях, – надменно сказал Шательро, пытаясь скрыть свою досаду, – однако, смею заметить, как цветок распускается с пришествием весны, так и дарованья могут расцветать с приходом величия. Если же говорить о смене династии, то для меня спокойствие и умиротворение в королевстве превыше всего, и мы уверены, что открытых вооружённых стычек можно будет избежать, если… лишить армию противника её генерала. Королева-мать, что и говорить, мне давно порядком уже надоела, – продолжал доверительным тоном регент. – Хотя Мари и пытается прятать свою ненависть к твоему брату под личиной холодной вежливости, но как можно трактовать её постоянные дознания про казённые фонды, кои якобы уплыли сквозь мои пальцы, её непрестанные укоры о давнишней неудаче при Пинки? Как?… Да она попросту хочет уничтожить мой авторитет. Мари жаждет подорвать и уничижить моё влияние на лордов и самой захватить регентство. Это же ясно как божий день! Клянусь жизнью, она так же коварна, как её братцы Гизы во Франции! Но мы её опередим и поставим ей мат… А как?
Управитель Шотландии набрал воздуха, сделал паузу и продолжил ещё более приглушённым голосом:
– Последнее время, как тебе ведомо, я как регент, и королева-мать часто вместе разъезжаем по стране, пытаясь уладить многочисленные конфликты между нашей знатью, утихомирить междоусобицы и привнести спокойствие в умонастроения жителей королевства. Так вот и сейчас из Стёрлинга наш путь лежит в далёкий Перт. Знаешь ли, дорога, случается, бывает тяжела и небезопасна. В пути могут произойти всякие прискорбные неприятности, наипаче, если, э… приложить некоторые усилия… – сделал недвусмысленную паузу Шательро. – А при французском дворе, где сейчас лелеют нашу юную королеву, давно вошло в моду подсыпать зелье в пищу монархов. Вспомни, что случилось полтора года назад, в каком ужасе находилась, будучи во Франции, несчастная королева-мать, когда её дочку чуть было не отравили. А какой удар был для бедной женщины, – с лицемерной ноткой в голосе продолжал Джеймс Гамильтон, – когда пару месяцев спустя представился ее первенец Фрэнсис. Несчастная мать… Что ж поделать! C’est la vie, как говорят наши друзья французы.
– Я вижу теперь, что кроется за вашими фарисейскими речами, герцог Шательро, – глухим мрачным голосом молвил архиепископ. – В моём лице вам не найти сообщника!… Не гневи Бога, Джеймс! Замышляя такое злодейство против других, ты навлечёшь возмездие высшего вседержителя на себя самого! Хочется надеяться, что ты не был замешан в той попытке убиения маленькой Марии. Ведь твой сын сам находится в Сент-Жермене в её свите и отвечает за её охрану. Как бы удар, который ты сейчас так нещадно задумываешь для королевы – для этого прелестного ребёнка, – не обрушился на твоего невинного мальчика как божья кара за грехи родителя! Как архиепископ я не дозволяю тебе свершать такие богопротивные гнусности! – гневно воскликнул примас. – Подумай о чести нашего рода!
– Тише-тише, Джон. По крайней мере, я надеюсь, что как брат ты оставишь наш разговор в тайне. Вашему высокопреосвященству следует учесть, что ежели погибну я, то буря настигнет весь род Гамильтонов, включая твою мистрис и её бастардов, – прошипел регент. – Как видишь, ты тоже не такой уж святоша, коим пытаешься казаться. Кажется, кто-то из древних сказал: «Ne sit ancillae tibi amor pudori»17. Хе-хе-хе… Так что я могу передать лидерам реформистской партии? Имей в виду, что они настроены очень решительно. И ежели ты не пожелаешь договориться с ними, это их не остановит. Джеймс, зачем идти навстречу урагану и плыть против потока? Не лучше ли повернуть руль и развернуть мачты таким образом, чтобы сила течения и наполненные ветром паруса несли твой корабль вперёд к величию, процветанию и могуществу? Готово ли ваше высокопреосвященство обсуждать с нами смену монаршей династии и пути безболезненного переустройства шотландской церкви?…
В комнате наступила мёртвая тишина. Шательро ждал ответа своего брата. Архиепископ Сент-Эндрюс тем временем впал в глубокое раздумье. Религиозный стоицизм боролся в нём с увещаниями и уговорами брата, а душа его находилась в смятении.
– Ах, если бы мой старый мудрый наставник Лазариус слышал эти речи, он наверняка стал бы презирать меня за малодушие и проявление сомнений там, где надо быть твёрдым и непоколебимым, – забывшись, вслух промолвил архиепископ промелькнувшую у него в голове мысль.
– Лазариус? Кто это такой? – тревожно встрепенулся регент. – Джеймс, дорогой, умоляю тебя, помни, что наш сокровенный разговор должен остаться совершенной тайной для непосвящённых, ибо от этого зависят моя и твоя жизни. Узнай Мари, о чём мы разговаривали, у неё будет повод обвинить нас обоих в государственной измене и отправить на эшафот даже, невзирая на твой церковный сан.
Почти целый ещё час ошеломлённый Лазариус сдерживал дыхание, дабы оно не мешало ему расслышать приглушённые голоса братьев, один из которых пытался как будто напрочь разумными доводами склонить на свою сторону строптивого родственника, который, казалось, начинал было прислушиваться к витиеватым речам брата, но затем преданность архиепископа римско-католической церкви снова брала своё. И вновь Джеймс начинал убеждать брата, приводить убедительные аргументы в пользу своих планов, описывать грозящие всем беды, не согласись архиепископ с ними. А Сент-Эндрюс то начинал было прислушиваться к словам регента, то опять победа была на стороне его совести. Одним словом, в душе архиепископа в этот момент шла настоящая война между предложениями брата, кровными узами и своими убеждениями. И, похоже, в ту ночь в этой войне не определился ни победитель, ни побеждённый. Но Джеймс Гамильтон и не рассчитывал так скоро преодолеть неразумное упрямство родственника. Он был доволен тем, что сумел, как ему резонно казалось, заронить семена сомнения в душе архиепископа, и теперь оставалось лишь поливать иногда почву, дабы скорее появились всходы…
Лишь когда тихо скрипнула закрывшаяся за Гамильтонами дверь, старый монах опомнился и смог осознать всё здесь им услышанное, и пришёл в ужас, как от мерзости этого разговора, так и от своего греховного поведения. Он корил себя за малодушие, которое заставило его остаться в своём укрытии и тем самым стать свидетелем чужой беседы и обладателем страшенной тайны, и за излишнее любопытство, не позволившее ему заткнуть уши, дабы не слышать чужих секретов. И в то же время велики были его страдания от осознания или, скорее, от чувствования грядущего низвержения в этой стране католической веры, кою Лазариус считал единственно верной. Из задумчивого оцепенения его вывел монастырский колокол, зовущий к заутрене…
В эту ночь Лазариус лёг спать с тяжёлым сердцем, долго не мог заснуть и решил утром обязательно исповедоваться.
Глава IV
Тучи сгущаются

После второй заутрени, когда утро невидимо перерастало уже в день, во внутреннем дворе монастыря Ронан в простой дорожной одежде ласково поглаживал гриву своего нетерпеливо бьющего копытом скакуна, соскучившегося в монастырской конюшне по вольному ветру пустошей и холмов. Это был резвый испанский жеребец по имени Идальго, давний спутник юношеских забав Ронана. Наверное, не было ни одной мало-мальски проезжей дороги в Стёрлингшире, на которой подковы Идальго не оставили своих отпечатков. Ибо до вступления под кров монастыря, хотя и не в качестве послушника, а как школяра, физические упражнения, занятия с оружием, охота, странствования по холмам и торфяникам в окружности десятков миль вокруг своего замка – как верхом, так и на своих крепких ногах, – были излюбленным занятием Ронана, которые к тому же поощрялись его родителем, бароном Бакьюхейда. За своим конём юноша ухаживал самолично, не доверяя монахам опеку над ним, и иногда, дабы не дать Идальго застояться, выводил жеребца за ворота и галопировал на нём две-три мили, вызывая восхищённые взоры местных девушек и завистливые взгляды их парней. Вдобавок, ещё в остававшееся от занятий время Ронан, несмотря на своё благородное происхождение, не чурался помогать – притом по собственному желанию – монахам-бенедиктинцам в делах их огромного хозяйства, будь то заготовка дров и торфа для топки печей и каминов или починка амбаров для хранения зерна и прочих обильных съестных запасов. Таким манером за время пребывания в аббатстве Пейсли хозяин не давал размякнуть ни своему натренированному телу, ни сильным мышцам своего скакуна. Да и братия относились к нему с подобающим уважением, упрочённому, вдобавок, и благосклонностью к юноше праведного Лазариуса. Такая почтительность лишена была при этом той скрытой неприязни, которую люди низшего сословия зачастую испытывают к тем, кто в силу лишь своего рождения поставлен судьбою выше их, ибо, как мы видели, характер юноши был спокойный и незлобный, без каких-либо признаков чванства своим благородным происхождением…
Ронан стоял и размышлял, какими словами на прощание выразить благодарность своему наставнику и утешить старца, ибо молодой человек сердцем чувствовал, какая грусть накануне пряталась за внешней смиренностью его старого учителя. В этот момент из дверей аббатского собора вышел Лазариус; в лице старца красок было едва ли больше чем в его седой бороде, голова поникла, а потерянный взгляд был направлен в землю.
Едва его завидев, юноша сразу смекнул, что с монахом произошло что-то необычайно неприятное. За все месяцы и годы пребывания в аббатстве он ни разу ещё не видел всегда спокойного и рассудительного Лазариуса таким расстроенным.
– Что случилось, мой дорогой наставник, так что на вас даже лица нет? – с непритворным участием поинтересовался Ронан, искренне обеспокоенный такой резкой переменой в настроении своего учителя.
Старец поднял голову, взглянул на юношу добрыми глазами, тень слабой улыбки промелькнула на его лице, но тут же уступила место так несвойственной ему скорбной суровости, которую он поспешил спрятать под капюшоном.
– Не гоже здесь посреди двора говорить, – удручённо отвечал монах. – Пойдём-ка, провожу я тебя за монастырские ворота, там мы и попрощаемся…
Погружённый в свои тяжёлые мысли Лазариус не проронил более ни слова, пока они не оказались за стенами аббатства. Небо с утра хмурилось плотными облаками, в воздухе зависли мелкие капельки измороси. Монах, не снимая капюшона с головы, кратко промолвил:
– Я благодарю бога за твой скорый отъезд, юноша.
– ?? – Ронан удивлённо поднял брови при мысли, что ещё вечером Лазариус с трудом скрывал грусть расставания с учеником, а сейчас он был этому рад!
– О! Мне понятно твоё удивление, Ронан, – негромко и оглядываясь, как будто боявшись, что их кто-то может услышать, продолжал Лазариус. – Не допусти Господь тебе слышать то, чему я, грешник, не закрыл свои нечестивые уши, кои, ежели и не были таковыми, но теперь они уж точно перепачканы грязью, которой внемли… Страшные, безжалостные и греховные словеса смутили мою душу; а злокозненность того, кого мне следовало бы чтить, и слабодушие того, кого я должен жаловать, родили в моём сердце глубокую печаль. Одолеваемый тяжкими думами провёл я бессонную ночь; и даже покаяние исповеди не сняло тяжкого камня с моей души. Неразъяснимое предчувствие… или даже ожидание неведомой роковой опасности продолжает угнетать мой разум. Я старый человек и уж не боюсь смерти, но страшусь дьявола, который может принимать любые обличия, одно из которых сегодня ночью предстало передо мной в образе… Но нет, ни слова боле… Вот почему я чувствую облегчение оттого, что скоро ты будешь под кровом своего дома, вдали от этого места, которое даже мощи святого Мирина не могут уберечь от происков врага рода человеческого.
– Да что же такое вы услышали, дорогой наставник, что так ужасно смутило ваш разум? – озабоченно спросил юноша. – Может статься, я смогу облегчить ваши душевные муки?
Лазариус помолчал, как будто колеблясь, затем ответил с мрачной торжественностью:
– Ежели лукавый и сумел вложить тлетворные слова в мои уши, то ему не удастся, чтобы отрава та вышла через мои уста!
– И всё же, учитель, – допытывался юноша, – вам не стоит опасаться, что ядовитая желчь разольётся в моей душе. Я скромно надеюсь, что вам это ведомо.
– Увы, я беспокоюсь не за твою молодую душу, кою постарался упрочить так, дабы люцифер не похитил её, а опасаюсь я за твою бренную плоть, защитить каковую не в моих силах… Я внушал тебе непрерывно, что scientia potentia est18. Однако же днесь скажу по-другому: Pariculum in scienta quoque19.
Как ни старался Ронан как из желания утешить старика, так и в силу своего природного любопытства допытаться у Лазариуса о сути слышанных им худых слов и о личностях, их произносивших, монах упрямо отказывался сообщить об этом. В конце концов, молодой человек оставил свои попытки что-то выведать и постарался для того, чтобы ободрить старика, сказать ему несколько тёплых и простых фраз. Их незатейливая искренность чуть смягчила умонастроение Лазариуса, на лике которого хмурая угрюмость сменилась печальной улыбкой…
Когда последние прощальные фразы были произнесены, Ронан преклонил колени перед старцем и тот осенил его крестным знамением со словами «Да прибудет с тобой благословение господне!», после чего прошептал неслышно краткую молитву и… отвернулся с поникшей головой.
Ронан вскочил в седло и с тяжёлым сердцем, обеспокоенный происшедшим со своим учителем, направил коня на восток, в сторону города Глазго. Он несколько раз оборачивался, пока аббатство не скрылось из виду. А Лазариус ещё долго стоял и грустно смотрел на дорогу, за неровностями и изгибами которой скрылся юноша…
Оставим, однако, на время унесённого вдаль быстрым скакуном Ронана и опечаленного старого монаха и вернёмся в монастырь, где нам пришло время кратко познакомиться с настоятелем этого почтенного заведения. Все люди не лишены каких-либо недостатков, за всеми водятся те или иные грешки. Мы надеемся, что читатель помнит слова из Евангелие от Иоанна (гл.8, ст.7): «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в неё камень». Так и настоятель аббатства, исповедовавший утром Лазариуса, терзался искусительной мыслию. С покаянных слов старого монаха он понял, что тот так или иначе подслушал ночью беседу двух важных персон, одной из которых был сам архиепископ. Желание завоевать расположение последнего боролось в душе отца-настоятеля с табу о тайне исповеди. Однако душевная борьба прекратилась – и не в пользу хранения печати молчания, – как только настоятель подумал о перспективах стать аббатом где-нибудь в Келсо или Мелроузе20. Приор был человеком среднего возраста, бодрым в движении и расчётливым в мыслях, послушным и даже угодливым перед высшими церковными чинами и требовательным к рядовым монахам; он хорошо ладил с управляющими Гамильтонов, на землях которых стояло аббатство, и был строг к монастырским ленникам-крестьянам. А потому неудивительно, что он чаял свершить восхождение в церковной иерархии. А пока он совершил лишь более простой подъём – по лестнице в апартаменты, где пребывал архиепископ Сент-Эндрюс.
Примас принял настоятеля с тенью улыбки на губах – как настоящий политик он умел прятать свои истинные чувства. Джон Гамильтон, он же аббат Пейсли, он же архиепископ Сент-Эндрюс и примас шотландской церкви был человеком лет сорока, полным жизненных сил, сведущим в богословии и других науках, рассудительным, старавшимся быть добропорядочным и чем-то даже совестливый. Читатель уже имел возможность познакомиться с ним вкратце в предыдущей главе и, должно быть, понял, что от намерения быть безгрешным и незапятнанным до его осуществления разверзается такая огромная пропасть, преодолеть которую могут лишь избранные праведники, среди которых, увы, не было архиепископа Джеймса Гамильтона, как не может быть человека, занимающего важные государственные посты и обладающего значительной властью.
Должность аббата Пейсли он получил в четырнадцать лет из рук молодого шотландского короля Иакова Пятого. Да, в те времена такое было возможно, когда церковные посты раздавались королём так же, как угодья и поместья, хотя, по правде сказать, главным обстоятельством в этом деле было то, что монастырь находился на землях Гамильтонов и так или иначе был подконтролен этой влиятельной шотландской семье. Так что, король и не мог поступить иначе. Джон Гамильтон обучался сначала в университете Глазго, а затем в Сорбонне в Париже, где он и был рукоположен в священнический сан, после чего аббат вернулся в Шотландию. Однако прелаты в те времена занимали ещё и гражданские должности. Так, благодаря протекции своего брата Джеймса Гамильтона, бывшим тогда шотландским регентом, он стал главным казначеем страны и хранителем малой королевской печати, а также лордом – членом шотландского парламента, превратившись в одного из виднейших вельмож и политиков своего времени. Протестанты во главе с Ноксом хотели перетянуть аббата на свою сторону, но Джон Гамильтон оставался верным адептом католичества и сторонником политики кардинала Битона, который благоволил к своему молодому приверженцу. Мы уже упоминали, что именно общение с Лазариусом в те годы укрепляло стойкость его духа. Став близким сподвижником Битона и благодаря своему религиозному стоицизму и мудрой политике, в 1544 году Джон Гамильтон занял вторую по значимости должность в иерархии шотландской церкви, став епископом Данкелда. Управление же аббатством Пейсли постепенно целиком перешло на настоятеля. После захвата дворянами-реформаторами замка в Сент-Эндрюсе в 1546 году и злодейского убийства ими кардинала Битона Джон Гамильтон наследовал его чин и стал архиепископом Шотландии. Главной целью нового примаса было защитить устои католицизма в стране и, несомненно, свои позиции и власть, которые обеспечивали его благосостояние. И если в последнем его устремления совпадали полностью с желаниями его кровного брата Джеймса, то, что касается религии, тут у Гамильтонов нередко возникали разногласия. Будучи по натуре человеком жизнерадостным, не брезговал архиепископ, как свидетельствуют записи, и мирскими утехами. В момент нашего повествования он как никогда был полон сил и стремлений…
Перед приходом монастырского приора архиепископ с видом отрешённости пристально смотрел на догорающие угольки и о чём-то размышлял. Нетрудно догадаться, что мысли его были о тех сложностях, которые неожиданно возникали перед ним из-за честолюбивых замыслов его брата регента.
– Ах, это ты, отец-настоятель! – примас взглянул на втиснувшуюся в неширокую дверь высокую и крепко сложенную фигуру монастырского начальника, на лице которого застыло выражение угодливой почтительности, и подумал: «Удивительно как у этого человека таким странным образом сочетаются характеристики отличного военного командира и свойства лакея».
– Как прошла заутреня? Должен, впрочем, сразу тебе сообщить, что меня сегодня не интересуют твои хозяйственные отчёты. Я полностью доверяю способностям нашего наместника управлять аббатством в моё отсутствие, которое государственные и церковные заботы делают подчас таким продолжительным, – промолвил архиепископ с желанием поскорее избавиться от настоятеля. Ему хотелось побыть одному, чтобы ещё раз продумать в голове разговор с братом и поразмыслить, что ему сулит чудовищный план регента и какие опасности ждут Гамильтонов. А ещё паче архиепископа мучила совесть, что его убеждения и религиозный стоицизм оказались на деле не настолько прочными, чтобы не позволить пагубным сомнениям и искушениям закрасться в его душу. Вот это-то и лишало его спокойствия духа. К тому же примас обещал встретиться в этот день со своим старым учителем Лазариусом и не знал сейчас, как после ночной беседы с братом он будет глядеть в чистые и всеведущие глаза старца.
– С вашего позволения не о делах вверенного мне монастыря я хотел говорить. А есть у меня другое известие, которое, вероятно, может оказаться неприятным для вашего высокопреосвященства, – заискивающе молвил приор.
– Что такое, отец-настоятель? Неужели в моем аббатстве могут быть какие-либо неприятности, которые заслуживают того, чтобы быть упомянутыми высшему прелату королевства? Опять не хватило дров и ты боишься, что мой камин погаснет, или кто-то из монахов провинился, не ночевав в аббатстве? А может у тебя возникли разногласия с управителями Гамильтонов по поводу монастырских угодий или размера податей? Я уверен, что ты, отец-настоятель, можешь самостоятельно без моего вмешательства справиться с этими затруднениями, не так ли?
– Ох, ваше высокопреосвященство! Как я обмолвился, речь идёт не о внутренних делах нашей обители, да храни её святой Мирен21. Мне только что исповедовался брат Лазариус и … – настоятель запнулся, не решаясь продолжить.
– А, этот учёнейший старец, который вместе со мной прибыл из Франции и коего я желал сегодня принять у себя, – воскликнул примас. – Ты, надеюсь, не забыл про мою вчерашнюю просьбу сообщить Лазариусу, дабы после мессы он пришёл ко мне? По моему разумению, нам должно гордиться, что в аббатстве Пейсли не гаснет свеча образованности и мудрости!
– Разумеется, я не посмел бы не исполнить повеление вашего высокопреосвященства и передал давеча благочестивому старцу ваше изволение, кое он встретил с почтением и даже, как мне показалось, с радостью, – продолжал раболепным тоном приор. – И он, безусловно, к вам придёт скоро, ежели вы, конечно, соизволите его принять.
– Ну конечно, я с ним встречусь – со своим старым учителем, – сказал с уверенностью архиепископ. – Сколько уж времени я с ним не беседовал tete-a-tete!
– Однако, если бы вашему высокопреосвященству было известно о некоторых последних событиях, вы могли бы поменять своё решение… – сделал паузу настоятель.
– Помилуй бог! Отчего же, интересно, я должен отказываться от встречи с благочестивым Лазариусом? – озадаченно спросил архиепископ и продолжил с раздражением: – Вы говорите какими-то недомолвками, сэр настоятель.
– С позволения вашего высокопреосвященства, нынче утром я исповедовал брата Лазариуса, и то, о чём он мне поведал, сильно касается архиепископа Сент-Эндрюса, – понизил голос приор и продолжал доверительным тоном: – Мне известно, что я нарушаю тайну исповеди – и это очень терзает мою душу, – но совершить этот грех я исключительно могу ради блага вашего высокопреосвященства, а в вашем лице – и ради всей нашей церкви. Надеюсь, что мне это зачтётся, – вкрадчиво, с надеждой в голосе произнёс настоятель.
– Смотри, однако, отец настоятель, ежели это какая-нибудь ахинея из области алхимии – я знаю, что, к примеру, уважаемый синьор Кардано ей очень заражён, может, и Лазариус увлёкся подобными опытами, – или пожилой монах вспомнил, что когда-то давным-давно неправильно перевёл для меня пару фраз с иудейского либо арабского, клянусь святым Миреном, ты рискуешь получить от меня епитимью за беспокойство моей особы такими пустяками, – архиепископ начал уже раздражаться навязчивостью настоятеля.
– Я только хотел сказать – и не более того, – что благочестивый монах был этой ночью в библиотеке и…, – смиренно с опущенной головой произнёс настоятель и замолк, внимательно всматриваясь исподлобья в лицо Сент-Эндрюса, на котором утренний румянец постепенно уступил место мертвенной бледности.
«А дело серьёзнее, чем я предполагал!» – подумал про себя настоятель. Он ждал дальнейшей реакции примаса.
– … и что? что он рассказал про эту беседу? – запинающимся голосом медленно спросил Джон Гамильтон, после чего, спохватившись, поправился: – То есть, я хотел спросить, что же его так смутило в библиотеке нынче ночью?
– По правде говоря, я не придал его словам серьёзного значения, ваше высокопреосвященство. Он лишь сказал, что по своему нерадению подслушал разговор, каковой не имел права слышать, и что упомянутая беседа вызвала в его душе чувства, кои не должно иметь христианину, а тем более монаху…
Архиепископ нахмурился и надолго задумался. Его голова усиленно работала, пытаясь уразуметь, какую угрозу несёт проникновение Лазариуса в тайные планы его брата. Вслед за этим, однако, душу примаса охватило смущение и чувство стыда, когда он осознал, что его старый учитель стал свидетелем малодушных колебаний и в некотором смысле даже отступничества ученика. Теперь примас уж точно был внутренне не в состоянии увидеться с Лазариусом и встретить его суровый проницательный взгляд.
«А вдруг правдивость и прямота старца заставят его поделиться этими сведениями с кем-либо, – подумал архиепископ Сент-Эндрюс. – Сколь мне известно, он никогда не искал выгоду от своих знаний и не продавал собственных убеждений. А посему его прямоте и чистосердечию не станет преградой возможность навлечения вреда – и какого вреда! – клану Гамильтонов, и мне в том числе. Вот уж, право, куда могут привести честолюбивые планы моего братца! И почему вдруг Лазариус оказался посреди ночи в монастырской библиотеке?… Видимо господь таким путем желает воспрепятствовать свершению богопротивных дел и предупредить своего слугу о скверности поведения… Мне сегодня же надо написать Джеймсу, что я наотрез отказываюсь принимать участие в его греховных планах и не собираюсь иметь что-либо общее с еретиками!»
Затем мысли примаса снова вернулись к Лазариусу: «Но как же мне поступить со старцем? Надо бы изъяснить ему, что произошло, и что я буду действовать совсем не так, как убеждал меня Джеймс, что я воспрепятствую его нечестивым помыслам. Я буду просить благочестивого старца сохранить всё в тайне! Да, да! Именно так я и поступлю!… Однако же я не могу встретиться с ним сегодня и посмотреть ему в лицо. Лучше уж мне быть сожжённым на костре как поганый еретик, чем сгореть от стыда перед праведным монахом. Разумеется, Лазариуса после прошедшей ночи обуревают гневные мысли. Ему и мне надобно переждать нынешний всплеск страстей и эмоций. А когда разум его успокоится, я подготовлюсь и встречу его как подобает, и сообщу, что то была мимолетная моя слабость и что мне удалось пресечь злые намерения регента и убедить того в ошибочности его устремлений. Правильно, так оно будет лучше. Но всё-таки, прежде мне надобно урезонить моего брата. А ко всему прочему необходимо быть твёрдо уверенным, что до той поры Лазариус никому ничего не скажет».
Мы не можем утверждать, что именно таковы были порядок мыслей примаса и их формулировка, но суть их могла быть именно таковой. Подобные размышления, будоражившиеся смущённый ум, в действительности заняли у архиепископа гораздо более времени, нежели у читателя для прочтения последней страницы, и потому настоятель решил нарушить тишину:
– Кхе-кхе…
Архиепископ Гамильтон пришёл в себя, его взгляд упал на приора и, пытаясь замаскировать своё волнение, он промолвил с притворной лёгкостью:
– Ах, да, отец-настоятель, мне сегодня же надобно отбыть в Сент-Эндрюс, где на днях собирается немало знатных дворян поупражняться в игре в гоуф22. Стоило мне позволить использовать для этого развлечения обширные зелёные лужайки тамошнего аббатства, как Сент-Эндрюс просто расцвёл, а вместе с городком выросли, как ты понимаешь, и доходы нашей церкви.
– Да неужели ваше высокопреосвященство решили сразиться в эту странную игру с клюками и мячиками? – притворился удивлённым приор.
– Помилуй бог! Подобные забавы привлекают тех, кто не обременяет своё тело тяжёлым физическим трудом, а свою голову ещё более тягостными государственными заботами, – иронично молвил архиепископ. – Мне же надо бы воспользоваться случаем и обсудить насущные вопросы церковного устроения в королевстве и обговорить кой-какие государственные вопросы с иными лордами, коих нынче легче застать на лужайках для гоуфа в Сент-Эндрюсе, чем в парламенте в Эдинбурге… Однако же, я хочу поручить тебе важное дело – раз уж тебе ведомо про провинность Лазариуса, – голос примаса стал серьёзным: – Разумеешь ли, он, верно, узнал некие значимые государственные тайны – будь неладно его любопытство, кое присуще неразумным отрокам, но никак не убелённым сединой старцам… Ах, всё равно я люблю Лазариуса, моего доброго старого учителя. Но право слово, я опасаюсь, что пожилой монах, не ведая, сколь это может быть гибельно для королевства, ненароком разгласит потаённые секреты… Ты меня разумеешь, отец-настоятель?
– Пресвятая богородица, спаси! Вы хотите, чтобы его… – ужаснулся своему предположению приор, его глаза округлились и почти вылезли из орбит.
– Помилуй боже! Вовсе нет. Как только ты смел такое помыслить, нечестивец! – грозно воскликнул архиепископ. – Клянусь своей митрой, Лазариус есть святейший из умнейших и умнейший из святейших человек, каких я когда-либо знавал. Ты должен гордиться пребыванием в Пейсли этого старца, благоволить святому отцу и не сметь причинять ему никакого вреда! Слышишь? Никакого вреда и ущерба!
– Прошу прощения, ваше высокопреосвященство, – смутился приор, – но ведь вы же опасались, что Лазариус невзначай может проговориться, а это несёт в себе опасность для государства.
– Тебе, отец-настоятель, надо было бы военным отрядом предводительствовать, а не божеской обителью управлять, – сердито молвил шотландский примас.
– С позволения вашего высокопреосвященства, к месту сказать пять лет назад я верховодил отрядом наших монахов, который вы распорядились отправить на поддержку королевской армии, и участвовал в битве при Пинки против еретиков-англичан, – не преминул напомнить о своих доблестях приор.
– Ах да, как же, припоминаю. Как раз после тех твоих ратных подвигов я и поставил тебя настоятелем Пейсли… Ну, так вот, а сейчас ты расслабь свои железные мышцы и напряги свою недогадливую голову, да пораскинь своими мозгами, как можно на время ограничить общение старца с другими иноками,… пока я всё не улажу.
После минутного размышления приор ответствовал:
– Я право слово не уверен, ваше высокопреосвященство… А почему собственно не запереть Лазариуса где-нибудь в удалённой келье или монастырской темнице?
– Не забывай только, отец-настоятель, что монастырь сам по себе есть узилище, где иноки затворяют себя вдали от мирской жизни и укрощают свою плоть и помыслы постом и молитвою. А посему мне кажется неблаговидным ещё более ограничивать бытие почтенного Лазариуса… Впрочем, учитывая ту опасность, коя таится в разглашении – пусть даже непреднамеренном – государственной тайны, ради высоких целей мы можем временно разместить старца в отдельной келье. Однако, лишив его общения с иноками, надобно предоставить ему все удобства пребывания в одиночестве, кои потребует его душа и тело, – произнёс архиепископ и тем самым успокоил свою совесть мыслию о том, что Лазариусу не будет большого ущерба провести несколько дней в блаженном одиночестве и, как полагал примас, уютной комнатке.
– Всё будет сделано, как повелевает ваше высокопреосвященство, – с почтительным поклоном ответил приор, собираясь покинуть апартаменты архиепископа.
– Отец-настоятель, поусердствуй также, чтобы эта историю с Лазариусом прошла втайне от монастырской братии насколько это возможно, а также попытайся разузнать, не поведал ли старец кому-либо ещё про этот свой грешок, – дал напоследок наставления шотландский примас и добавил снисходительным тоном: – А в будущем попрошу тебя хранить тайну исповеди более тщательно…
После ухода настоятеля архиепископ Гамильтон велел патеру Фушье сделать приготовления к отъезду, а сам сел писать послание для брата. В нём в частности сообщалось «… с большим сожалением, что аббатство Пейсли более не может быть местом, где глухим каменным стенам можно доверять тайны, ибо эти стены не такие уж глухие и каменные», и что о планах его светлости стало известно постороннему, а посему он, архиепископ Сент-Эндрюс, просит брата оставить свои намерения ради безопасности Гамильтонов и спокойствия всего государства.
Примас запечатал письмо массивной печатью, посмотрел задумчиво на её круглый восковый оттиск. В центре святой Андрей, державшийся за косой крест, на котором он и был, как известно, распят, почему-то напомнил Гамильтону старца Лазариуса, готового пострадать, но не придать своей веры и убеждений. Слева в нише дева Мария прижимала к груди младенца Иисуса. Примасу подумалось, что вот оно – само олицетворение истинной веры и любви. А в нише справа – фигура архиепископа с кардинальским посохом в руке, которая в этот час показалась владельцу печати какой-то согбенной, с поникшей головой – то ли от тяжести возложенного бремени, то ли от гнёта мучивших смятенную душу угрызений, сомнений и беспокойств. Вдоль края печати шёл инскрипт: «JOANNES HAMMILTOUN, ARCHI-EPISCOPUS SANCTI ANDRE?, MISERICORDIA ET PAX», что означало в переводе с латыни «Джон Гамильтон, архиепископ Сент-Эндрюс, благочестие и мир». Примас ещё раз подумал о Лазариусе, тяжело вздохнул и подул в серебряный свисток, дабы справиться у патера Фушье, в полном ли вооружении его телохранители, осёдланы ли лошади и могут ли они уже отправляться в путь…
Настоятель же в это время обдумывал, как выполнить щекотливое поручение архиепископа Гамильтона, кому доверить его осуществление и какие меры предосторожности предпринять.
Касаемо помощника в таком деликатном и потайном деле сомнений больших у приора не было. Он спустился во внутренний двор монастыря, прошёл через опустевшую уже трапезную и очутился в большой поварне, где в одной из огромных печей жарко пылало пламя, над которым в большом котле бурлила вода. У ёмкости колдовал молодой коренастый монах, засученные рукава открывали сильные мускулистые руки. Вокруг него на столиках и подставках находились различных размеров деревянные кадки и ступы, кружки и миски, из которых он время от времени брал то щепотку, то целый кулак их содержимого и отправлял в кипящий котёл. В дымном воздухе витали аппетитные запахи готовящегося варева. С покрытого копотью потолка свисали тушки зайцев и копчённые окорока, предназначавшиеся для стола архиепископа и его прислужников, а также сушённые пучки трав, которыми повар искусно приправлял свои блюда. Рядом c грубым столом, на котором лежали груды овощей и трав, стоял другой монах, постарше, ловко разделывавшийся с помощью большого ножа со всей этой зеленью.
После того, как отец-настоятель с удовольствием понаблюдал мгновение другое за слаженной работой поваров, он обратился к более молодому из них, с которым читатель уже имел возможность вкратце познакомиться в самой первой главе:
– Эй, брат Фергал, оставь-ка пока свою стряпню, да подойди поближе. Важное дело тебе предстоит.
– Да как же, отец-настоятель, я брошу свое занятие? Кстати, обед сегодня обещает быть просто несравненным, – хитрил молодой повар, не желавший, по-видимому, отвлекаться от своего привычного занятия, всецело его устраивавшего и обеспечивавшего ему сытость и почёт.
– И всё-таки, придётся нынче брату Томасу самому справиться со стряпаньем, пускай даже и в ущерб смачности похлёбки, – в голосе приоре звучали приказные нотки.
– Ну, раз вы так настаиваете… Только пеняйте потом на себя, ежели супец не по вкусу окажется. Да и архиепископ сердится будет, коли я не приготовлю ему на обед ароматный куриный бульон и нашпигованного каплуна. Он ведь так любит хорошенько покушать. Уж я-то его знаю, – постарался подчеркнуть свою незаменимость монастырский повар.
– Я так разумею, что трапезничать сегодня архиепископу в лучшем случае придётся в какой-нибудь придорожной таверне. А ты-ка, брат Фергал, заодно заверни в рогожку самый сочный окорок, да захвати несколько хлебцов на дорожку его высокопреосвященству.
– Как велите, отец-настоятель, – покорным голосом сказал монах. – Только позвольте, я оставлю пару указаний брату Томасу о том, как завершить приготовление трапезы.
После того как монастырский повар дал несколько наставлений своему сподручному по кухне и положил в корзину снедь в дорогу для архиепископа, он вышел в большую и пустую трапезную, где с озабоченным выражением на лице его поджидал приор, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, будто конь перед скачкой.
– Брат святой нашей обители, – начал торжественно настоятель, – архиепископ Сент-Эндрюс помнит о твоих заслугах перед его высокопреосвященством, и желает поручить тебе другое важное дело.
– Его высокопреосвященство! Ого! Вам же ведомо, отец-настоятель, я готов душу отдать на благо аббатства и его верховных священнослужителей. А аббат, то есть архиепископ Сент-Эндрюс – первый из них. Но как король есть наместник Бога на земле, так и вы, отец-настоятель, есть наместник аббата в монастыре, – монах подобострастно улыбнулся.
– Верно глаголешь, брат Фергал. Смотри, однако, это есть чрезвычайно секретное дело. Никто о нём не должен проведать.
– Клянусь святым распятием, ежели я и обмолвлюсь хоть словом, так лишь после того, как заблеет зажаренный на вертеле барашек или закукарекает нашпигованный каплун… Так что же мне надо сделать для его преосвященства? – с рвением спросил Фергал, который был не прочь оказать услугу архиепископу, да к тому же прознать про какие-то новые его тайны.
– Похвален твой пыл, брат Галлус. Надеюсь, он не остынет, когда надо будет приступить к делу… Насколько мне ведомо, ты у нас и за повара и за келаря? – поинтересовался приор.
– Приходится трудиться, отец-настоятель, ради блага нашей братии, – смиренно ответил Фергал.
– Хорошо. Значит, ключи от монастырского подвала, где хранятся бочки с вином, есть только у тебя?
– Понятное дело, что я не могу их никому более доверить, – ответил монах. – То ведь известно, как падки наши братья на весёлые возлияния. Вспомните, как давеча в день святого Мирена праздновали и вы распорядились целых три бочонка выкатить!
– Увы, моя щедрость, к сожалению, не пошла братии во благо, – сказал с некоторым смущением настоятель. – К счастью, архиепископ прибыл только через день и не увидел этой бражной вакханалии. Но, клянусь святым распятием, больше такого хмельного разгула в нашей обители я не допущу!
– Вот-вот, и я говорю, отец-настоятель, – вторил ему Фергал. – Поэтому-то я всегда и храню ключи от подвала на моём поясе, чтобы ни у кого из иноков не возникло искушение без спроса в подвал проникнуть, да к винным бочкам приложиться. Вдобавок там у меня и комнатка обустроена, где я травы целительные храню, да снадобья лечебные готовлю во благо вашего здравия, да и прочих братьев. – Рябое лицо молодого монаха расплылось в самой доброй улыбке.
– Это ты правильно делаешь, сын мой… Так вот, надобно тебе также обустроить в подвале одинокую келью с засовом снаружи и поместить туда втайне и со всеми предосторожностями брата Лазариуса… на несколько дней. Да чтобы ни одна живая душа об этом ни прознала! – слова приора прозвучали как приказ полководца.
– Лазариуса? – изумился Фергал. – Да за что же бедного старика в подвал-то? А впрочем, пускай там своим наукам крыс обучает, – беззаботно продолжил молодой монах. – Его высокопреосвященству виднее, где ему место. Только как бы мне туда этого книжника заманить?
– Я полагаюсь на твою смекалку, брат Фергал. Неужели у тебя не появится какой-либо хитрой мысли, как это обделать? Но это первая часть твоего задания, – сказал приор и продолжил далее: – Как только Лазариус будет уютно устроен в своей темнице, то есть я хотел сказать – келье, тебе надобно будет напрячься и выпытать у старца, кому он поведал про подслушанный им давеча разговор.
– Ага! – смекнул по-другому монах. – Вот куда желание ведать всё на свете и учить других заводит даже праведников. А ведь все его таким и считают. Верно, архиепископу Гамильтону не по душе, что любопытный старец услыхал некий сокровенный разговор. Так ведь?
– А ты смышлёней, чем кажешься, брат Фергал, – не удержался от похвалы приор, после чего, однако, сурово добавил: – Впрочем, советую тебе свои мысли и догадки держать при себе, а язык развязывать только когда тебя об этом вопрошают, а иначе тебя ждут ещё большие неприятности, чем брата Лазариуса. Ну всё, монах, ступай с Богом, ты знаешь, что делать. Оповещай меня обо всём.
Дав такие указания Фергалу и взяв у него корзинку с закуской, приор приблизился к воротам аббатства, около которых наготове стояла маленькая кавалькада во главе с архиепископом Гамильтоном.
– Отец-настоятель, у вас есть монахи, могущие неплохо сидеть в седле, чтобы преодолеть путь, скажем, до Стёрлинга и обратно, и на которых можно положиться? – спросил примас. – Видишь ли, я вынужден с обоими моими телохранителями и патером Фушье скакать в Сент-Эндрюс, и у меня нет под рукой другого гонца, ибо пешим охранникам доверия мало.
– Право слово, ваше высокопреосвященство, все наши бенедиктинцы так или иначе могут взобраться на мула или пони, хоть хорошими наездниками это их и не делает. Братьям ведь пристало на свои ноги рассчитывать, ибо издревле монахи-паломники пешком путешествовали, – ответил приор. – Впрочем, один из здешних монахов уж точно хорошо управляется с лошадью, ибо уж дважды проделал путь отсюда до самого Эдинбурга и обратно. Да ваше высокопреосвященство можете его помнить.
– Постой-ка, уж не о монахе ли по имени брат Галлус ты говоришь? – спросил архиепископ.- Как же, памятую, ты присылал мне его пару раз в прошлом году в Эдинбург, дабы он облегчил мои мучения во время сильнейших приступов проклятой хвори. Он мне давал глотать какие-то тошнотворные отвары и заставлял дышать над кипящими сосудами. По правде говоря, мне то было очень уж тягостно. Но ведь помогало его знахарство! Хотя и не смогло излечить полностью, как то милостью божьей получилось у великого Кардано.
– Точно так. Вы совершено правы, ваше высокопреосвященство. Именно брата Галлуса, я как раз и подразумевал, – вторя архиепископу, похвалил монаха приор. – Хотя здесь мы чаще называем его брат Фергал, что означает то же самое на его гэлльском наречии… Молодой инок зарекомендовал себя как искусный знахарь и травник. Я поручил ему заведовать также монастырской поварней с тех пор, как отец Николас ввиду уж преклонного возраста и слабости тела ненароком ошпарил руку. И надо признать, наши трапезы стали заметно вкуснее и пряней, что братия приписывает добавляемым поваром одному ему ведомым смесям трав и кореньев. А раз вы доверили Фергалу когда-то врачевать ваше тело, то, пожалуй, можете доверить и другое задание.
– Очень хорошо! Ну, вот и поручи ему завтра же утром отвезти вот это послание моему брату Джеймсу в крепость Стёрлинга, – архиепископ протянул настоятелю написанное им недавно письмо и крикнул своим компаньонам: – А вы, патер Фушье, теперь прочитайте Ave Maria и с божьей помощью в путь!
После заключительного слова молитвы «Amen» вся кавалькада тронулась вперёд: во главе два облачённых в доспехи и вооружённые длинными мечами стражника на крепких крутобоких лошадях, и далее, в окружении пеших ратников с пиками и аркебузами, дородный архиепископ Сент-Эндрюс и щуплый патер Фушье, восседавшие на ухоженных пони. Причём лошадке под французским капелланом было явно веселее, нежели её напарнице, вёзшей шотландского примаса.
Здесь мы должны ненадолго прервать развитие сюжета, чтобы поведать о человеке, который уже не раз упоминался на последних страницах, и которому предстоит сыграть немаловажную роль во всём дальнейшем повествовании. Речь идёт, как уже должно было стать понятным, о молодом монахе по имени Фергал или, если говорить на латыни, как то было принято среди монашеской братии, – frater Gallus. Рассказ о нём ждёт читателя в следующей главе.
Глава V
Frater Gallus
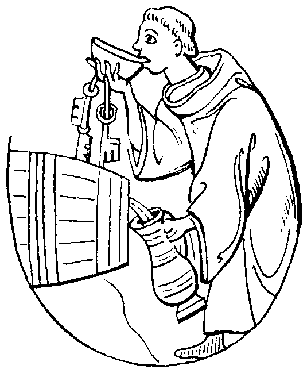
Фергал появился в монастыре около пяти-шести лет назад до начала нашего рассказа. Перед этим один из старших и уважаемых братьев обители, серьёзно нарушивший одно из правил монашеского бытия – не будем называть его проступок, который не имеет значения для настоящего повествования, – находился под угрозой постыдного изгнания из обители. Однако, отец-настоятель, принимая во внимание прежние добродетели монаха и его почтенный возраст, решил ограничиться наложением на него суровой епитимьи в виде обязательства посетить святые реликвии на острове Айона на западной окраине страны23, совершив туда пешее паломничество.
Неискушённому читателю может подуматься, что монах с лёгким сердцем принял подобное наказание, кажущееся на первый взгляд лёгкой прогулкой по живописным местам. Но не стоит забывать, что события нашей истории происходили в шестнадцатом веке, когда горные районы на западе и севере Шотландии были населены почти сплошь кельтскими племенами. Объединённые в кланы они оставались весьма обособленными от остальной части страны, старались сохранить традиционный свой уклад жизни и подчинялись лишь вождю племени. Среди жителей южной Шотландии обитатели Горной страны считались гордым, мстительным и воинственным народом. Казалось, весь смысл их существования заключался в резне и побоищах, причём неважно с кем и во имя чего – то могла быть война между кланами или участие в феодальных междоусобицах, а то и просто грабёж соседних баронов и фермеров и угон их скота.
Именно через эти дикие и суровые гористые земли, заросшие густой тогда ещё северной растительностью, лишённые каких-либо приметных дорог и населённые угрожающе воинственными людьми, предстояло проделать путь монаху-ослушнику.
Упустим все подробностях его нелёгкого и полного опасностей паломничества, путь которого пролегал изначала по холмистым склонам гор вдоль озера Лох-Ломонд, затем через лабиринт узких и тёмных межгорных долин Аргайла, по пустынным торфяникам и топям острова Малл и через два нешироких морских пролива. Упомянем лишь, что пилигрим счастливо избежал всех возможных несчастий, которыми грозила ему дикая природа: не упал в пропасть с крутого скалистого обрыва, не оступился и не увяз в засасывающем торфяном болоте, не стал добычей диких животных, не утонул в бурных волнах морских стремнин. Можно было бы предположить, что самая большая опасность могла подстерегать паломника во встречах с полудикими воинственными обитателями тех мест. Однако как ни странно, ни одного сколь-нибудь серьёзного происшествия в общении с горскими племенами у паломника не случилось. Верно, потому что к монашеской рясе горцы относились с небывалым почтением; надо заметить, что, христианство пришло к гэльским племенам Горной страны едва ли не раньше, чем к населявшим южную часть страны бриттам и англо-саксам, ибо распространению христианства в Шотландии ещё в пятом и шестом веках способствовали по большей части миссионеры, прибывавшие на западный берег страны из Ирландии, где проживали близкие им по этническим корням кельтские племена… Более того, скромная трапеза, которой эти люди угощали монаха, была, можно сказать, единственным способом его пропитания. Зачастую горцы делились с пилигримом последними жалкими крохами, хотя чаще, сказать по правде, их стол (или то, что его замещало) ломился от простой, но обильной пищи, ибо места те изобиловали в то время всевозможной дичью, а многочисленные озёра и речки снабжали кельтов рыбой. Правда, несколько раз в дороге монаха задерживали отряды голоногих воинов, вооружённых острыми мечами, луками со стрелами и страшными боевыми топорами, не говоря уже про разного рода кинжалы и ножи, и начинали о чём-то оживлённо его спрашивать на совершенно непостижимом наречии, энергично размахивая при этом оружием, как будто угрожая ему. Но, увидав, что перед ними всего лишь дрожащий от страха пожилой человек с нескладной фигурой, всё время крестившийся и умолявший о чём-то на малопонятном им южном языке, они оставляли его в покое и быстро вновь исчезали на поросших вереском склонах гор…
Уже на обратном пути своего обременительного и опасного путешествия инок в поисках жилища в преддверии быстро опускавшейся ночи наткнулся на одинокую хижину на горном склоне, по которому пролегала тропа. Осторожно толкнув незапертую дверь убогой лачуги, монах вошёл в тёмное помещение.
– Ойхе ва, – произнес он одну из немногих фраз из языка горцев, запомнившихся ему за время своего паломничества, и означавшую вечернее приветствие.
Никто ему не ответил внутри этого неказистого жилища. В углу еле теплилась лучина. В её слабом свете монах различил склонившегося над кроватью юношу, который в состоянии полной отстранённости и безразличия даже не поднял головы и не произнёс ни звука в ответ на приветствие вошедшего. Наш пилигрим приблизился к лежанке и увидел на ней неподвижно распростёртое тело, накрытое шерстяным пледом. На служившей подушкой травяной подкладке покоилась голова старой женщины с закрытыми глазами и размётанными длинными седыми волосами. Сухое и сморщенное лицо её покрывала восковая бледность. Полумрак и гробовая тишина ещё более усугубляли жуткость обстановки.
– Да сохранит меня Матерь Божья! – прошептал бенедиктинец, осенил себя крестным знамением и приблизился к лежанке. Приложив руку к губам старухи, монах догадался, что та испустила дух уже, по крайней мере, несколько часов назад. Потрясся юношу за плечо, пилигриму удалось вывести того из состояния скорбной отрешённости и, перемежая слова и жесты, монах попытался втолковать, что старой женщине уже не поможешь и необходимо по-христиански предать земле её тело.
Молодой кельт, который, по всей видимости, являлся родственником почившей, понял монаха, и с помощью мотыги и ножа, на ровной площадке у подножия холма они вместе выкопали неглубокую могилу, перенесли и опустили туда покойную и в то время, как бенедиктинец читал заупокойные молитвы, юноша забрасывал землёй закутанное в шерстяную ткань тело. Ночь была на редкость ясная и серп луны временами освещал склон холма до самого его подножья. Когда монах и его новый знакомый закончили погребальную процедуру и вернулись в хижину, на небе начинали появляться бледно-розовые сполохи приближающегося рассвета.
По окончании молчаливой траурной трапезы, состоявших из скудных припасов, которые нашлись в убогом жилище, добродетельный монах, коему не чуждо было чувство сострадания, с помощью жестов и увещевательного тона предложил юноше отправиться с ним. После недолгого раздумья молодой горец утвердительно закивал головой и что-то горячо затараторил на своём нечленораздельном языке. Завязав в огромный узел скромные пожитки, которые, как с удивлением заметил монах, по большей части состояли из разложенных по небольшим мешочкам пучков сухой травы и всевозможных корешков, молодой человек присоединился к паломнику, и через несколько мгновений они шагали рядом по вьющейся вдоль подножья крутых холмов и еле заметной среди увядающего вереска тропинке.
В утренних лучах монаху удалось тщательнее рассмотреть нового своего знакомого. На вид тому было не больше восемнадцати-девятнадцати лет. На рябом лице его вместо печально-траурного выражения, которое ожидал увидеть монах, застыла странная мрачная улыбка. Из-под горской шапочки во все стороны упрямо топорщились кипы ярко-рыжих волос, которые так не шли к выражению лица юноши. Коренастая невысокая фигура, по горской манере того времени закутанная до колен в шафрановую шерстяную ткань, являла признаки силы и проворства, присущих большинству жителей тех мест; об этом же свидетельствовали и плотно обмотанные мускулистые икры ног.
«Какую мы, должно быть, составляем разительную пару, – думал про себя бенедиктинец, – старый монах в долгополой рясе и юный дикарь с голыми ногами… Вот, веду его к свету божественной истины подобно тому, как Моисей вёл свой народ через пустыню синайскую к земле обетованной… Ну что ж, как добредём до монастыря, обучит его братия и будет у нас новый инок. Может и зачтётся мне и перед Господом Богом и перед отцом-настоятелем, что не оставил я юную душу в диких горах прозябать среди кровожадных племён, а приобщил к божественному служению».
Забегая немного вперёд, мы с прискорбием должны сообщить, что через несколько дней после благополучного возвращения в монастырь силы старого монаха-паломника, истощённого долгим тяжёлым странствием, вконец оставили его и инок быстро угас, отдав Богу умиротворённую выполненным долгом и заслужившую прощения душу. И вышло, что это нескромное сравнение себя с избранником Божиим оказалось для паломника, можно сказать, пророческим, ибо, как и избавитель народа израильского умер перед самым входом в землю обетованную, так и наш пилигрим более не вкусил благ тихой жизни в обители…
Но вернёмся же снова к нашим путникам. За оставшиеся дни путешествия истосковавшийся по общению монах немало разговаривал с юным кельтом или, правильнее будет сказать, пытался изъясняться. Молодой горец на удивление настолько быстро схватывал новые слова, значение которых ему разъяснял бенедиктинец, что вскоре паломник уже мог составить краткую биографию Фергала – так звали его нового знакомца. Из нестройного рассказа, зачастую подкреплявшегося жестами вместо неизвестных ещё горцу слов из языка южан, монах уразумел, что юноша приходился внуком умершей женщины. Родителей своих он не помнил, и ближайших родственников у него не осталось. С раннего детства он жил уединённо со своей бабкой, прослывшей большой знахаркой среди местных кланов. Старуха-отшельница, которую некоторые суеверные горцы считали колдуньей, славилась умением лечить раны и болезни людей и животных, ей были ведомы всевозможные заговоры, а также свойства всех трав, покрывавших холмы и долины Горной страны. Всю жизнь, насколько он помнил, прожил Фергал со старухой – до того самого дня, как в хижину зашёл монах, чтобы обнаружить там мёртвое тело старой знахарки и горевавшего рядом юношу.
То, что юный кельт намеренно не поведал монаху или не умел пока рассказать, так это то, что перед смертью поведала ему старуха и над чем он так сосредоточенно размышлял, сидя над мёртвым телом и обуреваемый мятежными чувствами, в тот самый момент, когда в жилище вошёл монах. Проведший всё время в стенах обители, бенедиктинец был далёк от понимания мирской жизни и от овладевавших душами людей страстей. Он думал о своём новом знакомом лишь как о несчастном одиноком сироте из Горной страны, каковому долженствует быть благодарным за возможность стать послушником, а потом, даст Бог, и иноком в их аббатстве, где у него всегда будет кров и пища – духовная и земная…
Первое время монастырская братия встретила молодого горца насмешками, хотя и добродушными, вызванными тем полудикарским обличием, в котором поначалу предстал перед ними кельт, и его неспособностью понимать всё то, о чём ему толковали. В ответ на ухмылки и зубоскальство монахов – хоть он их и не понимал, но смысл коих был очевиден, – Фергал только гневно сверкал глазами и бросал злые взгляды, готовый как дикая кошка вцепиться в обидчика. Два или три инока не самого крепкого телосложения, неблагоразумно не сумев скрыть свой явно насмешливый тон, даже несколько пострадали, награждённые увесистыми тумаками от объекта своих шуток. Вскорости монахи, уразумев дикий норов кельта, более уже не пытались потешить своё бытие в суровых монастырских пределах насмешливыми шуточками над новым послушником и оставили его в покое.
Способствовало этому ещё и то обстоятельство, что на удивление быстро молодой кельт из дикого горца, не разумеющего даже обычной речи монахов, преобразился внешне в смиренного новиция, терпеливо несущего свои послушания и постигающего правила монашеского бытия. Каким-то непостижимым образом он перенимал поведение, движения, взгляды и даже интонации голоса прочих монахов, порой даже ещё не понимая их речи. И через три-четыре месяца пребывания в обители никто не узнал бы в молодом послушнике дикого горца, если б не стал донимать его глупыми шутками и презрительно на него глядеть. Фергал достаточно бойко научился разговаривать на непонятном ему совсем недавно языке южных шотландцев, и что самое удивительное – почти без свойственного горцам акцента, и даже знал уже некоторые, наиболее часто звучавшие фразы и названия на латыни – и это несмотря на то, что он не сразу научился читать. Молодой кельт быстро перенял монастырские манеры, и по поведению его никак нельзя было отличить от остальных монахов и новициев. Даже выражение его рыжего лица ничем не отличалось от взглядов другой братии: кроткое во время молитв, возвышенное на богослужениях и легкомысленно-вальяжное после обеденной трапезы. Он также держался чрезвычайно почтительно к отцу-настоятелю и старшим монастырским чинам, от которых зависело его благоденствие: ризничему, келарю и повару, – и старался при любой возможности выказывать перед ними своё благоговение. Но вот с другими монахами послушник с некоторых пор вёл себя несколько снисходительно и подчас даже высокомерно, что никак уж не вязалось с его молодым возрастом и естественно вызывало у братии недоумение. Кто-то обратил внимание, что тень надменности появилась у новиция после того, как он выучился, в конце концов, читать на латыни. Неужели это могло быть поводом для гордыни, недоумевали монахи. Но как бы то ни было, ссориться с послушником никто не хотел: ещё свежи были в памяти его дерзостные выходки в ответ на добродушные шутки монахов.
Через пару месяцев отношение монастырской братии к Фергалу претерпело изменение в пользу последнего. Читатель, наверное, помнит, что юный кельт долгое время был учеником старой сивиллы, которую он называл своей бабкой, и смерть которой по странному стечению обстоятельств совпала с появлением в горской лачуге монаха-бенедиктинца, а также не забыл содержимое того большого вьюка, собранного отроком при покидании своего убогого жилища в горах. Однажды новиций с помощью своих снадобий помог брату-инфирмарию за один день и ночь поставить на ноги ризничего, на которого напала сильная лихорадка. После эдакого «чуда» и настоятель, которого часто мучили колики в животе и боли в спине, осмелился отдать свои телеса в руки юного знахаря. Вскоре, после всех мазей, растираний и отваров Фергала приор почувствовал себя лет на десять моложе. И как ни сильно было предубеждение монахов, что физические страдания насылаются по Божьему промыслу во искупление земных грехов, однако же подчас страдания эти бывали так велики, что большинство из иноков были не прочь ещё как угодно согрешить, лишь бы избавиться от телесных мучений. А посему, несмотря на неприветливость Фергала, они видели в нём человека, могущего по своему изволению избавить их от мучительных недугов. Вследствие этого многие иноки, наипаче уже немолодые, стали выказывать признаки благоприязни к молодому знахарю, причиной чему являлось отнюдь не искреннее уважением, а льстивое заискивание. Надо признать, однако, что если уж Фергал брался кого-то лечить, то делал это весьма добросовестно, ибо занятие это, по всей видимости, доставляло ему немалое удовольствие.
Вслед за этими событиями послушник стал пользоваться особым благоволением отца-настоятеля. Новицию было дозволено надолго покидать стены монастыря для пополнения запасов лекарственных трав и кореньев. Молодой кельт отличался необыкновенной выносливостью и неприхотливостью – так необходимыми для горца качествами; он мог сутками не спать и пройти за раз не один десяток миль. А потому у Фергала всегда был большой запас трав и кореньев, собираемых им по окрестным горам и долам.
Приор сквозь пальцы смотрел на неприязненность послушника к рядовым инокам, хотя поведение Фергала не выходило в своём проявлении за рамки принятых в обители правил. Срок послушничества новиция был сокращён, и менее чем через два года после появления в монастыре он дал святой обет и был подстрижен в монахи под именем брат Галлус. Стоит упомянуть, что настоятель, по всей видимости, не зря нарёк новоиспечённого монаха этим именем кельтского святого, которое на латыни значило галл , ибо на гэльском языке имя Фергал также значило муж галл . Впрочем, все монахи привыкли называть его Фергал и продолжали по-прежнему зачастую именовать его именно так.
Через три-четыре месяца после пострига Фергала в монахи в аббатстве Пейсли появился Ронан Лангдэйл – юноша из благородной семьи, хоть и не очень знатной и богатой. На вид он был лет на пять моложе Фергала.
Но кроме возраста, как можно было уже заметить, между этими молодыми людьми существовало большое различие – как во внешности, так и в характере и манере держать себя. Молодой монах, несмотря на тёмное происхождение, тщился, то ли нарочито, то ли непритворно, смотреть свысока на остальную братию, что ему, в общем-то, удавалось вопреки невысокому росту, ибо искусство врачевания, ценящееся во все времена, не только заставляло монахов при общении с Фергалом, особенно немолодых, делать вид радушия, но и вызывало благоволение к нему со стороны отца-настоятеля.
В отличие же от новиция Ронан, будучи вправе гордиться своей родословной, наоборот вёл себя со всеми иноками с подобающим уважением к их священному сану, был прост в общении и доброжелателен, хотя и не допускал панибратства. Если видимую благоприязнь монахов к Фергалу нельзя было назвать чистосердечной, то молодой дворянин, не стремясь к тому сознательно, заслужил уважение как своим открытым и некичливым характером, так и дружбой с Лазариусом, безмерно почитавшимся братией.
С появлением Ронана в монастыре поведение Фергала странным образом изменилось. Хотя в его манере держаться с монахами и не исчезло до конца чувство своего превосходства, тем не менее, он стал более приветливым и мягким с иноками, интересовался, не требуется ли им его целительская помощь, даже стал принимать участие в их досужих беседах. Казалось, что Фергал старался заручиться их искренним уважением, как будто соперничая в том с молодым дворянином.
Как скоро обнаружилось, брат Галлус питал странную неприязнь к Ронану. Хотя им и нечасто доводилось встречаться за пределами трапезной, но при их редких встречах в монастырских переходах или во дворе Фергал бросал на Ронана взгляды, полные беспричинной злости, которую он даже и не считал нужным скрывать, а весь вид монаха выражал антипатию и какой-то мрачный вызов. Ученик же Лазариуса только недоуменно пожимал плечами, простосердечно удивляясь этой нелепой злобности молодого инока. К тому же, странная неприязнь к ученику переросла у Фергала и в недоброжелательность к его учителю. В то время, как все монахи преклонялись перед старцем за боголюбие и мудрость, смиренность и праведность, брат Галлус в беседах бенедиктинцев отзывался о Лазариусе со скрытым презрением: от учёности и набожности старого монаха, дескать, никому нет пользы, – намекая на его, Фергала, способность к целительству. Такие речи монаха-знахаря не могли не заронить семена сомнения в души иноков, вызывая подчас у них между собой споры о том, что важнее – лечить тело или душу.
Однако, как оказалось, не только лишь в области знахарства крылись таланты брата Галлуса. Как-то раз в один пасмурный день, зачем-то заглянув на монастырскую кухню, молодой инок посоветовал монаху-повару добавить в похлёбку, предварительно растерев в порошок, какие-то корешки и высушенные травы, которых у Фергала был огромный запас. И после того, как тем вечером по окончании трапезы братия узнала благодаря кому простая вроде бы похлёбка обладала столь необычайным вкусом и ароматом, начала расти кулинарская слава брата Галлуса; повар стал всё чаще и чаще с ним советоваться, как приготовить или чем лучше приправить то или иное блюдо.
Когда через некоторое время старый монах-повар брат Николас обварил невзначай руку, он прибрёл к настоятелю и, ссылаясь на свой возраст, слабость в конечностях и демонстрируя покрывшуюся волдырями красную руку, взмолился освободить его от сей тяжкой повинности и назначить на должность главного монастырского повара брата Галлуса, уже проявившего немалую способность к кулинарному искусству. Фергала такое положение вполне устраивало, ибо избавляло его от скучного пения псалмов и бревиариев и чтения однообразных нудных молитв, и в то же время повышало его статус в аббатстве. Дабы не лишаться врачевательской помощи брата Галлуса, ему разрешалось брать стольких помощников-кухарей из числа монахов, сколько было необходимо ему для возможности выполнения других своих повинностей, а именно помощи брату-инфирмарию в поддержании в добром здравии монахов, и прежде всего отца-настоятеля и других важных монастырских чинов.
Таким образом, очень скоро, оказывая всевозможные услуги отцу-настоятелю – будь то связано с каким-нибудь прыщиком на лбу или же более скрытых местах последнего или желанием побаловать своё чревоугодие желе из оленьих рогов, – Фергал превратился по существу в доверенное лицо приора, чему немало способствовало и стремление самого молодого инока войти в милость к отцу-настоятелю.
Как видно, брат Галлус прекрасно усваивал непростую науку преуспевания в обители, что для него было много интереснее, чем учить чересчур мудрёный латинский язык, запоминать нудные молитвы и заниматься католическими песнопениями. Надо полагать, что в наши дни такой молодой человек сделал бы блестящую карьеру. Благодаря близости к настоятелю Фергал не упускал случая принизить достоинства отца Лазариуса, от коих, по его мнению, мало было проку, и в то же время превознести собственные заслуги. Причём делал он это с видом смиренного воздыхания. Приор, похоже, догадывался о нелюбви брата Галлуса к мудрому старцу, но приписывал её ревности молодого монаха за свое искусство и закрывал на то глаза. Мало найдётся начальников, в том числе и среди игуменов церкви, которые отказались бы от выгоды иметь под рукой таких полезных и одновременно преданных и подобострастных слуг, каким норовил казаться брат Галлус. Не был исключением и настоятель аббатства Пейсли.
Вдобавок, не только отец-настоятель пользовался услугами Фергала. Но был и некто больший, кому знахарские способности брата Галлуса оказались очень кстати. Сам архиепископ Гамильтон, узнав из переписки с настоятелем (поскольку сам его преосвященство долгое время уже не посещал аббатство по причине загруженности государственными заботами) о появлении в монастыре монаха-врачевателя, уже выказавшего своё умение, чрезвычайно этим заинтересовался, ибо Джон Гамильтон много лет страдал болезнью, которую мы сегодня зовём астмой. И вот, когда у архиепископа случился очередной пароксизм, то он повелел послать за монахом-лекарем в Пейсли. Фергал провёл неделю в эдинбургском доме Гамильтона и за это время во многом облегчил страдания архиепископа с помощью неких пахучих трав, странного цвета порошков, горьких отваров и других зелий. И неудивительно, что в следующий раз, когда нещадный недуг опять атаковал Сент-Эндрюса, он вновь послал за братом Галлусом и остался весьма доволен его знахарским искусством. Многих известных врачевателей приглашали к архиепископу Гамильтону, но никто из них не в силах был облегчить сколь ни будь заметно страдания примаса, и лишь брат Галлус преуспел в сем благородном и прибыльном деле.
Однако Фергал был не всесилен и не мог с помощью перенятого от старой знахарки мастерства целиком излечить архиепископа, что, чуть позже практически удалось, как мы уже знаем из подслушанного разговора братьев, знаменитому итальянцу Джироламо Кардано. Брат Галлус как раз находился в доме архиепископа в Эдинбурге, когда туда прибыл итальянец, после чего монаху было велено возвращаться в Пейсли и врачевать монастырскую братию, а лечение его высокопреосвященства предоставить более опытному лекарю. Затаив обиду на Кардано и питая к нему зависть, Фергалу пришлось вернуться в аббатство.
Как бы то ни было, молодому монаху явно пошло на пользу посещение столицы страны, и её примаса. Он пересёк центральную часть Шотландии, научился неплохо управлять лошадью и много повидал. Своим острым глазом и чутким слухом Фергал подмечал всё: кто как говорит, какую мимику, жесты и фразы использует. Он научился различать на глаз – как по одеянию, так и по особенности речи и манере держать себя – ремесленников и разномастных торговцев от дворян и прислуги богатых вельмож, крестьянского сына от пажа знатного человека, простую девицу от фрейлины именитой дамы. Он выучился укрощать свои чувства и разговаривать подобающим тоном – в зависимости от своего визави: с архиепископом он был учтиво почтителен и раболепен, с челядью его дома – вежлив и приветлив, а со всеми остальными, кого Фергал встречал на улицах города, сельских дорогах и трактирах, он держал строгий и задумчивый вид, как то подобает благочестивому монаху.
Стоит упомянуть и о встрече Фергала в столичном доме архиепископа с Фулартоном из Дрегхорна. Ординарец регента быстро разглядел лицедейские склонности монаха и с помощью посулов хорошей мзды и будущих благ уговорил того стать соглядатаем регента в аббатстве Пейсли. Молодой инок оказался не прочь оказывать услуги ещё и брату архиепископа – регенту Джеймсу Гамильтону, в надежде не только на сиюминутное вознаграждение, но и на извлечение пользы из этой службы в последующем. А посему он, сделав вид, что якобы борется с угрызениями совести, поломался для видимости и в итоге согласился на предложение ординарца. Тот принял такое криводушие будущего наймита за благо для своих целей и остался доволен приобретением такого ценного шпиона в родовом аббатстве Гамильтонов.
Примечательно, что после посещения Эдинбурга речь, манеры и поведение брата Галлуса заметно изменились: без следа исчезли остатки его прежних диких черт характера; пропал злой блеск в очах при встречах с Ронаном, и, наоборот, во время оных лицо его стала озарять приветливая улыбка; напрочь исчез вид надменности и превосходства по отношению к братии; да и во всём остальном нрав его стал более кротким и доброжелательным. Трудно сказать, что было тому причиной. Возможно, Фергал намеревался когда-нибудь занять более высокое положение в обществе, требовавшее соответствующего воспитания и поведения, а благовоспитанность челяди в доме архиепископа и манера держаться прочих столичных жителей послужили ему отличным примером. Хотя нельзя исключать, что он просто-напросто научился умело скрывать когда надо свои настоящие чувства, как хороший комедиант показывает публике только лишь эмоции, которые ему предписывает пьеса, а не то, что он, быть может, чувствует на самом деле.
Вместе с тем возросло почтение к брату Галлусу со стороны иноков обители, которые стали даже побаиваться приближенного к высшим церковным игуменам монаха, и были уже не так откровенны в беседах в его присутствии. Но Фергала такое уважительно-сдержанное отношение к себе ничуть не смущало, а даже, напротив, доставляло удовольствие, ибо подчёркивало его важность и значительность. По правде говоря, на праздные беседы у Фергала и времени-то не было: настолько он был активен и деятелен. Если он не пропадал в холмах или на пустошах и болотах, собирая травы и коренья, то брат Галлус либо командовал на монастырской кухне, понукая своих помощников, либо закрывался в маленькой лаборатории, которую он обустроил в одной из комнат подвала и где он готовил свои снадобья и зелья.
Примерно так однообразно и неприметно протёк последний год в монастыре. Но стоит, однако, упомянуть одно событие, сильно удручившее всех монахов обители, а именно раннюю и неожиданную кончину одного из иноков по имени Эмилиан. В ней не было бы ничего странного, если бы брат Эмилиан был старым или болезненным монахом. Но он был здоровым, сильным и весёлым человеком в расцвете сил, благоденствующий вид которого и розоватые щёки были неподвластны никаким самым строгим постам. Брат Эмилиан был очень хорошо знаком Ронану, ибо его место за столом в трапезной было рядом с юношей, и он не упускал случая шёпотом отпустить какую-нибудь хохму или каламбур своему юному соседу. Ученик Лазариуса хорошо запомнил тот день, ибо ему нездоровилось и, оказавшись за столом в трапезной, он, сославшись на отсутствие аппетита, отдал миску со своей похлёбкой никогда не страдавшему подобными «несчастьями» здоровяку брату Эмилиану, сам ограничившись лишь куском хлеба и кружкой воды. Ночью спавших в общей спальне монахов разбудили дикие выкрики, перемежавшиеся с мучительными стенаниями, исходившими от тюфяка, на котором спал, а точнее, уже корчился от боли брат Эмилиан. Ни брат-инфирмарий, ни брат Галлус не смогли спасти монаха, разве что предложенное Фергалом питьё успокоило боль умирающего и позволило ему избежать мучительной агонии последних минут и оставить земное бытие в мирном забытье… Никто так и не смог объяснить толком, что же случилось с братом Эмилианом. Удручённый брат-инфирмарий высказал предположение, что в воздухе и воде витают разного рода миазмы, кои могут проникнуть в человека и погубить его тело. Непохожий сам на себя Фергал с лицом, на котором побледнели даже рыжие щербинки, только недоумённо разводил руками, не в силах вымолвить ни слова дрожащими губами. А отец-настоятель, обведя взглядом братию, глубокомысленно намекнул, что балагурство брата Эмилиана подчас отдавало непочтительностью к святым реликвиям и божественным символам, и что за такое пустословие и еретическое кощунство он, возможно, и был наказан всевышним. Остальные же монахи только воздыхали и крестились.
Глава VI
Подвал

|

|
В эту ночь Лазариус, как и обычно, направился в монастырскую библиотеку – на сей раз, чтобы чтением мудрой книги заглушить огорчения последнего дня и предыдущей ночи. Однако, умные слова манускрипта никак не хотели складываться во фразы, а в голову монаха возвращались скорбные мысли о коварстве и фарисействе правителей и сановников, и о той печальной участи, которая по предчувствию Лазариуса ожидала святую церковь в этой несчастной стране.
Другая беспокойная мысль не давала ему сосредоточиться на книге. «Отчего же архиепископ покинул обитель, не повидавшись со мной? – вопрошал себя старец. – Никогда дотоле, во времена более частых наших встреч, он не нарушал своих обещаний. Чем же могло быть вызвано столь поспешное отбытие примаса и что нарушило его намерения? Неужто желание поскорей обтолковать с еретиками условия соглашения с ними? А может, потому он и не захотел принять меня, что опасался укоров в отступничестве и сомневался в стойкости своей к доводам и суждениям, коими я, несомненно, не преминул бы переубедить его?»
В конце концов, не в силах сосредоточиться на чтении, да к тому же утомлённый предыдущей бессонной ночью старик отложил книгу и собрался уже отправиться в монашескую опочивальню. Неожиданно дверь погружённой во мрак залы приотворилась, и в неё к удивлению старого монаха проскользнул, освещая себе дорогу тусклой свечой, тот, кого Лазариус менее всего ожидал бы здесь увидеть – брат Фергал. Заприметив старца, монах радушно заулыбался и сказал:
– Ох, отец Лазариус, вы здесь! А я вас везде ищу. Спасибо, братья подсказали, что вы по своему обыкновению в библиотеку направились.
– А, брат Фергал, это ты! Что же заставило тебя искать меня в столь поздний час? – спросил потревоженный Лазариус.
– Вы можете не поверить бедному иноку, святой отец, но я давно уже хотел потолковать с вами, – задушевным тоном ответил Фергал. – Но рядом с вами всё время вертелся этот мальчишка Ронан…
– Несчастный! – молвил старец. – Не упоминай с таким пренебрежением о том, кто был и остаётся моим любимым учеником, и коего ты не стоишь ни на йоту. Я давно подмечал твои недобрые взгляды, бросаемые на него, брат Фергал, хотя причина их воистину есть непостижимая тайна для меня.
– Ох! Вот вы и рассерчали на меня… Видит Бог, отец Лазариус, должен я вам покаяться! – пылко воскликнул молодой монах. – Лишь только зависть заставляла меня глядеть на вашего ученика подобным взором… Ибо ему всевышним дозволено было приобщиться к тайнам наук, испив из такого источника познаний, как ваша учёность и мудрость, святой отец. Моей же наставницей была всего лишь полупомешанная неграмотная знахарка, которую люди в наших краях принимали за колдунью и боялись, хотя и пользовались её услугами. Чему я мог от неё научиться-то? Всего-навсего распознавать травы и корешки, да приготовлять из них смеси для излечивания всяких пустячных болячек.
– Тем не менее, врачевать людей – тоже великое искусство, – рассудил старый монах. – Это мастерство Богу угодно, ибо исходит из любви к ближнему своему, коя есть важнейшая заповедь Божья.
– Отец Лазариус, всем ведомо, что вы тоже можете людей излечивать, – добродушным тоном продолжил Фергал. – Наши монахи говорят, что вы совершаете это с помощью усердных молений и просьб к Богу, святым угодникам и Матери Божьей. Верно ли это?
Старец строго взглянул на тёмный силуэт монаха и ответил:
– Каждому Господь даёт разные средства приносить пользу другим. Всяк человек, ежели в душе его живёт божественная любовь, может вершить благие деяния.
– О, святейший отец, я преклоняюсь перед вашей набожной праведностью и вселенской учёностью, – с благоговением произнёс молодой инок. – Хотел бы я хоть чуть толику стать похожим на вас. Представьте, ежели бы я соединил мои умения с вашими знаниями и благочестием, каким бы лекарем я мог бы стать и скольким бы людям смог бы облегчить страдания!
– Не тешь себя бесплодными мечтами, брат Галлус, – возразил Лазариус слегка назидательным тоном, простодушно принимая за чистую монету душевные излияния монаха, – а пользуйся тем, что тебе уже дано, и неси это во благо людей и во имя Господне. И да поможет тебе Бог!
– Ну что ж, – огорчённо вздохнул Фергал. – Пускай я не достоин учиться у вас наукам, как это делал счастливчик Ронан. Пусть вы полагаете, что я не в состоянии стать таким же благочестивым как вы. И всё же, могу я хотя бы испросить у вас, праведный отец Лазариус, освятить вашей благословенной молитвой то место, где я приготовляю мои целительные снадобья? Без сомнения, тогда мои лекарства будут ещё более действенны.
При этих словах неспокойное предчувствие, не покидавшее старца с самого утра и почти затихшее к ночи, снова тревожно проснулось. Тень от свечи делала лик Фергала зловещим, а его глаза светились во мраке двумя жутковатыми огоньками. Но отказать в столь благочестивой просьбе Лазариус, несмотря на свои смутные и возможно беспочвенные предчувствия, был не в силах.
– Ну, так тому и быть, брат Фергал, – согласился старый монах. – Ради болящих, коих вылечит твоё умение, завтра при первых же лучах солнца я готов спуститься с тобой вместе в твою мастерскую.
– Как же завтра, святой отец? – расстроено произнёс молодой инок. – Дело в том, что мне надобно выполнить одно архиважное поручение отца-настоятеля, я буду отсутствовать пару дней и отбываю рано утром. Было бы в самый раз взять с собой в путь снадобья, уже освящённые вашими молитвами. Умоляю вас, отец Лазариус, во имя Бога и всех святых угодников!
Тревожное беспокойство в груди старика усилилось до крайности, но показать своё малодушие перед молодым монахом он никак не желал.
– Что ж, брат Фергал, показывай путь в твои подземные чертоги, – после некоторого колебания твёрдо произнёс старец и осенил себя крестным знамением, сказав в душе: «Во имя Бога свершаю я это нисхождение во мрак подземелья в столь неурочный час! Да хранит меня Господь и Матерь Божия!»
В подвале Фергал зажёг лампу, которой удалось лишь слегка осветить большое помещение с тёмными углами, мрачными холодными стенами и низким потолком, поддерживаемым массивными каменными пилонами. В стоячем воздухе пахло плесенью. Было прохладно и мерзостно. Только еле слышные звуки разбивающихся о камень капель воды где-то в тёмной глубине подвала оживляли атмосферу этого мрачного, похожего на склеп подземелья. Вдоль стен в два-три яруса лежали разнообразных размеров и форм бочки и бочонки с начертанными на них мелом названиями содержавшихся в них горячительных напитков. В одной из стен подвала выделялась пара внушительных дубовых дверей с тяжёлыми железными засовами.
Молодой монах с нерешительностью, как будто сомневаясь в правильности своего выбора, подошёл к левой двери, отодвинул засов и вошёл внутрь. Лазариус осторожно последовал за ним и оказался в мастерской Фергала. Лекарственные травы, частью связанные в пучки, частью разбросанные для просушки, источали необычную смесь всевозможных как тошнотворных, так и благовонных запахов, к которым подмешивались оттенки уже готовых зелий. На столике и подставках вокруг расположилось множество разнообразных склянок, колб, бутылей, ступ и мисок. Около печи были разбросаны тигли, сита, и другие реквизиты знахарской лаборатории.
– Вот здесь я и приготовляю мои лечебные снадобья, – с оттенком гордости произнёс Фергал.
Лазариус подивился, не увидев нигде ни святого распятия, ни других божественных символов, как то подобало монастырским притворам. Комната больше напоминала вертеп ворожеи, чем аптекарскую мастерскую или монастырскую комнату. Он укоризненно покачал головой и, тем не менее, встал посреди мастерской и благоговейно сложил ладони. Затем старый монах совершил упрощённый ритуал освящения помещения, состоявший из чтения пяти-шести латинских молитв и осенения висевшим у него на груде старинным серебряным крестом всех стен и углов.
– Благодарствую за вашу милость, отец Лазариус, – сказал молодой монах по окончании обряда и продолжил: – А теперь, умоляю вас, проделайте то же самое в сопредельной с этой комнатке моего хозяйства…
Что-то дрогнуло в голосе молодого монаха, это не укрылось от старца и насторожило его. Однако, он с присущей ему кротостью при свершении благих дел проследовал за Фергалом во вторую комнату. Убранство этого помещения странным образом сильно отличалось от предыдущего и не напоминало ничем лабораторию врачевателя. Соломенный тюфяк на голом полу, кривоногий табурет рядом и бесформенное нагромождение верёвок в углу – вот и всё, что удивлённый Лазариус смог различить при тусклом свете лампы.
– Зачем ты привёл меня сюда, брат Фергал? – хмуро вопросил старец. – Ибо в этой комнате нет и намёка на её благодетельное предназначение. И почему в твоих мрачных чертогах не видно ни святого распятия, ни сакральных образов?
– О, не беспокойтесь по этому поводу, святой отец! В этой келье есть всё, что вам будет надобно в грядущие дни и ночи, – ответил молодой инок изменившимся голосом, не в силах скрыть саркастической улыбки, и сбрасывая порядком надоевшую ему маску благочестия. – А святым изображениям не стоит быть свидетелями не совсем благовидных деяний, коим исполнителем я, увы, избран – правда, видит Бог, не по своей воле.
– Что это значит, низкодушный обманщик? – голос Лазариуса оставался глухим и мрачным. Старец сделал шаг назад к двери.
– Эй, не спешите, отец Лазариус, – произнёс Фергал, преграждая старцу путь к выходу, и тут же не без злорадства выпалил: – Пришло вам время, учёнейший из монахов, расплачиваться за вашу тягу к всезнайству! Как это не прискорбно.
– Думается мне, монах, что ты бредишь, ибо злоба помутила твой рассудок, – огорчённо промолвил старец.
– Ой-ла-ла! – недобро засмеялся молодой инок и уверенно заявил: – Можете быть уверены, мои мысли так же трезвы, как и наш настоятель во время мессы.
– Ежели бы твоё здравомыслие не пострадало, несчастный, ты бы не забыл о последствиях твоего богомерзкого обмана, – продолжил Лазариус. – Ты не разумеешь, что случится, когда братия во главе с отцом-настоятелем узнает о твоём безрассудном поступке.
– Ошибаетесь, праведный отец, – ничуть не смутившись, заметил Фергал. – Вы здесь очутились-то в аккурат по велению церковных властителей. Эх, бедный отец Лазариус, как мне вас жаль. Коли б не ваша безмерная любопытность да желание совать нос в чужие дела, разве я осмелился бы пригласить вас в мои подземные владения! Да вы самый праведный человек, которого я когда-либо встречал!
– Что ты хочешь от меня, подлая душа? – хмуро спросил старый монах, в голове которого промелькнула неожиданная догадка, сильно его огорчившая.
– Как странно! То вы меня называете безумцем, то непочтительно отзываетесь о моей душе, святой отец, – продолжил Фергал. – Ну да ладно, не пристало мне сердиться на святителя моего подвала… А мои намерения просты как вечерняя трапеза в постный день. Если вы позволите, обойдёмся без предисловий. Поведайте-ка лишь, кому из братии вы проговорились о давешнем разговоре, так неразумно вами подслушанном… и, клянусь всеми моими снадобьями, вы будете наслаждаться хорошим обхождением во время, надеюсь, недолгого пребывания в этой уединённой келье и, может даже, не будете серчать на бедного монаха, который лишь добросовестно выполняет поручения.
Наступила мёртвая тишина. Фергал терпеливо ждал ответа старца, который впал в глубокую задумчивость…
«Так вот в чём дело… Я покаялся настоятелю в том, что согрешил против моей воли, а кому будет каяться он – в том, что умышленно не уберёг тайну исповеди?… Тому, кому он её же и раскрыл? – размышлял огорчённо Лазариус. – Ибо только Гамильтоны могли опасаться – ежели бы прознали, – что кто-то услыхал их разговор. И, верно, с согласия архиепископа, а может, и прямого повеления его приор приказал этому злому монаху заключить меня в холодный подвал… Ох, с превеликим трудом могу я поверить, что архиепископ Сент-Эндрюс – такой ревнитель нашей веры, преданность которой он доказывал многие годы, благочестивый иерарх шотландской церкви, которого уважает сам папа, – что он может положить на жертвенный алтарь еретиков своего старого наставника… Ну что ж, теперь ясна причина, по которой примас не пожелал меня видеть и так быстро покинул монастырь: подтверждаются мои утренние думы и мрачные предположения. Увы, видно, недостаточна была сила моих убеждений, раз архиепископ поддался искушению врага рода человеческого… Они, поди, хотят теперь прознать, не поведал ли я кому-либо о содержании услышанного, и поручили сие задание этому негодяю. Что ж, мне нечего таить, ибо ни одной душе я не пересказывал чужих тайн, и я могу сказать правду двоедушному Фергалу. Хотя, кажется, я вскользь упомянул Ронану о некоем услышанном мною разговоре. Но как не пытался он, добрая душа, выведать подробности – скорее из чистых побуждений, нежели из праздного любопытства, – я уберёг его от познания нечестивых секретов. Ибо я сам уже, ой как запачкался, прикоснувшись к этой мерзости, за что всевышним и наказан. И избави Бог чистого юношу от соприкосновения с этой скверной!»
Фергал, по-видимому, воспринял долгое мрачное молчание старца как обмозговывание им способов уклониться от правды и не выдавать тех, кому он уже наверняка проболтался в желании поделиться своим менторским недовольством.
– Отец Лазариус, слышите, как там наверху бьёт колокол к заутрене? Неужели вы не желаете растянуться на этом скромном ложе и в блаженном одиночестве предаться мирному сну, который не будет потревожен несносным храпеньем братьев в дормитории?
Старый монах глянул спокойным взором на своего тюремщика и молвил:
– Почему я должен держать ответ перед желторотым иноком, который и Pater Noster не знает-то? И даже ежели бы я в гневе своём и поведал кому о сути потаённого разговора, который Господь попустил мне услышать, разве смог бы я предать того человека? Сказано в писании: «non loqueris falsum testimonium»24. И коли уж архиепископу хочется знать, не выдал ли я его тайн, то можешь передать, что я слишком уж стар, чтоб бояться смерти, и что тем паче на пороге вечности не хочу отягощать душу грехами – ни большими, ни малыми, – а посему не стану ни лжесвидетельствовать, ни превращаться в доносчика. И в мыслях не держу я предавать людей, которых любил и которым верил… даже ежели они изменили моей вере, да простит их Господь.
– Фу, как-то вы слишком уж мудрёно и запутанно толкуете, святой отец, – несколько озадаченно сказал Фергал, которого уже предложение на латыни, знаемой им не слишком хорошо, могло поставить в тупик. – Мне думается, однако, что вы с помощью замысловатых фраз пытаетесь вывернуться и избежать прямого ответа на мой простенький вопрос. А? Умоляю вас, праведный отец, скажите же, кому из иноков вы обмолвились про эту злосчастную беседу, и я оставлю вас в покое. Клянусь святым распятием!
– Распятием! Ханжа несчастный… В твоём подвале ни одного креста нет! – глухо молвил Лазариус и продолжил сочувствующим и усталым голосом: – Ежели ты этакий скудоумный, что не разумеешь мою речь, – ну что ж, скажу безыскусно: о сути той злополучной беседы никто не услыхал от меня ни слова… Ну, что ещё от меня надобно тебе и тем, кто послал тебя? Я разумею, что твои намерения – оставить старого человека в этом холодном и тёмном подвале. Что ж, запирай дверь и избави меня от твоего мерзкого присутствия. В молитве я найду умиротворение души моей.
– О-ла-ла! Не спешите от меня избавиться, святой отец. А так ли то, в чём вы желаете меня убедить? – усомнился Фергал. – Почему же я должен вам верить?… А ну-ка поклянитесь на вашем кресте, что вы, и впрямь никому не обмолвились ни единым словом. Тогда поверю вам.
– Ты вопрошаешь-то подобно тем фарисеям, которые от сына Божьего чудес требовали, дабы уверовать, – сострадательным тоном молвил Лазариус, вздохнул и сказал: – В жизни я не клялся ничем перед людьми, лишь Господу обеты давал.
– Так-так-так! – произнёс Фергал, прищурив глаза. – Похоже, правильно я сделал, что не доверился вашим словам, благочестивый Лазариус. Коли вы не желаете ваши уверения подкрепить клятвой, то, мнится мне, вы надеетесь обвести меня вокруг пальца… Ну, конечно же!… Эх, и как вам, право, не стыдно, святой отец – я ж ведь вас просто боготворю! А вы вон как. Но не нашлось доколь такой лисы, которой удалось бы меня перехитрить.
Лазариус, всё более удивляясь бесстыдству молодого инока и оставив попытки вразумить того, сложил руки на груди и твёрдо произнёс:
– Делай, что хочешь, нечестивец. От меня ты более ни услышишь ни слова.
А молодой монах и в самом деле был уверен, что старец что-то скрывает.
«Чего-то он не договаривает, – размышлял Фергал. – Иначе, почему этот святоша не хочет божиться?… Видать, придётся прибегнуть к более суровым мерам, как бы мне не хотелось этого избежать. Ну что ж, как-никак он сам со своим глупым упрямством в этом виноват… Но одобрит ли такие мои действия отец-настоятель? Впрочем, ежели я добьюсь от старика правды, то это искупит моё чрезмерное усердие. К тому же, можно вообще не говорить, каким способом я заставил Лазариуса развязать язык. И вряд ли он будет жаловаться кому бы то ни было, устрашённый недовольством архиепископа и настоятеля касательно его чрезмерного любопытства… А ежели он ненароком отдаст Богу душу – а это было бы не так уж и плохо для всех, – можно будет отнести это несчастье на почтенный уже возраст старика. В любом случае я войду в ещё большее доверие к архиепископу и его прислужнику настоятелю, из чего уж я-то найду возможность извлечь выгоду для себя. Но откуда в этом слабом тщедушном теле столько упрямства? Ну что ж, для строптивцев я знаю одно верное средство. Эх, бедный Лазариус».
Фергал выбрал из кучи верёвок в углу одну из самых прочных и крепко накрепко связал руки не оказывавшему никакого сопротивления старцу, который, продолжая хранить молчание и закрыв глаза, равнодушно и безропотно отнёсся к действиям своего мучителя. А тот перекинул верёвку через торчавшие из стены поржавелые крючья, и натянул её таким образом, что старый монах оказался подвешенным как туша подстреленной на охоте лани (наверное, крюки в стене для этого когда-то и предназначались). Руки старика вытянулись вверх, натянутые крепкой верёвкой, а ноги едва касались земли. Рукава рясы упали вниз, обнажив худые руки старца, в то время, как из под её подола показались такие же худые старческие ноги, обутые в поношенные сандалии.
– Заклинаю вас, отец Лазариус, облегчите мои душевные страдания. При виде ваших физических мук, кои я вынужден вам причинять, ей богу, у меня просто сердце кровью обливается, – взмолился Фергал.
Старец приоткрыл глаза, в которых не было страха, а только глубокая печаль, и произнёс еле слышно:
– Отдаю себя в руки Господа! Как ты распорядишься, отче наш, так и будет. Безропотно приму волю твою.
Поскольку произнесено это было на латыни, Фергал мало что понял и от этого только разозлился:
– Вы даже на дыбе, святой отец, считаете себя умнее других и желаете свою учёность показать! Не видите разве, куда она вас привела-то? Ну, говорите же!
Не обращая внимания на своего мучителя, Лазариус снова закрыл глаза и принялся читать про себя святые тексты из писания, пытаясь сосредоточиться на молитве и отрешиться от всего внешнего.
– Ах, так! Молчите! – всё более распаляясь, воскликнул Фергал и потянул за верёвку.
Ноги старца оторвались от земли, сухожилия рук натянулись, готовые разорваться, а в суставах плеч раздался зловещий хруст. Продержав Лазариуса в таком положении несколько мгновений, цербер ослабил верёвку, и сандалии старца снова коснулись пола. Молодой монах взглянул на лицо своей жертвы и крайне удивился, ибо ни одна чёрточка его не исказилась гримасой боли, как того следовало бы ожидать, хотя Лазариус и был в сознании, судя по напряженным мышцам его шеи и поднятой голове.
– Вам, видать, сам дьявол помогает: в ваших-то летах такие муки терпеть, – изумился Фергал. – Но посмотрим, как долго вы сможете выносить эти страдания. Помнится, у нас в селении таким манером пытали захваченного вора из разбойного племени Детей тумана. Так у него-то быстро язык развязался, и он рассказал и со всеми подробностями про намерения своих сообщников и куда они скот упрятали.
Тут истязатель снова натянул верёвку и поднял старца над полом на несколько дюймов и держал уже дольше – до тех пор, пока волна судорог не пробежала по лицу Лазариуса.
– Ага! – довольно воскликнул Фергал, ослабляя верёвку. – Проняла вас боль наконец-то, святой отец. Ну, что же вы молчите как изваяния святых у меня в трапезной? Иль ещё разок желаете поближе к небесам взлететь?
Однако, Лазариус уже его не слышал. Голова его поникла, тело бесчувственно обмякло и не упало лишь благодаря удерживавшей его верёвке.
– Эй, отец Лазариус! Такового уговора у нас не было, – встревожился Фергал, опуская тело своей жертвы полностью на пол.
Проверив сердцебиение у старика и убедившись, что тот жив, его истязатель облегчённо вздохнул и сказал сам себе:
– Похоже, упрямый святоша вознамерился скорее на небеса отправиться, чем вымолвить хоть слово. Да ведь так оно и будет, не вынесёт долго его дряхлое сердце телесных мук. А говоря начистоту, не хотел бы я, чтоб он от моей руки помер. Но что же придумать?… Постой-ка, брат Галлус (и чудно же меня настоятель прозвал!) Так ведь был у меня один порошок. Старуха научила меня из ржаных колосьев его делать; но только в тот год можно его приготовлять, когда антониев огонь среди людей распространяется. Где-то у меня запасец оставался. Впрочем, впору его и пополнить. Узнать бы только в каком местечке ведьмина корча появилась.
Фергал чуть подтянул верёвку, снова поместив бесчувственного старика в вертикальное положение, закрепил её и покинул темницу…
Было уже далеко за полночь, когда молодой монах вернулся в узилище Лазариуса. Старец также бесчувственно свисал вдоль стены. Фергал растёр ладонями какую-то травку и поднёс резко пахнувшие руки к ноздрям своей жертвы и, когда через некоторое время увидел, что узник приходит в себя, сказал умоляюще:
– Отец Лазариус, очнитесь. Моя душа не может безучастно созерцать ваши мучения. Сострадание переполняет моё сердце. Я даже ослаблю верёвку, чтобы вы могли вытянуть ноги на полу… Вот так… А теперь глотните живительной воды, которую я приправил рябиновым сиропом.
С этими словами Фергал приложил к иссохшим губам старика кувшин с водой, который измученный Лазариус, будучи в полубесчувственном сознании, безотчётно опорожнил почти наполовину. Глаза старца медленно открылись. Он обвёл недоумённым взглядом помещение, силясь вспомнить, что с ним приключилось и как он здесь оказался, попытался пошевелить онемевшими руками. Резкая боль в измученных старческих суставах окончательно привела Лазариуса в сознание, что подтвердил непроизвольно вырвавшийся у него стон.
– А теперь я позволю вам, святой отец, отдохнуть часик, пока мой чудесный эликсир благотворно не подействует на вашу утомлённую память и способность к речи, – сказал знахарь, довольно потирая руки.
Фергал не покинул темницу на этот раз, а остался напряжённо ждать, наблюдая за Лазариусом и силясь определить, когда проявится действие зелья. Тем временем полулежащий на полу старый монах сомкнул глаза и, казалось, вновь впал в полуобморочное забытье…
Прошло довольно много времени, ничего не менялось: в каземате слабо мерцала лампа и стояла мёртвая тишина; старец с поникшей головой бесчувственно сидел на каменном полу, вытянув ноги и привалившись к стене, а верёвка удерживала вверху его связанные руки; молодой инок же, подогреваемый давней нелюбовью к Лазариусу, не спускал глаз с лика своей жертвы. «Боюсь, кабы не слишком большую дозу я дал старику, – подумал Фергал. – Уж больно долго ничего не происходит. Как бы не помер, прежде чем я из него правду вытяну. Что я тогда отцу-настоятелю скажу?»
Знахарь поднялся с табурета и подошёл к старцу с намерением попробовать его пульс. И в это мгновение по лицу Лазариуса пробежал судорога. «Ага, действует!» – обрадовался Фергал. Он снова с помощью проверенного средства – травы с неприятным резким запахом – привёл в чувство старого монаха. Лик жертвы претерпел странные изменения: зрачки глаз беспорядочно блуждали по своим орбитам; взгляд ни на чём не задерживался; на лбу, несмотря на подвальную прохладу, выступила лёгкая испарина. Но ещё бо льшие метаморфозы претерпело выражение лица Лазариуса: вместо скорбной суровости, усугублённой душевными муками и физическими страданиями, на нём гуляла странная глуповатая улыбка.
Фергал нагнулся поближе к старому монаху и спросил:
– Что же вы сейчас ощущаете, отец Лазариус?
– О, горний ангел, ужели я на небесах? Ибо такое райское блаженство возможно только там, – с упоением в голосе ответил старец.
– Можете считать, святой отец, что вы уже в эдеме, – уверил его Фергал. – Здесь, правда, ещё темно, потому что ночь. Но скоро взойдёт солнышко и запоют райские птички. А с ними заодно и вы будете голосить. Ведь, правда?
– О, да, благостный херувим, – вторил одурманенный зельем старец. – Мой глас присоединится к восхвалениям всевышнего.
– А там, на грешной земле, кого вы пуще всех чтили, святой отец? – знахарь попытался разбудить память старика. – Кого более любили и уважали?
– Я всегда чтил только Господа Бога нашего, Матерь Божию, всех святых угодников и Сына Божьего, – послушно отвечал старый монах.
– А из людей к кому вы более всего благоволили, с кем делились сокровенными думами? – продолжал гнуть своё Фергал.
– Ах, люди… – блаженным голосом тянул Лазариус. – Они там, далеко, погружённые в свои печали и тревоги. О, ежели бы только они ведали, какое наслаждение обретут здесь на небесах! Тогда оставили бы всё грязные дела и помыслы свои, чтобы унаследовать царство небесное и обресть вечную благодать.
«Тьфу, мерзкий старик, – думал Фергал, теряя терпение. – О божественном всё мысли его. Возомнил, что уже в рай попал. Разумеется, очень хорошо, что моё снадобье сработало. Однако ж, надобно его мысли к земному вернуть. Что ж, попробую по-другому».
– Внемли мне, Лазариус! – играя роль серафима, громко и торжественно провозгласил молодой монах. – В последний день земного бытия ты влил отравленное знание о подслушанной беседе в уши своих братьев! Назови имя их и да простится грех твой!
Старец растерянно заморгал глазами и на его безвольном лице промелькнула тень испуга.
– О, горний ангел! – запинаясь, проговорил он. – Никому не излагал я тех крамольных слов. Лишь мельком, малую толику упомянул юному Ронану, желая избавить его душу от отравы ядовитых словес, но не пересказал ему ни звука. Ужели, небесный херувим, согрешил я этим?
– Ронану! – изумлённо воскликнул Фергал и подумал про себя: «Как же я сразу об этом не подумал! Он-то ведь покинул монастырь вчера утром и, конечно же, встречался с Лазариусом перед отъездом. Но он уж далеко и ничто ему, к сожалению, не угрожает. Ну да не всё ещё потеряно… До рассвета ещё пара часов. Вздремну чуток и к настоятелю за письмом…
После второй заутрени, когда монахи дружно собирались в трапезной к завтраку, а приор монастыря Пейсли менял облачение в своих покоях, перед ним вдруг вынырнула фигура Фергала.
– Отец-настоятель, моя лошадка уже осёдлана и я зашёл получить письмо для герцога Шательро, про которое вы давеча говорили, – улыбаясь, сказал молодой монах.
– Ах, брат Фергал, это ты! Я право и не слышал, как ты вошёл, – удивился приор.
– Секретные дела надобно делать тихо и незаметно, – рассудил молодой монах. – Вот я и стараюсь быть невидимым сродни приправе к похлёбке, которую приметить невозможно, а вкуса она прибавляет, или же подобно ветру в пустоши, которого не видать, а траву он гнёт и идти мешает. Мне думается, такое умение полезно для выполнения тех поручений, кои вы доверили мне выполнить.
– Может оно и так, может и так, – продолжал приор. – Как поживает брат Лазариус? Не обеспокоены ли братья его исчезновением?
– О, отец-настоятель, – ответил Фергал, – святой отец устроен с полными удобствами, насколько это позволяет мой подвал, хе-хе. А братии я намекнул, что вероятно Лазариус отбыл на несколько дней в Глазго по приглашению тамошнего епископа. И, кажется, это усыпило их беспокойство.
– Ну, слава богу! – облегчённо вздохнул приор. – Мы избежим, таким образом, ненужного роптания наших монахов, кое, несомненно, возникло бы, узнай они, где на самом деле находится старец… А скажи-ка, брат Фергал, не поведал ли тебе брат Лазариус кому он рассказал о…, ну, в общем, знаешь о чём?
– Поверьте, отец-настоятель, разными хитрыми способами я пытался выведать это у старика. И я таки уразумел, что никому из братии отец Лазариус об этом ни проговорился.
– Ну что ж, может, оно и к лучшему, – молвил монастырский начальник, которому явно полегчало от этой вести. – Вот тебе письмо к регенту. Путь тебе предстоит не близкий, но до заката до Стёрлинга доберёшься, ежели ничто по дороге не задержит. Ступай, брат Фергал. Да поможет тебе святой Мирен!
Глава VII
В покоях регента

Как и говорил отец-настоятель, путешествие в Стёрлинг заняло у Фергала целый день и даже маленькую толику ночи, ибо дорога была молодому монаху незнакома и он вынужден был часто останавливаться и добродушно спрашивать у местных жителей, правильно ли он движется. Ни у кого из встречных, будь то крестьянка или ремесленник, бродячий торговец или возвращавшийся домой ратник, не возникало желания отказаться помочь доброму иноку. Брат Галлус благословлял в ответ своих проводников, что монахи умели делать мастерски во все времена.
Стоит заметить что в это время простой люд ещё сохранял видимость благочестия к представителям католической веры, но внутри шотландского народа уже давно зрело недовольство богатством монастырей и, как ему небезосновательно казалось, праздным образом жизни самих каноников. Алчность одних, завистливость других и фанатичность третьих предоставляли лишь недолгую отсрочку благополучному монашескому бытию. А пока что инок мог безбоязненно путешествовать по стране. Хоть к седлу Фергала и была прикреплена для видимости деревянная дубинка, но она ему так и не понадобилась.
В дороге у монаха было достаточно времени, чтобы поразмыслить над последними событиями в монастыре Пейсли, в которые он оказался вовлечён. Фергал не был столь наивен, чтобы не догадаться, что услышанный Лазариусом тайный разговор касался архиепископа Сент-Эндрюса, и, вероятнее всего, он и был одним из его участников; а разглашение того, что услышал старый монах, несло в себе большую опасность для примаса шотландской церкви. Но кто мог быть другим участником беседы, этого Фергал не знал и только строил догадки.
«Можно было бы предположить, что то был сам Шательро, – размышлял монах, – ежели бы он каким чудом перенёсся из Стёрлинга в Пейсли и обратно, чтоб обтолковать с братцем их политические делишки. Однако, сколь мне ведомо, никто намедни в монастырь не приезжал, окромя самого архиепископа со скромной свитой. И сразу же, как мне было поручено запрятать Лазариуса в подвал, Сент-Эндрюс тотчас отбыл, не проведя в обители и суток… А впрочем, появлялся ведь в монастыре ещё приспешник регента, этот Фулартон, который мнит себя моим благодетелем. Его приезд, должно быть, не случайно совпал с прибытием Сент-Эндрюса. Значит, есть некая связь между событиями прошлой ночи и обоими братьями Гамильтонами. По крайней мере, Шательро, к коему я направляюсь с письмом от его братца архиепископа, в них каким-то образом вовлечён… Эгей, дружище Фергал! Постой-ка. Но тебе-то ведь ведомо, как к регенту подобраться! Ой-ла-ла! Да к тому же, я и сам в накладе не останусь. Разумно же я сделал, что настоятелю ничего не поведал. Он, простак, всего лишь мелкая рыбёшка – форель, которая себя акулой мнит. Форель-то я по-разному готовить умею: и в углях запекать, и над огнём кусочки поджаривать, и коптить ароматно и солить с пряностями, а вот с акулами дела иметь не доводилось. С ними себя надо поосторожней вести, чтоб от острых зубов уберечься».
Такими мыслями и им подобными развлекал себя Фергал всю дорогу, готовясь к встрече с регентом. Уж когда солнце опустилось за горизонт, оставив после себя лишь слабые блики ушедшего дня в западной части небосклона, посланец поднялся на огромную высокую скалу, у подножья которой раскинулся сам город и на которой высилась тёмная громада крепости Стёрлинга, и подъехал к воротам королевского замка. Поначалу стража не хотела пускать подозрительного монаха, путешествующего в ночи и утверждающего, что несёт послание его сиятельству герцогу Шательро. На все уверения Фергала привратники отвечали смехом и издёвками.
– Давай сюда твоё письмецо, – потребовал один из стражников. – Я сам отнесу его регенту. Нечего такому неприметному монашку в роскошном дворце делать и вельможам глаза мозолить!
– Э нет, сэр зубоскал, – возразил посланец и заявил никак не шедшим иноку тоном: – На этом письме печать самого архиепископа Сент-Эндрюса! И посмотрел бы я на твою жалкую физиономию, когда его брат регент узнает, какие вы мне тут препоны чинили, да прикажет тебя в лучшем случае в подметальщики перевести, а то и вовсе за ворота выставить или в темницу бросить.
Охранник, не ожидавший такого ухарства от неприметного, совсем молодого монаха, поворчал, покряхтел и отправился во дворец с докладом. Через некоторое время он вернулся и с большой неохотой отвёл монаха в покои, занимаемые в те дни регентом…
Джеймс Гамильтон только что вернулся от королевы-матери и по своему обыкновению держал совет с сэром Фулартоном из Дрегхорна, который всегда старался оказаться рядом, когда в нём была необходимость.
– Какая жалость, что эта женщина после смерти короля Иакова не вернулась во Францию, где её с радостью бы встретили братья Гизы, – сетовал регент. – Ведь в её брачном соглашении с Иаковом так и было обговорено, что в случае смерти короля она должна вернуться на свою родину.
– Так-то так, мой лорд, – сказал в ответ Фулартон. – Однако же, в том договоре было обусловлено, что ежели останется наследник трона, то ей надлежало бы стать регентшей. И коли бы не блестящая идея обвинить Битона в подделке завещания Иакова Пятого, то так бы оно и случилось.
– Любопытно, откуда ты всё знаешь, всеведующий Фулартон? Ты в то время, надо полагать, был ведь совсем юнцом.
– Ну, знаете ли, мой господин, я чай учился не только грамоте и воинскому мастерству, – отвечал ординарец. – А история прошлого меня завсегда интересовала: как недалёкие времёна, когда я был ещё ребёнком, так и стародавние, особенно период правления Роберта Первого, когда мой предок и был назначен королевским ловчим и наш род приблизился к высотам власти.
– Вновь ты про своего предка-ловчего, сэр ординарец! Сколько же можно?… Лучше ответь, почему ты полагаешь, что кардинал на самом деле не изготовил фальшивое завещание?… Ну да ладно, что толку говорить о давно минувших днях. Не лучше ли предать их забвению, а? – Шательро решил уклониться от скользкой темы. – Меня более беспокоит мой брат Сент-Эндрюс. Я использовал всё своё красноречие, чтобы убедить его пойти на переговоры с реформистами, но не чувствую себя уверенным, что мои доводы подействовали в полной мере.
– Время покажет, ваше сиятельство, – рассудил ординарец. – Выждите немного… Между прочим, я встретил вечером во дворе ратников лорда Эрскина. Их нетрудно было узнать по белому гербу с чёрной полосой посредине. Верно, сэр Джон пожаловал ко двору. Интересно, с какой стати? Уж не хочет ли он за вашей спиной вести переговоры с королевой-матерью?
– Не думаю. Полагаю, что причиной является не гаснущее извечное желание Эрскинов получить графство Мар, – ответил регент. – Странно, что Мари к нему так благоволит, хотя лорд Эрскин и придерживается других религиозных воззрений.
– О, сэр Джон это хитрая лисица и ведёт себя выжидающе, открыто не заявляя о своих протестантских убеждениях, – заметил ординарец. – Надо думать, пока королева-мать обладает значительной властью, он будет вести умеренную политику, чтобы попытаться добиться от неё того, чего Эрскины вожделеют уже полтора столетия…
В таком духе протекала беседа между уставшим от дневных забот Джеймсом Гамильтоном и его неутомимым ординарцем, когда в покои вошёл паж и доложил, что стражник привёл монаха, посланника от архиепископа Сент-Эндрюса.
– Пусть его впустят, только предварительно обыщут, нет ли при нём оружия, – приказал регент и, когда паж удалился, добавил, обращаясь к ординарцу: – Осторожность превыше всего. А ты, сэр Фулартон, укройся-ка лучше за портьерой. Надеюсь, архиепископ внял доводам разума…
Вскоре дверь открылась и в комнату тихо и как будто робко вошёл Фергал. Он почтительно поклонился регенту, хотя по обычаю монахи не должны были кланяться перед мирянами, какое бы высокое положение они не занимали, за исключением разве что коронованных особ.
– Подойти ко мне, святой отец, и подними свой капюшон, чтобы я мог увидеть лицо благочестивого монаха из аббатства Пейсли, – произнёс регент.
– Ваша светлость, – отвечал инок, открывая рябое лицо и опуская глаза долу, – позвольте мне отдать должное вашей проницательности, раз вам наперёд ведомо, что я прибыл из Пейсли, а не из Сент-Эндрюса или же Эдинбурга, где мог бы пребывать его преосвященство.
Регент закусил губу, поняв, что допустил промах, но потом подумал, что перед ним всего лишь какой-то монашек. Он внимательней взглянул на посланца, на его подобострастную улыбку, на избегавшие взгляда регента глаза, нахмурил брови и произнёс:
– Ты очень молодо выглядишь, святой отец. Как тебя зовут и чем ты докажешь, что прибыл от его высокопреосвященства архиепископа Сент-Эндрюса?
Посланник смиренно улыбнулся и ответил:
– А звать меня брат Галлус, с вашего позволения. Правда, чаще меня называют брат Фергал, или же просто Фергал. А истинность моего поручения подтвердит вот это письмо.
Инок извлёк из широких складок своей рясы документ и передал его регенту. Шательро взглянул на печать архиепископа, сорвал её и пробежал послание глазами. По мере чтения письма на лице Джеймса Гамильтона попеременно выражались разнообразные чувства, которые он не считал нужным прятать от какого-то там жалкого монаха. Сначала на нём появились признаки беспокойства и тревоги, на смену которым пришли досада и разочарование. В конце же чтения его неожиданно ставшие злыми глаза метали гневные молнии. Вспомнив о присутствии брата Галлуса, регент сказал тому надменно:
– Если архиепископ ничего более не велел передать, то я тебя более не задерживаю, монах. Дворцовая челядь о тебе позаботится.
– Ваша светлость, – сказал Фергал, даже не сделав вида, что хочет уйти, – хоть мне, скромному иноку не ведомо, о чём написали вам его высокопреосвященство, – и боже упаси меня от познания чужих тайн! – однако мне кажется, что те сведения, коими я владею, могут быть связаны с содержимым письма и оказаться весьма вам интересны…
Регент удивлённо посмотрел на нахального монаха, имевшего наглость вмешиваться в его дела, и хотел было приказать слугам немедленно выставить его вон, но любопытство – черта, присущая в той или иной мере всем людям, – взяло своё и Шательро сказал:
– Сильно я сомневаюсь, что ты, монах, можешь иметь хоть толику представления о тех архисложных темах, кои обсуждаются первейшими сановниками королевства. Но чтобы не выглядеть неблагодарным за выполненное тобой поручение архиепископа, я позволю тебе высказать твои знания, кои ты считаешь, будут мне якобы полезными.
На это Фергал поднял глаза, таинственно взглянул на сановника и медленно с расстановкой произнёс:
– Мне ведомо, что кто-то прознал о некоем секретном разговоре, состоявшемся недавно в чертогах монастыря Пейсли…
– Тебе? Простому монаху?! – вырвался возглас удивления у регента. Затем, взяв себя в руки, он продолжил: – Мне, право, непонятно, о чём ты ведёшь речь, Фергал – так, кажется, твоё имя.
– Хм… В таком случае прошу извинить меня, ваша светлость, – с напускной наивностью ответил посланец. – Значит, я заблуждался в значимости моих сведений для герцога Шательро. Тысячу раз прошу прощения.
Фергал склонился и сделал движение в сторону двери. Его смиренный взгляд был направлен вниз, а посему он не заметил, как колыхнулась портьера. Но это движение драпировки как будто от порыва ветра, прорвавшегося сквозь прощелину в окне, не ускользнуло, однако, от Гамильтона.
– А ты меня право заинтриговал, монах, – сказал он, останавливая Фергала. – Мне нравится порой развлечь себя на досуге старинными легендами и преданиями. Так что я, пожалуй, послушаю, что тебе известно о неразъяснимых загадках монастыря Пейсли и тайнах, которые скрывают его древние стены.
– Может его стены и старинные, ваша светлость, – начал монах вкрадчивым голосом, – но тайны очень даже свежайшие как только что приготовленный миндальный пудинг из вишни. Солнце не поднималось ещё и трёх раз над грешной землёй после того, как один очень уж любопытный брат той святой обители подслушал некую важную и потаённую беседу. О чём шёл разговор тёмной ночью в монастырских чертогах известно, понятное дело, тем, кто его вёл, и тому, кто его подслушал. Но есть ещё четвёртая персона, которая, надо полагать, тоже ведает обо всём происшедшем…
Фергал сделал паузу, чтобы взглянуть, какой эффект его слова произвели на регента. Гамильтон был хмур и задумчив.
– Так кто же этот чересчур любознательный монах, – спросил он, – и то, четвёртое таинственное лицо, которое, как ты утверждаешь, тоже знает про суть всей этой мистерии?
– Имя того, сующего свой нос в чужие дала инока известно архиепископу Сент-Эндрюсу, раз оно стало ведомо и мне. Ибо я не посмел бы шпионить за кем-либо, а тем более за своим владыкой. Инок подобно мне грешнику, ставший на стезю благочестия, не может быть гнусным соглядатаем, – ответил Фергал.
– Что это за игра в кошки-мышки, монах?! – нетерпеливо воскликнул Шательро. – Не советую испытывать моё терпение. Разве тебе не ведомо, что благосклонность сильных мира сего может в одночасье превратиться в опалу? Я так разумею, ты – малый смышлёный, которому не требуется говорить, чем грозит моя немилость.
На лице Фергала появился испуг и он пролепетал:
– Да разве я осмелился бы утаить от вашей светлости хоть мельчайшую подробность всей этой истории? Мне и известно-то – кроме того, о чём я уже поведал, – только, что монаха того любознательного звать брат Лазариус, а человек, коему он всё разболтал, это один молодчик по имени Ронан Лангдэйл, сын барона Бакьюхейда.
– Лазариус? – переспросил регент и припомнил, что это имя назвал его брат во время их ночной беседы. – Барона Бакьюхейда? – снова повторил Джеймс Гамильтон и его взгляд стал ещё более мрачным. – Ну, что ж… Впрочем, я уверен, Фергал, что тебе ведомо и о том, где сейчас находятся оба эти человека, так неразумно завладевшие чужими секретами и способствующие распространению подстрекательских слухов.
– От вашей светлости, от управителя государства у меня нет тайн и я готов рассказать всё как на исповеди, – охотно ответил молодой монах. – Что до Лазариуса, то старец услаждается блаженным одиночеством в запрятанной в монастырском подвале келье, а вот с местонахождением Ронана меньше у меня уверенности, ибо давеча он отправился из Пейсли в свой родовой замок Крейдок и, поди уж, там он сейчас и находится.
– А что, действительно, отец Лазариус такой уж дряхлый? – спросил регент.
– А то как же! – уверил Фергал. – Он также стар как прошлогодняя овсянка и весь покрылся плесенью подобно куску ржаной лепёшки, забытой в сыром лесу.
– Полагаю я, что этот монах уже долго пожил на белом свете, – хмуро молвил регент. – Многие верные шотландцы отдают жизнь за свою родину в гораздо раннем возрасте… Как ты считаешь, Фергал?
– Целиком и полностью согласен с вашей светлостью, – ответил посланник, польщённый вопросом о его мнении.
– Было бы неплохо, – продолжил Шательро, – ежели бы никто не стал задерживать неумолимое течение времени и мешать старцу своевременно, без излишней задержки предстать пред престолом божьим.
Джеймс Гамильтон посмотрел на монаха, желая узнать, понял ли тот его намёк.
– Смею заверить вашу светлость, что старик уже и так находится между землёй и небесами, – сказал Фергал. – И достаточно лишь маленького дуновения ветерка, чтобы вознести его ввысь.
Монах в свою очередь вопросительно глянул на герцога.
– А я смею заверить тебя, – произнёс регент в ответ, – что скоро поднимется такая буря, сметающая всё на своём пути, от которой можно будет укрыться лишь в тихой гавани благосклонности сильных мира сего. Я гарантирую твоё благополучие, ежели… ежели ты будешь следовать моим советам и указаниям.
– О, ваша светлость! У вас не будет более преданного слуги чем я, – заверил монах.
– Надеюсь, благочестивый Фергал, мы поняли друг друга, – молвил Шательро. – Я напишу ответное письмо настоятелю монастыря, дабы он прислал тебя через несколько дней обратно. Полагаю, в следующий раз ты привезёшь более приятные вести.
– Сделаю всё для этого, ваша светлость! – с готовностью ответил монах, склоняя голову и удаляясь из регентских покоев…
Когда за Фергалом закрылась дверь, из-за портьеры появился Фулартон из Дрегхорна.
– Ну, что ты думаешь обо всём услышанном? – спросил его Джеймс Гамильтон.
– Что я думаю?… Разумеется, мой лорд, дело осложняется, – ответил ординарец. – Зря вы не вняли моему совету подождать, пока время сведёт вас с братом в Эдинбурге… Однако же, не всё ещё потеряно. Монах – будь он неладен, – который подслушал ваш разговор с братом, насколько я понял из слов этого монашка, изолирован и помещён в подвальную келью… или каземат – называйте это как вам угодно. Труднее будет со вторым – как его… Ронаном, сынком Бакьюхейда… С позволения вашего сиятельства, я займусь этим малым.
– Да, этот отпрыск Бакьюхейда представляет для нас большую угрозу, – сурово молвил Гамильтон. – Наверняка он также несговорчив и упрям, как и его отец… Только пусть всё будет облечено видимостью законности. Я полагаюсь на твою одарённость ко всякого рода хитрым проделкам… Но ты ещё не знаешь, о чём написал мой брат архиепископ! Каким-то образом он узнал, что наш с ним разговор был подслушан этим самым Лазариусом. Он трусливо испугался и уехал в Сент-Эндрюс. Но самое ужасное, что этот страх стал для него ещё одним доводом против моих замыслов! В итоге, все мои усилия завлечь его на сторону реформистов или хотя бы попытаться договориться с ними оказались напрасны. А всё из-за этого гнусного монаха Лазариуса! Чёрт бы его побрал!
– Ну, разве я был не прав, – сказал Фулартон из Дрегхорна,- когда убеждал вашу светлость, что монастыри католические есть рассадники грехов человеческих. Только подумать, святые отцы занимаются такими низостями, как подслушивают, клевещут, наушничают! А ходят слухи, в правдивости коих я мало сомневаюсь, что там свершаются и более богомерзкие и гнусные вещи, о которых и говорить-то язык не поворачивается.
– Полагаю, вскорости, по крайней мере, на одного мерзкого монаха меньше станет, – произнёс регент. – Похоже, уж очень рьяно этот Фергал мой намёк воспринял.
– Ну и что с того? – пожал плечами ординарец. – Вот ежели вы открыто провозгласите о своих реформистских убеждениях, несдобровать тогда всем монахам-толстопузам с их папскими монастырями!
– Ты забываешься, сэр ординарец, – строго сказал Шательро. – Ты как будто запамятовал, что мой брат всё же является шотландским примасом, верховным владыкой всех обителей по эту сторону Твида… Не стоит мне с ним конфликтовать, даже несмотря на его фанатизм и несокрушимую, пока ещё, приверженность римской церкви… Я полагаю, надо на время отложить наши планы, пока всё не уляжется. Тем временем ты уберёшь с дороги сынка Бакьюхейда, а старый монах, надеюсь, отдаст богу душу, сам или по чьей-то убедительной просьбе – не всё ли равно. А потом я подумаю, какие подходы найти к архиепископу – всё же есть у него некие слабые места, чересчур он любит размышлять…
Глава VIII
Вознесение
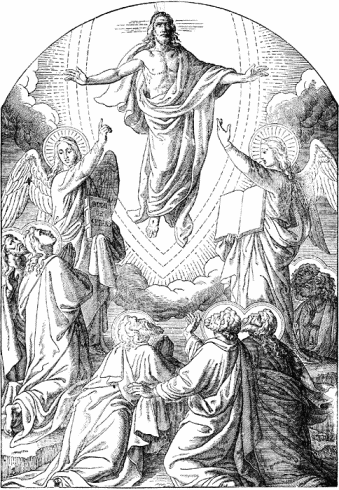
Оставим в замке Стёрлинга шотландского регента герцога Шательро и его сателлита сэра Фулартона из Дрегхорна обсуждать их политические планы и схемы, в которых так сложно переплелись разнообразные интересы многих влиятельных шотландских кланов и дворянских фамилий тех дней, а также строить хитроумные интриги – неизменные спутники политики всех времён и государств, и снова вернёмся к молодому, но смышлёному и изобретательному монаху по имени брат Галлус.
На следующий день ещё засветло довольный Фергал возвращался в Пейсли. Да и в самом деле, всё у него складывалось как нельзя лучше. Он сумел натравить гнев регента на Ронана, заставив Шательро поверить, что молодой Лангдэйл всё знает и поэтому представляет угрозу безопасности и благополучию Гамильтонов. Одновременно молодой монах заручился поддержкой первого сановника королевства в своём не совсем радушном обхождении с Лазариусом, могущим закончиться, как это ни печально, гибелью последнего.
Впрочем, к старцу Фергал испытывал двоякие чувства. Несмотря на всю свою неприязнь к учёному монаху, молодой инок был не столь жестокосерден, чтобы желать погибели ни в чём не повинному старику. С одной стороны, Фергал не хотел становиться виновником смерти старца; он помнил тот обуявший его ужас, когда в корчах умирал брат Эмилиан. Но с другой стороны, молодой монах понимал, что уже сунул палец в пирог и что если он не поспособствует препровождению Лазариуса в мир иной, то сам в полной мере испытает гнев регента и даже может поплатиться головой. А потому, чтобы снискать благоволение Шательро, которое позволило бы Фергалу извлечь для себя немалую выгоду и приблизиться к своей заветной цели, молодой монах, как ни жаль ему было отца Лазариуса, должен был выполнить пожелание регента.
Брат Галлус продолжал размышлять над тем, как бы лучше угодить Шательро и с наименьшими укорами для своей совести, когда он завидел монастырские стены. За два дня его отсутствия ничто здесь, похоже, не изменилось: так же над всей округой величественно высился собор, шумела зелёная листва монастырского сада, плескалась вода, ворочая колёса мельницы на берегу речки, мирно копошились на полях крестьяне, весело плыли по небу пушистые облака. Похоже было, что такая умиротворённость будет вечно царить в этом месте.
Но созерцая эту безмятежную картину, молодому монаху подумалось, что на самом-то деле не всё так беспечально внутри монастырский стен. Его мысли вновь вернулись к Лазариусу, и до него вдруг дошло, что, уезжая, он оставил старика привязанным к стене, без воды и пищи, в тёмной и холодной подвальной комнате, и что сейчас он, возможно, найдёт уже окоченевший труп старого монаха. Впрочем, такое предположение не сильно смутило Фергала, который если и пожалел о своей забывчивости, то лишь для того, чтобы тут же вспомнить грозный вид регента.
«Ну, и то хорошо, ежели мне не придётся больше созерцать мучения благоверного старца, – подумал он. – Достаточно мне было треволнений с бедолагой Эмилианом, который поплатился за своё обжорство, проглотив похлёбку проклятого Ронана. К счастью, ни у кого тогда не хватило ума что-либо заподозрить… А ныне – ой-ла-ла! – и регент будет доволен – он, похоже, тоже сунул палец в этот пирог, да увяз в нём по самый локоть, – и у отца-настоятеля на душе легче станет как после кубка хорошего рейнского. Может быть, только братия погорюет немного о старике, да забудет вскорости, как забыли все брата Эмилиана. Да Лазариус и был-то уж очень старым, не всякому дано до такого возраста дожить. Только вот для приора надо будет представить всё дело так, будто старик помёр ну… скажем, от угрызений совести, кои не смогло вынести его дряхлое тело».
Рассудив таким образом и чуть успокоив свою совесть, Фергал, увлекаемый любопытством, сразу, даже не заглянув на монастырскую поварню, отправился в своё подземное царство выяснить, что сталось с Лазариусом. Он зажёг лампу и спустился вниз по сырым каменным ступеням…
В тёмном подвале, как и раньше, царила гробовая тишина; массивная дверь темницы Лазариуса была по-прежнему закрыта на прочный засов. Да иначе и быть не могло – ключи-то от подвала ведь были только у него. Монах постоял мгновенье перед дверью каземата, представлявшуюся ему в этот момент не иначе как вратами преисподней, за которыми скрывалась мрачная сцена, виновником которой он ненароком стал. Фергал вздохнул и изобразил на своём лике такую неутолимую скорбную печаль, что если бы кто видел его в этот миг, то принял бы за самого разнесчастного человека в мире.
Заскрежетал отодвигаемый кованый засов, распахнулась тяжёлая дверь. Молодой монах ступил внутрь и замер от уже неподдельного изумления. На миг его даже охватил благоговейный ужас, а кровь, казалось, превратилась в лёд в его жилах… Да и как иначе, если на том месте, где накануне утром прислонясь спиной к стене сидел измученный Лазариус с крепко связанными руками, натянутыми вверх прочной верёвкой, на том самом месте, на котором невольный палач ожидал увидеть бездыханное тело своей истощённой жаждой и голодом, измученной болью жертвы, на том самом месте… попросту никого не было! Лишь лежавшая на полу верёвка свидетельствовала о том, что события запрошлой ночи не были наваждением.
Лазариус канул как в воду, испарился из темницы подобно телу Христа, исчезнувшему из гробницы, чтобы восстать из мёртвых. Если бы такая аналогия возникла в голове брата Галлуса, может быть, в душе его и появились бы настоящие чувства, похожие на благоговение и почтение к праведному старцу, и угрызения совести за свои сомнительные деяния. Но, у молодого инока никогда не было жажды чересчур углубляться в познания святого писания, для чего ему нужно было бы, по крайней мере, как следует овладеть латынью. А поелику таких параллелей он и не мог провести и, разумеется, набожных и благочестивых побуждений у него тоже не возникло, несмотря на весь мистицизм происшедшего.
Поражённый этим таинственным явлением или, правильнее сказать, исчезновением, ошарашенный Фергал на несколько мгновений как камень застыл на месте и стал похом на один из пилонов, поддерживавших потолок в его подвале. Он никак не мог взять в толк, каким же образом слабый и дряхлый старик смог избавиться от надёжной верёвки и крепких, завязанных особым образом узлов, выбраться из запертой на засов темницы и закрытого на замок подвала. Затем молодому монаху пришла на ум естественная мысль, что кто-то, должно быть, помог Лазариусу сбежать. Для Фергала это было единственным объяснением произошедшего; но затем до него дошло, что ключи-то от подвала всё время находились у него на поясе, а замок на двери был в порядке, когда он вернулся, да и никто, кроме настоятеля не ведал о том, что Лазариус заперт в подвале. Тут сердце Фергала впервые похолодело от суеверного ужаса, который зачастую невольно охватывает человека, сталкивающего с чем-то таинственным и необъяснимым. Он зажёг факел, который давал света поболее чем лампа, и лихорадочно обшарил все закоулки подвала: никаких следов, указывавших на то, каким образом старик умудрился удрать. На миг в голове Фергала даже появилась мысль о помощи Лазариусу высших сил. Но он тут же её отбросил, ибо никогда не верил ни в чудеса, исходившие от блаженных праведников и священных реликвий, ни в колдовство чародеек и кудесников, ни в волшебство магов и пророчества ясновидцев… В конце концов, здравый смысл взял вверх над суеверными чувствами и молодой монах стал рассуждать более трезво, тщась разрешить таинственную загадку. Но тщетно – сколь он ни силился, он никак не мог взять в толк, куда же всё-таки подевался Лазариус.
«Не в червя же он превратился и уполз сквозь расщелины в камнях, – говорил себе Фергал. – Это только в старых небылицах для сосунков и баснях для великовозрастных олухов рассказывается, как человек в разных тварей превращается. А на самом-то деле не то, что из мухи бабочку сделать, а даже болвана в умника не превратишь… Но как же тогда объяснить исчезновение старика? – Этот вопрос по-прежнему ставил монаха в тупик. – А вдруг кто-то смог открыть подвал и выпустить престарелого всезнайку на волю? А может быть, через колодец, куда я всяческие отходы и нечистоты вываливаю? Ну, нет – он такой узкий, что старику надо было бы выдрой обернуться, чтоб туда проскользнуть».
Из тёмного и таинственного подвала, где произошло такое загадочное событие, Фергал поднялся на свежий воздух и сразу направился на монастырскую кухню, где он застал брата Томаса и ещё одного монаха-кухаря, занятых чисткой посуды после вечерней трапезы.
– Эгей, брат Томас, ты случаем не видал сегодня отца Лазариуса? – крикнул с порога Фергал. – Я только что возвратился в монастырь из дальней поездки и нигде не могу его сыскать.
– Да ты его и не найдёшь, брат Фергал, – живо ответил повар, – ибо слышал я разговор, что праведный старец ещё третьего дня как убыл в Глазго к тамошнему епископу.
– Ах, да… – Фергал припомнил, что он сам же и пустил этот слух. «Значит, никто Лазариуса из темницы не освобождал», – при этой мысли его лоб покрылся холодным потом. Последняя надежда молодого монаха на разумное объяснение, а именно – что, пока он ездил в Стёрлинг, приор сжалился над старцем, каким-то образом открыл подвал и вывел Лазариуса наверх, эта надежда угасла вместе со словами кухарского помощника. И монах стал размышлять над тем, как, не вызывая на себя гнева отца-настоятеля, поведать тому о загадочном и бесследном исчезновении отца Лазариуса из подвала…
Тем временем в своих в покоях, – которые можно смело так назвать, ибо на скромную монашескую келью они явно не походили, – приор просматривал рентную монастырскую матрикулу. Его интересовали записи о доходах аббатства за последнюю неделю: кто из ленников-крестьян сколько сдал зерна в монастырские амбары, сколько головок сыра было изготовлено из удоя жирных коров монастырского стада, сколько рыбы было выловлено из протекавшей через аббатские земли речки Карт, сколько фунтов мёда собрали бортники, сколько податей заплачено деньгами и не было ли, не дай боже, каких ухищрений и уловок со стороны ленников дабы уменьшить свои долги. Как хороший генерал заботится не только о боевом духе войска, но и о его насущных потребностях, так и отец-настоятель беспокоился не только о поддержании благочестия братии, но и о сохранении и преумножении монастырского изобилия.
И вот, когда приор был погружён в столь праведное и отрадное занятие, к нему буквально ворвался брат Фергал с выпученными глазами и выражением благоговейного ужаса на лице. Монах не переставал осенять себя крестным знамением и восклицал запинаясь:
– О!… Великое чудо! О!… Да падут оковы его! О!… Да перенесут его ангелы в царствие божье! О!… Чудо, воистину свершилось чудо! О!…
Монастырский генерал недовольно обернулся на потревожившего его монаха.
– Ах, это ты, брат Галлус! Уже возвратился из Стёрлинга! Но чего ради ты врываешься ко мне в столь поздний час? Неужели же не мог подождать до утра?… Однако что случилось с твоей рыжей физиономией?! И почему ты крестишься так неистово, будто жаждешь разом наверстать все пропущенные тобой мессы, вечерни и заутрени?
– О!… Велика божественная сила. О!… Да свершится воля твоя. О!… Неслыханное чудо!
– Ты, поди, совсем потерял рассудок, инок! Да отпусти же мой рукав! Куда меня тянешь словно помешанный?…
Но Фергал иступлёно хватал настоятеля за рясу и тащил и тащил его в сторону двери с видом благоговейного ужаса, который, казалось, окончательно лишил его дара речи, поскольку кроме изумлённого восклицания «О!…» уже ни одного вразумительного слова не вылетало из его уст.
– Скажи же в чём дело, в конце концов! То ты несёшь какую-то околесицу, а то молчишь будто рыба…
А инок продолжал таращить глаза, издавать нечленораздельные звуки и тянуть настоятеля за рукав. Поддавшись упористости брата Галлуса и заинтригованный его необычайным поведением, приор повздыхал, покряхтел, но всё же позволил притащить себя в монастырский подвал и завести в какую-то дверь. Он с удивлением проделал весь путь от своей «кельи» до подземных владений Фергала и обнаружил в итоге, что оказался вдруг в небольшой почти пустой каморке, более походившей на глухой каменный карцер.
Фергал одной рукой держал лампу, а другой указывал на валявшуюся у стены верёвку, напоминавшую в сумраке подвала свившуюся кольцами змею.
– Что ты мне тычешь в какую-то старую верёвку? – раздражённо спросил приор. – Похоже, ты совсем рехнулся, брат Галлус. Вот что значит не посещать богослужения, ссылаясь на занятость твоими повинностями… А может, в тебя нечистый вселился?! А? Ведомо мне, что в монастыре Келсо есть один опытный монах-экзорцист, который в самом Риме учился изгонять дьявола из душ одержимых, и даже получил благословении папы. Так мы можем за ним хоть завтра отправить.
– Да нет же, отец-настоятель! О!… – неожиданно обрёл дар речи Фергал. – Это та самая верёвка, – О!… которой я привязал бедного отца Лазариуса к стене! Воистину это чудо! О!…
– Ты его привязал ?! Благочестивого старца! Святый Боже! – изумился приор, скорее обеспокоено, нежели сердито. – Разве ж я говорил тебе о применении таких строгостей к почтенному монаху? Да как ты посмел!
Фергал нимало не смутился, лишь продолжал дивиться и строить ужасные гримасы.
– Это чудо, отец-настоятель!… Всего лишь я хотел быть уверен, что он не сбежит… О, какое чудо!… пока я ездил в Стёрлинг с вашим поручением. О!… Великие чудеса нам являет Господь!
Приор недоумевал: он никак не мог уразуметь, о чём толковал Фергал, о каком таком чуде и чем объяснить его поведение.
– Да что ты всё время окаешь и о каких-то чудесах твердишь, монах? Лучше скажи, куда ты упрятал Лазариуса, раз он более не привязан к стене. И как тебе только на ум пришло связывать старца! Фи, какое гнусное бессердечие!
– Ах, отец-настоятель! – Фергал возвёл очи горе и с благоговением в голосе молвил: – Старца уже нет с нами…
– Что?! Как так нет? А куда же он девался в таком случае? – вопросил приор, никак не могущий уразуметь, что же случилось.
– О!… То великая тайна! – воскликнул Фергал и продолжал, вперившись взглядом в потолок: – Он улетел от нас яко ангел.
– Ага, кажется, я понимаю! – мелькнула догадка у настоятеля. – Ты, верно, хочешь сказать, что душа благочестивого Лазариуса не вынесла тяжести грехопадения её хозяина, простилась с его земной оболочкой и вознеслась на небеса. Так ведь? Тогда, где же тело, чтобы можно было устроить пышную погребальную церемонию, которую праведный старец заслужил своими прежними добродетелями, несмотря на его последнее согрешение?
– Отец-настоятель! – истерическим голосом возопил молодой монах. – Мне не ведомо, рассталась ли душа отца Лазариуса с его телом или нет, но ни той ни другого здесь точно нету!… Нету, разумеете?!… О!… Выйти отсюда, как то делают обычные люди из плоти и крови – через двери, он не мог… не мог… не мог! – в исступлении твердил брат Фергал.
До приора начало наконец-то доходить, что случилось, и осознание происшедшего мистического исчезновения отца Лазариуса не могло не вызвать у него суеверного ужаса. Мало-помалу он начал поддаваться лихорадочному настроению молодого монаха. Но всё равно, рассудок монастырского начальника сопротивлялся и отказывался верить в действительность случившегося, и отец-настоятель безотчётно продолжал питать надежду, что всё скоро должно проясниться и происшествию найдётся вполне разумное объяснение.
– Да хорошо ли ты обыскал подвал? Может статься, отец Лазариус где-нибудь здесь притаился в тёмном углу или прячется позади бочек с вином? – спросил приор неуверенным голосом, в котором скользила слабая дрожь. – Смотри-ка, какой подвал преогромный, мало ли здесь мест потайных найдётся!
– Всё перевернул, отец-настоятель. Клянусь святой обителью! О!… Нету его… нету…
– А где же был ключ от подвала, покуда ты ездил в Стёрлинг? – пытался найти хоть какое-то объяснение настоятель, в душу которого всё более и более проникал неодолимый трепет.
Фергал молча указал на кожаный пояс на своей рясе и снова продолжил восклицать: «О!… Великое чудо свершилось!»
– Да не прошёл же он сквозь стены, как-никак! – дрожащим голосом приглушённо воскликнул приор.
– Воистину так, отец-настоятель! – пел свою песню Фергал. – Это ангелы, для которых нет преград, на своих крыльях унесли его прочь. О!… Великое чудо явилось нам!
Несмотря на то, что настоятель добился своей должности подобно многим генералам, благодаря таким качествам как решительность, мужество и командирские навыки с одной стороны, и с другой – усердию при выполнении различных поручений аббата и ловкости в разрешении внутримонастырских дел, – несмотря на всё это, смекалки у него явно недоставало – по крайней мере, для того, чтобы раскусить хитрость брата Галлуса. Подобно большинству людей той эпохи, несмотря на свой церковный сан, приор в тайне души также был подвержен суевериям и предрассудкам своего времени, в отличие от прагматичного Фергала. К тому же все свидетельства таинственного исчезновения Лазариуса говорили в пользу вмешательства сверхъестественных сил. А вкупе с ними искусно разыгранная молодым монахом сцена благоговейного ужаса поспособствовала тому, что ретивый приор в итоге принял всё за чистую монету, и его мудрейшему рассудку не осталось ничего иного, как уверовать в вознесение святого отца.
– Да! Верно, святой был человек, – произнёс полушёпотом настоятель, пытаясь унять охватившую его дрожь. – Сказано же в писании: «И сошёл на него Дух Господень, и верёвки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лён, и упали узы его с рук его».
Фергал понял, что добился своей цели, и потому, когда приор предложил подняться к нему в «келью» и пропустить по кубку живительного бордо дабы утихомирить душу, он с радостью принял его приглашение…
Когда после третьей чаши приору удалось наконец-то унять дрожь в своём теле и несколько придти в себя, а также под влиянием винных паров потерять свою официозность, молодой монах счёл уместным вручить тому письмо регента.
– А ты, похоже, вошёл в милость к шотландскому управителю, – молвил настоятель после прочтения сего документа, – раз он желает скоро снова тебя видеть.
– Что вы, отец настоятель! Я всего-то лишь отдал письмо его светлости и не могу даже в толк взять, чем мог бы снискать его милость… ежели только тем почтением, которое я старался ему выказывать… Ох, а герцог не написал про причину, по которой он опять меня к себе призывает? – испуганно спросил монах. – Уж очень мне боязно снова туда являться.
– Мне, право, не ведомо, зачем он вновь изволит видеть тебя, брат Фергал. Но, разумеется, что я не могу отказать регенту и брату архиепископа. Так что, дней через пять-шесть поезжай. Да поможет тебе Бог.
Так прошло около получаса, в течение которого собеседники говорили о чём угодно, только не о недавнем загадочном событии. Захмелевший приор не желал вспоминать того, что его так сильно испугало и ошеломило этим вечером, и Фергал ублажал своего иерарха рассказом о поездке в Стёрлинг, о грандиозности тамошней крепости, великолепии королевского дворца и надменности дворцовой прислуги…
– По правде говоря, – молвил Фергал, – не очень-то мне и хочется заново в тот королевский замок возвращаться, где все вплоть до низшего из челяди смотрят на простого скромного монаха как на последнюю тварь земную. В монастыре-то мне, благодаря вам, отец-настоятель, почёт и уважение среди братии, а при блистательном дворе смиренному иноку ох как тяжко будет.
– Да стоит ли по сей причине тревожиться, брат Фергал? Помни: последние станут первыми… Может, лорд Гамильтон желает тебя возблагодарить, да и отпустить обратно в Пейсли… А вдруг ему брат про твои знахарские таланты отписал, и он тебя при себе лекарем вознамерился поставить! Ты уж не забудь в таком случае обо мне упомянуть. Скажи, что, дескать, правит монастырём Пейсли приор, верный раб божий и, конечно, слуга семьи Гамильтонов… А вино-то ой как хорошо! Ну-ка, брат Фергал, наполни ещё мою чашу.
– Как изволите, отец-настоятель, – ответил монах, подливая напитка своему начальнику. – Так, когда же мне в Стёрлинг снова езжать?
– Подождём лишь немного, может, что станет известно про…, – приор запнулся, не решаясь вернуться к недавнему мистическому событию.
– …про отца Лазариуса, – закончил фразу брат Галлус. – Да, чудные вещи происходят на свете. Я сегодня ужас как перепугался, когда понял, что…, – Фергал прервал фразу и сделал ещё глоток из кубка, – что тело старца унеслось сквозь каменные стены, словно пар от варева через печную трубу.
– Надеюсь, ты, брат Фергал, не стал тревожить его светлость рассказом о брате Лазариусе и подслушанном им разговоре, а, шельма? – спросил уже вконец размякший настоятель. – Ежели архиепископ желал известить о сём своего достопочтенного братца, то он и написал о том в письме, что ты отвёз. А ежели нет, то… я так тебе скажу: держись подале от всех этих интриг сановничьих. Уразумел, монах?
– А то как же! Да и как можно наушничать против церкви-то! – заверил Фергал. – Я же только вручил письмецо герцогу и обратно.
– Тто пправильно, – заплетающимся языком выговорил приор. – Ибо никто… никто… и вв особбенности миряне, слышишь, не должны прознать, что внутри монастыря происходит, и про сакральные тайны монашеского бытия. – В этом месте приор звучно рыгнул. – И про чудесное вознесение благого старца тоже, смотри, никому не выболтай, помалкивай, как будто и не было брата Лазариуса в нашем монастыре вовсе. Разумеешь? А уж Сент-Эндрюсу я придумаю, что отписать…
Часть 2 Замок Крейдок
Глава IX
Лангдэйлы
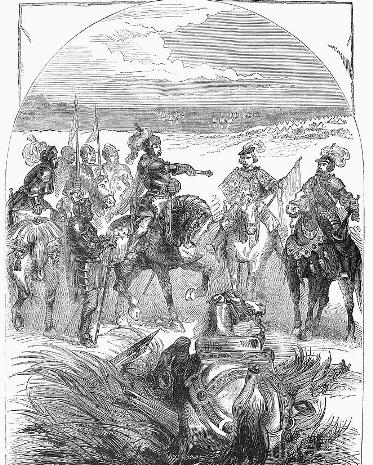
Вернёмся теперь к молодому Ронану Лангдэйлу в тот момент, как он простился со своим учителем-монахом и направился в родительский замок.
Не ведая о том, какие опасности угрожают его наставнику, юноша держал путь на север – в ту сторону, где в окружении крутых холмов и меланхоличных озёр стоял замок Крейдок, принадлежавший барону Роберту Лангдэйлу из Бакьюхейда, отцу Ронана. Однако чтобы добраться туда, путешественнику надо было сначала пересечь реку Клайд, затем не заблудиться в девственных лесах, ещё покрывавших в те дни северную Шотландию, и не запутаться между возвышающихся со всех сторон величественных и таинственных холмов.
Аббатство Пейсли располагалось в нескольких милях к югу от Клайда, и чтобы перебраться на северный берег достаточно было пересечь реку по мосту около города Глазго, как, например, днём позже и поступил Фергал, когда ездил к шотландскому регенту. Глазго находился милях в шести-семи к востоку от Пейсли, и в ту сторону вела большая утоптанная и уезженная дорога. По этой-то дороге Ронан и пустил своего коня. Однако же на полпути до города, как только юноша завидел на горизонте высокий шпиль кафедрального собора, он странным образом свернул с дороги и направил верного Идальго прямо на север по небольшой тропинке, петлявшей между полями, перелесками и небольшими возвышенностями. И менее чем через час всадник очутился на берегу реки, на пару миль ниже по течению, чем Глазго.
Река Клайд берёт начало на взгорьях в центре южной Шотландии и несёт свои воды в атлантический пролив, разделяющий шотландские и ирландские берега. Из небольшого ручейка в своих верховьях Клайд, подпитываемый многочисленными ручьями и речушками и образуя на своём пути живописные пороги, собирает воды нескольких фиордов и постепенно превращается в огромный морской залив в десятки миль шириной. Но в том месте, в котором Ронан выехал на берег, ничего ещё, однако, не предвещало такой трансформации водной глади. Здесь, может быть, река не так была велика шириной и быстра течением, как впечатляла своими живописными берегами и умиротворяла спокойным потоком воды. Направо вверх по течению, за изгибами реки где-то прятался город. Его присутствие выдавали смутные контуры шпилей в туманном воздухе, да курящееся над ним дымное марево. Налево же река, слегка виляя, убегала за горизонт и исчезала вдали между возвышавшимися по обоим берегам холмами.
Берег здесь порос ракитником, был достаточно пологим и совершенно пустынным. Ронан скинул одежду, стянул её в узел и привязал поверх седла вместе с баулом со своими скромными пожитками и кинжалом. После этого он взял под уздцы коня и смело ступил в прохладную воду.
– Давай, давай, Идальго! Покажи, как ты плавать умеешь, – задорно крикнул юноша упрямившемуся коню и потянул животное за собой.
Жеребец артачился, фыркал ноздрями, но, в конце концов, ободрённый примером своего хозяина, ступил в реку. Клайд в этом месте достигал в ширину безмала двух сотен ярдов. Но что это значило для такого искусного спортсмена, говоря современным читателю языком, коим являлся Ронан, который – что было необычно для той эпохи и его общественного положения, – не робел перед водной стихией и мог преодолеть такой поток даже не хватаясь за гриву коня.
По правде говоря, подобный безрассудный поступок похож был на сплошное ребячество. Именно так и подумал бы сторонний наблюдатель, и отчасти он был бы прав, но только отчасти. Ибо с детства во многом предоставленный самому себе и пользовавшийся большой свободой поведения, о чём мы ещё расскажем, Ронан не чурался общения со сверстниками из низшего сословия и принимал участие во всех их играх и забавах, одной из которых было плескание в озере, находившемся почти под самыми стенами замка. К тому же юноша чувствовал какую-то загадочную и необъяснимую тягу к водной стихии. Ему нравилось созерцать умиротворяющую гладь озера и в то же время его воображение будоражили как бурный горный поток, так и размеренное течение рек. «Куда так извечно и неумолимо стремится вся эта вода? – спрашивал он себя иногда. – В какие неведомые дали унесёт вон ту отломленную ветром и подхваченную потоком ивовую ветку? Может, её прибьёт к берегу за изгибом речки, а может, она будет поглощена морской пучиной или разбита на щепочки о каменные скалы, или ей посчастливится и волны благополучно перенесут её через океан к далёким неведомым берегам. Кто знает, что с ней станется?»
Играя в озере с позволения владельца замка Крейдок, местные дети мало-помалу выучивались плавать. Среди своих сверстников у Ронана плавать получалось лучше всех, чему он безмерно радовался, но никогда своими способностями не кичился. А посему в этот сентябрьский денёк, благодаря ещё тёплой погоде, пусть и пасмурной, юноша предпочёл переплыть Клайд, не доезжая города, ниже по течению, размяв мышцы и чуть сократив путь домой, нежели тащиться по узким и грязным городским улицам.
Когда юноша вошёл в реку, сомнений в том, что через несколько минут они с Идальго окажутся на другом берегу Клайда, у него не было… По реке скользили две-три небольшие лодки, и гребцы и пассажиры в них с удивлением глядели на странную картину плывущих через реку человека и животного. Лодочники подумали было поначалу, что взбесившаяся лошадь бросилась в реку вместе со своим всадником, и тому грозит неминуемая гибель. Они хотели было даже развернуть свои судёнышки, дабы прийти на помощь злополучному наезднику, но увидев, с какой уверенностью и лёгкостью пара пересекает Клайд, гребцы подняли вёсла в знак приветствия и что-то весело закричали. Лодки были далеко и слов Ронан не разобрал, но понял их смысл и в ответ поднял из воды руку и радостно помахал находившимся в лодках… Ещё через несколько минут упоённый соприкосновением с водным потоком Ронан и ничуть не уставший Идальго выбрались на северный берег и продолжили путь на север.
Пейзаж на этой стороне реки сильно разнился с менее интересным ландшафтом того берега, где располагалось аббатство Пейсли. Здесь не видно было разбитых на делянки больших засеянных рожью и овсом полей, не размахивали своими крыльями мельницы и не паслись стада на пастбищах. Неровный бугристый берег, испещрённый оврагами и покрытый диким кустарником, постепенно поднимался вверх, превращаясь вскоре в лес, уже изрядно поредевший по причине близости большого по тем временам города.
Ронан взял курс на север, туда, где на горизонте величественно поднимались загадочно манящие к себе холмы. Вскоре он миновал небольшую деревушку, стоявшую на том месте, где несколько веков назад, по преданию, был совершенно дикий лес, в котором возвратившимся из крестовых походов рыцарям-тамплиерам полюбилось охотиться за вепрями, оленями и косулями, которыми тогда кишели каледонийские леса. Обо всём этом и о многом другом Ронан, будучи ещё совсем юным, узнавал из рассказов отца Филиппа, служившего капелланом в замке Крейдок и большого любителя старины. Если во время богослужений в замковой часовне святой отец излагал своей пастве божественные истины, то наедине с Ронаном с удовольствием делился с юношей своими знаниями о прошлом этих мест и истории шотландского королевства в целом, рассказывал известные ему легенды и поверья…
Ещё две-три мили тропа продолжала идти с лёгким подъёмом и становилась всё более неровной и каменистой. Лесные участки, кое-где уже в пурпурно-багровом величии наступающей осени, поднимались вверх по холмам, в то время как у их подножий заросли берёз и дубов ещё радовали глаз изумрудным цветом. Там и здесь на склонах таинственно высились скалы и утёсы, перемежавшиеся с каменистыми осыпями, покрытыми в нижней своей части уже теряющим пунцово-розовый цвет вереском. Колорита пейзажу придавали лиловые полосы торфа, открывавшегося в низинах между холмами. Кое-где по склонам струились маленькие водопады, собираясь внизу в шумные ручьи и образуя небольшие озёрца кристально чистой воды. Раза два между деревьев промелькнули и тут же исчезли быстрые косули, вероятно испуганные видом всадника, который лишь ласково улыбнулся им вслед. А как-то Ронан заметил вдали величественно шествовавшего по склону большого красно-бурого оленя, увенчанного короной великолепных рогов. Зрелище было настолько завораживающим, что юноша не мог не попридержать коня, чтобы полюбоваться этим царственным животным… Из лесных зарослей доносилось многоголосое щебетание птиц. Особенно звонко заливалась малиновка – Ронан прекрасно знал её трель, поскольку около Крейдока этих птах было особенно много. А иногда в небе можно было заметить парящего высоко-высоко над землёй беркута, долго и внимательно высматривающего внизу свою добычу…
Ночь застала юношу в трёх часах езды от Крейдока. Он попросился на ночлег в первом попавшемся жилище, где за пару монет Идальго насыпали полную кормушку овса, а Ронану предоставили сеновал в сарае, чем хозяин и конь были вполне удовлетворены…
Едва лишь на тёмном ночном небосводе с востока появилась светлая полоска зарницы, как юноша вскочил на ноги и через несколько минут уже скакал в предрассветном тумане по дороге в направлении к отчему дому. И чем светлее становилось небо, тем ближе к дому был Ронан. Солнце ещё не успело подняться из-за кромки леса, когда сквозь деревья показались на вершине холма темневшие на фоне серого неба каменные стены родного замка.
Замок Крейдок стоял в очень живописном месте, занимая доминирующую над окружающим ландшафтом возвышенность. С восточной стороны склон этого холма резко спускался к небольшому, сказочному овальному озерку не больше полумили в длину, обрамлённому ольхой и ивовыми деревьями, среди которых там и здесь как часовые величественно поднимались сосны. На западе, сразу за крепостной стеной начинались торфяники, оканчивающиеся на горизонте закутанными в туманную дымку высокими холмами. С юга, где находились главные ворота замка, и севера к стенам почти вплотную подступал густой лес, в котором по прихоти творца причудливо перемешались всевозможные деревья и кустарники.
Основные сооружения замка были окружены каменной стеной с единственной квадратной башней, в основании которой находились ворота – те самые, которые смотрели на юг и из которых уходила дорога, постепенно исчезавшая в лесу. По четырём углам стены расположились крохотные башенки, предназначенные для стражи. Но судя по проходам на стенах, заваленных принесёнными ветром сухими листьями и ветками, эти форпосты, похоже, давно уже не использовались по своему предназначению. Как и всё в этом замке, центральное здание, которое по традиции называлось «дворцом», тоже было сооружением прямоугольной формы, напоминавшим более неприступную башню с бойницами вместо окон, нежели роскошные жилые апартаменты, как то подобает дворцу. Был очевиден замысел зодчего, создававшего за пару столетий до начала нашего рассказа этот шедевр архитектуры, – сделать его неприступной цитаделью. Но времена меняются и крепости уже давно не случалось выдерживать нападений и осад. Ежели в пограничной области и было по-прежнему неспокойно и происходили ещё битвы между двумя соседними королевствами – английским и шотландским, и крепости переходили из рук в руки, то здесь, в самом центре страны, царило относительное спокойствие. Рядом с «дворцом» находилась небольшая часовенка, которая обычно пустовала. И лишь в воскресные дни и по праздникам сюда стекались жители из соседней деревни Хилгай послушать обедню, которую вёл капеллан Крейдока отец Филипп. В целом замок, несмотря на видимость неприступной твердыни, был совсем небольшой по размеру и заметен издалека лишь благодаря своему положению на вершине утёса.
Хозяином этих владений был барон Роберт Бакьюхейд. Он принадлежал к старому, хотя и малоизвестному шотландскому роду, который по своей генеалогической линии происходил от английских Лангдэйлов, проживавших в Озёрном крае на северо-западе Англии. Это был старинный род, в одиннадцатом и двенадцатом столетиях подвергшийся, как и многие англо-саксонские фамилии, притеснениям со стороны завоевавших Англию норманнов. Предок сэра Роберта перебрался в Шотландию при короле Вильяме Первом и завоевал себе репутацию храброго воина и преданного вассала шотландского монарха, за что и был одарён рыцарским званием и землями на западе Ментейта. Местность эта, называвшаяся Бакьюхейд, надо признаться, была не самым лучшим местом для баронского поместья, ибо находилась у подножия гор, вдали от главных дорог, если таковые вообще существовали в те далёкие дни, и сама по себе была не идеальным для сельского хозяйства и разведения скота. Вдобавок ко всему, угодья Лангдэйлов граничили с землями, где обитали полудикие кельтские кланы, не отличавшиеся большим миролюбием, особенно, ежели их пытались подчинить центральной власти и сделать вождей кланов королевскими вассалами. Худо-бедно маленькое поместье существовало несколько столетий, принадлежа одной и той же семье, принося некоторый, пусть и небольшой доход своим владельцам и позволяя содержать отряд ратников, с которыми бароны Бакьюхейда принимали участие во всех крупных кампаниях. Надо заметить, что эту фамилию отличала глубокая до фанатичности и бескорыстная, а иногда даже расточительная преданность королевской власти, унаследованная ещё от первого шотландского Лангдэйла. И именно поэтому бароны Бакьюхейда не принимали участия в погоне иных дворян за почестями и богатством, которая редко идёт рука об руку с честью и верностью. В итоге, этот род не разбогател и не обзавёлся титулами, но и не запятнал себя неблаговидными деяниями. На протяжении нескольких столетий уже даже стало забываться, что эта семья происходит из северной Англии и когда-то носила имя Лангдэйлов. А по названию баронства постепенно стали называть и его владельца.
Такова была воля судьбы, что в свои юношеские годы Роберт Бакьюхейд, рано лишившись родителей, остался последним и единственным представителем своего рода. Отсутствием опеки, необходимостью управлять имением, близостью территории кланов строптивых горцев можно объяснить его самостоятельный, твёрдый и решительный характер, который вкупе с природной физической силой заставил соседей-феодалов уважать хозяина замка Крейдок и относиться с почтением к молодому барону. Перво-наперво Роберт Бакьюхейд, будучи человеком незлым и простосердечным, познакомился с чифтанами25 всех соседних горских кланов и попытался наладить с ними дружеские отношения, подкреплённые взаимной торговлей. Этим он, казалось, обезопасил границы своих владений. Ибо среди горцев распространён был обычай нападать на земли дворян Нижней Шотландии, угонять скот и причинять прочий ущерб имениям баронов. Те же землевладельцы, которые желали избавить свои угодья от набегов горцев, вынуждены были платить регулярную мзду, или плату за охранение своих владений от грабежей. Обычно то был соседний клан, который брался честно оберегать земли своего благотворителя от посягательств различных горских разбойников и иных злоумышленников.
Как и все его предки, Роберт Бакьюхейд почитал своим долгом служение на благо Шотландии и её венценосным монархам. Однако свою преданность королевской династии молодой барон был не в состоянии доказать очень долгое время, ибо юный Иаков Пятый постоянно находился в строжайшей зависимости от своих опекунов, которые фактически и правили государством.
Поначалу, когда Иаков был ещё нечувственным младенцем, недолгое время регентство держала королева-мать Маргарита Тюдор, сестра английского короля Генриха Восьмого. Но она вскоре потеряла это право, повторно выйдя замуж за двуличного Арчибальда Дугласа, графа Ангуса. Регентство перешло к Джону Стюарту, герцогу Албани, который, несмотря на свои частые отлучки во Францию, держал юного короля практически пленником, управляя страной от его имени. Но казуистическая политическая ситуация того времени была чрезвычайно изменчива. Мальчик-король был разменной монетой в руках тех, кто жаждал власти. Когда Иакову было тринадцать лет, честолюбивому и алчному Арчибальду Дугласу, графу Ангусу, к тому времени давно уже рассорившемуся с Маргаритой Тюдор, как с помощью интриг и козней своей лицемерной политики, так и благодаря военной силе удалость отлучить Албани от регентства и самому завладеть королём. Молодой Иаков в очередной раз из одной клетки попал в другую. Но у короля были верные друзья и сторонники среди дворян, включая, конечно, королеву-мать, и они были возмущены и недовольны алчными и властолюбивыми регентами и желали освободить Иакова Пятого. Один из них, граф Леннокс при содействии Маргариты Тюдор и других дворян собрал большую армию из десяти тысяч воинов и двинулся к Эдинбургу, намереваясь освободить короля. Был в том войске и жаждущий помочь своему суверену барон Бакьюхейда, для которого битва при мосте Линлитгоу стала настоящим боевым крещением. К несчастью для юного короля его сторонники проиграли то сражение, за чем он с глубокой печалью наблюдал из лагеря противной стороны, удерживаемый там графом Ангусом.
Были, впрочем, и другие попытки вызволить короля Иакова из-под ненавистной опеки. Его друзья решили действовать хитростью и придумывали различные схемы для его освобождения. В их деятельности не последнюю роль играл энергичный Бакьюхейд, который брал на себя самые опасные задачи и который в отличие от большинства своих сподвижников, преследовавших некие личные цели в освобождении короля, руководствовался единственно стремлением видеть на троне шотландского королевства его законного венценосного монарха – Иакова Пятого Стюарта.
Да простит нас читатель за несколько лишних минут, которые займёт у него этот краткий экскурс в историю, который мы делаем исключительно с целью набросать образ барона Роберта Бакьюхейда, что необходимо нам для дальнейшего рассказа. По правде говоря, удивительная жизнь барона была столь наполнена событиями, о коих мы упоминаем лишь вкратце и которые были до такой степени захватывающими и интересными, что всё это заслуживало бы стать поводом для отдельного романа, и, может статься, даже не одного…
Однако, вернёмся снова к барону. После того как нескольких попыток освободить короля потерпели фиаско, был задуман план с деятельным участием самого Иакова. Одним из главных исполнителей этого замысла стал Роберт Бакьюхейд, который в итоге и вывел короля на свободу, вырвав его из уз ненавистного регента. (О том, как это произошло, у читателя ещё будет возможность, мы надеемся, узнать по ходу повествования.) Другой бы человек попытался извлечь всю пользу из благосклонности монарха к своему освободителю, но не таков был Роберт Бакьюхейд, который вежливо отклонил все просьбы Иакова остаться при королевском дворе. «Ваше величество! – ответил королю доблестный вассал. – Мой отец, отец моего отца и все Бакьюхейды до десятого колена верой и правдой служили своим монархам. Тела их были покрыты шрамами и рубцами, остававшимися от ран, полученных в сражениях за наше королевство и его венценосных государей. Также и я всем моим сердцем желаю служить вашему величеству, рискуя жизнью, проливая кровь свою и чужую, и подвергаясь иным страшным опасностям на этом пути отваги и рыцарства. Но умоляю вас, не заставляйте воина превращаться в придворного вельможу. Пусть уж лучше моё тело кровоточит от боевых ран, нежели моя душа будет подвергаться уколам придворных сплетников и интриганов». Так оно и случилось, как Бакьюхейд просил короля, ибо далеко не одна пинта крови была им пролита в дальнейшем во имя своей страны, и далеко не один шрам на его теле нёс свидетельство преданности барона шотландской короне.
Немедля после прихода Иакова Пятого к власти, король собрал войско, дабы навести порядок в пограничных районах, где бесчинствовали как шотландские, так и английские бароны, грабя местное население: фермеров, ремесленников, торговцев, а также не гнушаясь церквями и монастырями, где можно было взять самую богатую поживу. По большей части английские и шотландские власти закрывали глаза на такое мародёрство, ибо живущие в граничном районе бароны считались первой линией защиты при вторжении вражеской армии с той или иной стороны. Но иногда их бесчинства достигали такого предела, что правители всё же решались наказать налётчиков и привести к покорности своенравных баронов Пограничья. Таково было и желание короля Иакова, собравшего восьмитысячную армию, к каковой, конечно же, присоединился и отряд барона Бакьюхейда. Во главе сего войска король прошёлся по всему граничному району, безжалостно карая мародёров. По всему Приграничью высились виселицы, а эдинбургские темницы заполнились арестованными баронами и их приспешниками, подозреваемыми в грабительских налётах. Роберт Бакьюхейд неистово возмущался, видя какие беды претерпевало местное население, и всецело поддерживал жёсткие меры своего суверена, помогая ему карать злодеев.
Потом ещё долго нашему барону с его невеликой ратью приходилось курсировать по неспокойному Пограничью, куда часто вторгались английские отряды, видимо, считавшие эту область своей территорией.
Роберт Бакьюхейд безоговорочно одобрял Иакова Пятого во всех его деяниях и гневно осуждал врагов короля, искавших погибели суверена. Так, барон страстно негодовал, когда узнал, что лорд Форбс замышлял убить короля, пока тот, уверенный в преданности своего вассала, проезжал бы через его владения в Абердине. «Вот ведь иуда! – возмущался барон. – Да он же приспешник Дугласов – ведь женат-то на сестре Ангуса. А все Дугласы есть вероломные изменники, я вам говорю». Ненависть к коварным Дугласам пылала в сердце барона ещё со времен удерживания ими Иакова как узника de facto.
Безмерное негодование у простосердечного Бакьюхейда вызывало явное проявление у многих представителей знати предательских намерений по отношению к своему суверену, к государству и своему исконному вероисповеданию. А этим было грешно в той или иной степени большинство шотландских дворян – такое было сложное время. Сам сэр Роберт был воспитан в католической вере, и начинавшие тогда распространяться учения Лютера принимал за сатанинскую ересь. Дворяне-протестанты же, напротив, искали в лице Англии, вышедшей из подчинения римской церкви, союзника и помощника в низвержении католической церкви в Шотландии, становясь фактически предателями своей страны.
Барон снова вознегодовал, узнав про раскрытый сразу после казни Форбса ещё один заговор. Леди Глэмис, сестра ненавистного Дугласа, находившегося тогда в изгнании в Англии, умышляла отравить короля. «Я всегда говорил, что все Дугласы обманщики и предатели! – не без злорадства воскликнул по этому поводу барон. – И всё их дьявольское отродье таково!» Бакьюхейду было ничуть не жаль душегубки, когда леди Глэмис была сожжена на костре в Эдинбурге.
Читателю может показаться странным такое немилосердное и безжалостное отношение в целом незлобливого Роберта Бакьюхейда к казням как врагов короля, так и сожжениям протестантов на кострах в Сент-Эндрюсе и Эдинбурге, неоднократно случавшиеся в то время. Но не будем забывать, что в сражениях, через которые довелось пройти Роберту Бакьюхейду, не только его тело покрылось заскорузлыми рубцами и шрамами и стало менее чувствительным к боли и усталости, но и душевные чувства загрубели от вида жестоких картин людских страданий и смерти. К тому же отношение к жизни и смерти в те суровые времена у народов было иным, нежели в наше просвещённое время…
Некоторое время спустя, когда Иаков Пятый решил посетить кельтские районы своей страны и призвать к повиновению вождей горских кланов, Роберт Бакьюхейда не без удовольствия погрузился на корабль и в королевском эскорте отплыл из Лейта. Своим мужественным и бравым видом он украшал свиту короля, когда тот высаживался в том или ином месте и посещал замки горских чифтанов. В том вояже также были востребованы и воинские качества сэра Роберта, ибо не все горские вожди, привыкшие к самостоятельности и независимости, с радостью и радушием встречали своего короля.
В следующие годы барон Бакьюхейда продолжал патрулировать неспокойный граничный район. Когда английская армия в очередной раз вторглась на шотландскую землю, барон отличился в битве при Хадден-Риг, где он сумел пленить самого Джеймса Боуса, губернатора приграничной английской провинции. Роберт Бакьюхейд входил в число немногочисленных дворян, которые поддержали Иакова, желавшего в мстительном пылу погнаться за отступившими на свою территорию англичанами и расквитаться с ними за свои разграбленные владения. Но большинство королевских советников было против и шотландская армия отошла от границы. Однако дух вековой неприязни к англичанам всё же возобладал среди шотландских дворян и вскоре лорд Максвелл собрал новую армию, которая двинулась на юг. Но тут случилось то, за что Бакьюхейд первый и, увы, последний раз в своей жизни осудил Иакова Пятого, ибо король – к огромному неудовольствию именитых сановников и опытных военных – назначил командующим армией своего фаворита, сэра Оливера Синклера. Разумеется, честолюбивые чувства воспреобладали и большинство дворян и командиров в том войске не пожелали подчиняться королевскому миньону. В остановившейся у границы в местечке Солвей-мосс шотландской армии воцарились неорганизованность и упадок духа, чем живо воспользовались англичане. Неожиданный и стремительный наскок небольшого конного отряда врага вызвал чрезвычайную панику и беспорядок в стане шотландцев, которые к своему стыду и позору бросились бежать. Некоторые воины, для которых честь считалась важнее жизни, пытались оказать сопротивление, но их были единицы и они в итоге либо пали, сражённые английскими мечами и пиками, либо были пленены. Понятное дело, что Роберт Бакьюхейд был среди тех доблестных храбрецов, которые не пытались показать врагу пятки, а отважно вступили в бой. Многие из них пали, а израненный Бакьюхейд вместе с другими шотландскими рыцарями был взят в плен и доставлен в английскую столицу.
С пленными поначалу обращались очень сурово. Их провели – тех, кто мог идти сам – и провезли на повозках – тех, кто был серьёзно ранен – по улицам Лондона под улюлюканье глумящейся толпы и бросили в застенки Тауэра, в самые глухие казематы. Рацион узников ограничили ячменным хлебом, жидкой похлёбкой и пинтой слабого эля, и приставили к ним одного единственного тюремного эскулапа. Так продолжалось две-три недели. Но вскоре, к удивлению пленников, ситуация резко изменилась: их перевели в более просторные и светлые апартаменты на верхних этажах крепости; меню стало более подобающим благородному происхождению узников; а вместо тюремного эскулапа заботу о ранах пленников взяли на себя два лекаря, прибывших из Вестминстерского дворца.
Барон Бакьюхейда вместе с прочими шотландскими пленниками недоумевал, с чем связано такое улучшение условий их содержания. А причиной тому был ряд событий, последовавших за бесславной битвой у Солвей-мосс. Король Иаков впал в отчаяние, не в силах вынести такого бесчестия. Он заперся в Фолклендском замке, впав в состояние унылой меланхолии. Вкупе с душевными муками сильная лихорадка напала на короля. Последним ударом для него явилась весть о том, что его королева, Мари де Гиз, носившая в своём чреве ребёнка, разрешилась девочкой, а не долгожданным мальчиком – ибо других живых законных детей к тому времени у короля не было. Итак, не прошло и трёх недель после позорного разгрома шотландской армии, как короля Иакова Пятого не стало. А бремя быть шотландской королевой пало на хрупкие плечики младенца нескольких дней отроду по имени Мария Стюарт. Вот тут-то и появилось в голове английского короля Генриха Восьмого очевидная мысль женить своего пятилетнего сына и наследника трона Англии принца Эдварда на шотландской королеве. В этом случае можно было рассчитывать на мирное присоединение северного королевства к Англии, и давняя мечта английских монархов наконец-то сбылась бы. И хитрый король Генрих не без подсказки графа Ангуса надумал сделать пленных шотландских дворян инструментом в осуществлении своих планов.
Некоторым шотландским пленникам была предложена свобода в обмен за помощь английскому королю в устройстве брачного союза между принцем Эдвардом и шотландской королевой Марией, а также за содействие в сдаче некоторых шотландских крепостей. Словом, они должны были стать агентами Генриха Восьмого в Шотландии и проводить там угодную ему политику.
Некие лорды и сановники, чьи имена нам не хочется здесь перечислять, – но они хорошо известны историкам, – напуганные возможным долгим заточением в английской тюрьме, малодушно согласились принять предложение короля Генриха, принесли устные и письменные клятвы и предоставили в заложники своих сыновей, коих отправили к английскому двору, а сами были отпущены на свободу.
Роберт Бакьюхейд, будучи отличным солдатом но никудышным политиком, похоже, не привлёк внимание английского властителя и его советников и остался среди тех незнатных и малозначимых шотландских пленников, коим предложено было всего лишь заплатить выкуп за своё освобождение. Но нахождение среди пленных барона Бакьюхейда было замечено его недругом графом Ангусом, хорошо помнившего историю освобождения короля Иакова. И это обстоятельство сказалось на дальнейшем благосостоянии сэра Роберта…
В замке Крейдок знали немного о судьбе своего владельца. Возвратившиеся после сражения у Солвей-мосс несколько ратников из отряда барона поведали, что видели, как под ударами врагов сэр Роберт упал поверженный на землю, но что с ним сталось в дальнейшем, погиб ли он или попал в плен, они сказать не могли, ибо вынуждены были искать спасения в своих ногах.
А тем временем между двумя странами был заключен мир и английские послы вернулись в Эдинбург, привезя с собой список пленников, удерживаемых в Тауэре, с проставленными напротив имён суммами выкупа. Отправившийся в столицу управляющий поместьем барона Бакьюхейда с радостью обнаружил в том реестре имя своего хозяина, но был ужасно опечален, увидев сумму выкупа, превышавшую в два-три раза выкупы за других, даже менее знатных пленных в том списке. Мы, правда, затрудняемся сказать, был ли в итоге управляющий больше опечален огромной суммой выкупа или обрадован известием, что барон жив.
Как бы то ни было, необходимая сумма была собрана – причём не обошлось и без заимствований от эдинбургских купцов под залог земель баронского поместья, – и вручена английскому послу. А ещё через пару месяцев сэр Роберт, исхудавший и с потухшим взором вернулся в Крейдок.
Якова Пятого, служению которому барон Бакьюхейда отдал так много сил, уже не было. Страной снова правил регент, а расколовшиеся на фракции дворяне пытались завладеть королевой-младенцем в споре за то, будет ли она заочно обручена с английским принцем. Генрих Восьмой, тайно поддерживаемый своими шотландскими приверженцами, пытался как можно больше заполучить в свои руки: молодую королеву Марию он хотел видеть в Англии уже тогда, а в будущем и всю Шотландию к ней в придачу; а для начала английский король желал передачи в свои руки нескольких главных крепостей северного королевства. В итоге, шотландский парламент постановил охранять королеву в замке Стёрлинга представителями обеих соперничающих и не доверявших друг другу фракций, возглавляемых на тот момент графом Ленноксом и регентом Гамильтоном. И снова сэру Роберту Бакьюхейду удалось быть полезным шотландской короне, на этот раз в лице королевы-младенца. Лорд Грэхем, граф Ментейта из партии Леннокса вынужден был несколько раз по неотложным делам покидать свой пост в Стёрлинге и на время невольного отсутствия просил своего хорошего соседа барона Бакьюхейда, небольшое поместье которого граничило с обширными владениями Грэхема в Ментейте, заменить его в охранении королевы-младенца. Сэр Роберт был счастлив, что ему выпала такая честь и его рвение было настолько велико, что Бакьюхейда трудно было оторвать от дверей королевской спальни, где он дежурил по ночам вместе с простыми стражниками.
Следующие два года были трудными для Шотландии, ибо Генрих Восьмой, разочарованный и прогневанный отказом шотландского парламента от заключения брачного договора между Марией Стюарт и принцем Эдвардом, отправил графа Гертфорда во главе большого войска с приказом разорить Эдинбург и Лейт и опустошить южную Шотландию. И снова Роберт Бакьюхейд со своим отрядом был в самых горячих местах: он храбро защищал подступы к Лейту, когда туда прибыл английский флот и высадились вражеские войска; он курсировал по граничному району, вступая в сражения с мелкими английскими отрядами, грабившими шотландские селения и монастыри. И наконец, наш барон участвовал в битве при Анкрум-мур, хотя он и неохотно присоединился к той шотландской армии, ибо ей командовал его давнишний недруг, граф Ангус, разгневанный тем, что английские войска разорили его земли, и вновь переметнувшийся на сторону Шотландии. Но патриотические чувства Бакьюхейда пересилили личную неприязнь к Ангусу, и в том сражении сэр Роберт проявил всю свою воинскую доблесть, выбив из седла одного из английских командиров, сэра Брайона Лэйтона и затем пленив нескольких английских рыцарей.
Последним сражением, в котором бравому Бакьюхейду пришлось принимать участие, стала битва при Пинки-Клюх. Та баталия была начисто проиграна шотландцами: не из-за отсутствия у них мужества и отваги, а из-за превосходства английской армии и ошибок, а также военной недальновидности – злонамеренной или непредумышленной – шотландских командиров. Роберт Бакьюхейд получил такое увечье левой ноги, что о дальнейших военных сражениях на благо родной страны и короны пришлось, увы, забыть. Сам барон уцелел только чудом, когда раненный и заваленный горой мёртвых тел он пролежал всю ночь на поле сражения, боясь даже застонать, чтобы не привлечь внимания английской солдатни, рыскавшей по полю в поисках ещё живых шотландцев.
Так окончилась славная военная карьера славного сэра Роберта Лангдэйла из Бакьюхейда.
Глава X
Отец и сын
За описанием ратных подвигов владельца Крейдока мы как-то забыли о приватной стороне его жизни. Как-никак это был человек сильного характера и выдающейся наружности. Крепкая статная фигура вкупе с суровыми чертами лица составляли его мужественную внешность, которая вместе с твёрдостью и решительность его натуры делали из молодого барона завидного жениха для молодых дочек его соседей – богатых землевладельцев и знатных феодалов.
Но честный и прямолинейный барон не мог приносить свои чувства и симпатии в жертву расчёту и предубеждениям своего сословия. В первые свои самостоятельные годы он прикладывал все усилия, чтобы укрепить и обезопасить свои владения, и для налаживания добрых отношений, как было упомянуто чуть выше, он много посещал вождей горских кланов, территории коих находились к западу и северу от владений молодого барона.
И вот во время одной такой поездки к берегам озера Лох-Ломонд на торжественном приёме, который вождь гостеприимного септа МакАлдоних клана Бьюкэнан устроил в честь гостей, барон заметил красивую девушку с каштановыми волосами, которая, как выяснилось, была дочерью чифтана МакАлдониха. К большому удивлению барона, когда отец о чём-то спрашивал девушку в присутствии гостей, она, видимо из уважения к ним, отвечала ему на хорошем шотландском языке, к тому же выказывала манеры, присущие знатным светским дамам. Видя изумление Бакьюхейда, МакАлдоних только улыбался.
В последующие дни Роберту часто приходили на память эти ласковые глаза, красиво очерченные брови, нос с лёгкой горбинкой, алый рот, улыбающийся сдержанной, едва заметной улыбкой. Юный барон понял, что влюблён. Не удивительно, что он отыскал повод ещё два-три раза посетить гостеприимный септ. Роберт не скрывал своего восхищённого взгляда, когда оказывался в присутствии дочери МакАлдониха. Ему было уже известно, что очаровавшую его девушку звали Кентигерна. Оказалось, как с интересом узнал барон, что Кентигерна провела некоторое время во Франции, на что её отец не пожалел средств и что объясняло ту утончённую учтивость и изысканные манеры, выказываемые девушкой. Решительный Роберт не стал долго затягивать и высказал свои чувства к Кентигерне и намерения её отцу МакАлдониху…
Большинство из окрестного дворянства с насмешками, недоумением и даже возмущением восприняло весть о женитьбе молодого барона Лангдэйла на девушке из кельтского клана, незнатного происхождения. Особенно негодовали молодые особы и их мамаши из дворянских семей, многие из которых были не прочь породниться с таким статным и мужественным бароном. Но всем своенравный Роберт Бакьюхейд предпочёл полюбившуюся ему искреннюю и неизбалованную светским обществом девушку, которая, тем не менее, имела все основания гордиться своей родословной, будучи прямым потомком ирландских королей, а по образованности и манерам даже превосходила большинство из своих сверстниц из знатных шотландских семей того времени.
Родившийся через пару лет после женитьбы младенец не прожил и недели. Долгое время после этого господь не сподоблял пару заиметь наследников. Кроме этого ничто более не омрачало жизнь супругов, протекавшую в целом спокойно и радостно.
Но бездеятельно жить в родовом замке энергичный Роберт не мог. А потому он очень обрадовался представившемуся случаю, когда до него дошли слухи, что граф Леннокс планирует освободить короля Иакова. Барон собрал небольшой отряд и вступил в армию графа, оставив Кентигерну в Крейдоке. Вскоре Роберт вернулся, удручённый поражением в битве при мосте Линлитгоу. Однако долго усидеть дома не мог, ибо, почувствовав вкус сражений, он загорелся желанием освободить короля. Отлучки барона участились. В это время-то и случилась страшная беда.
Воспользовавшись отсутствием многих мужчин во главе с Робертом Бакьюхейдом, на его владения напала банда горцев из разбойного клана Макрегоров. У этой шайки не было определённого места действия, они мигрировали из одного района горной Шотландии в другой, спускаясь порой на равнины и грабя земли феодалов, угоняя скот и унося добро. Свершив своё грязное дело, они прятались в запутанных лабиринтах гор, где знали каждую тропинку и где у них были многочисленные укрытия: спрятанные между скал укромные пещеры, уединённые хижины в тёмных ущельях или залежи в таких диких местах, куда никто не мог добраться. Редко кто отваживался их там преследовать. На владения барона горцы напали вечером перед закатом. Фермеры и крестьяне опешили от неожиданности и в страхе разбежались, оставив без присмотра весь скот. Кто-то собирал детей и торопливо запирал свой дом, кто-то в спешке пытался найти засунутую куда-то заржавелую пику или алебарду. А разбойники тем временем погнали прочь быков, коров и телят, стараясь как можно быстрее достичь высоких холмов на севере, где можно было легко укрыться и не опасаться погони. По жестокой случайности на их пути попалась леди Бакьюхейд, которая верхом на лошади в сопровождении служанки прогуливалась по зелёным полянам прилежащего к замку леса. Завидев вооружённых людей в горском одеянии, гнавших знакомых ей животных, она смело подъехала к горцам и на гэльском языке потребовала объяснить их беззаконные действия. Большинство разбойников поначалу смутил вид прекрасной женщины и её повелительный тон. Но их предводитель, заросший огненно-красными волосами горец со сверкающими лютой злобой глазами, взял под уздцы лошадь Кентигерны и сказал на своём гортанном наречии:
– Эгей, смотрите-ка, Сыны тумана, вот у нас ещё одна добыча! Она, поди ж ты, поценнее всего скота будет. Ха-ха-ха. Вяжите эту саксонку.
Леди Бакьюхейд стащили с лошади и связали. Два дюжих горца взвалили её красивое стройное тело на плечи и присоединились к остальной шайке, которая с удивительной быстротой двинулась дальше. А еле живая от страха служанка, которая каким-то чудом ускользнула от внимания разбойников, вся в слезах вернулась в замок и рассказала о случившемся.
Той же ночью был отряжен гонец к барону, и через день Роберт Бакьюхейд на взмыленном скакуне влетел в ворота замка. В бешенном исступлении он крушил всё, что попадалось ему под руку, и как разъярённый лев метался по всему замку. Слуги с испуганными лицами жались к стенам.
Вечером вслед за своим господином прибыл отряд барона. Роберт, казалось, успокоился и с мрачным видом сидел в кресле, размышляя, что можно предпринять для поисков своей супруги. Тут ему доложили, что у ворот замка стоит какой-то горец и твердит, что хочет говорить с самим бароном. «Впустите его!» – приказал хозяин замка. Перед ним предстал один из разбойников, совершивших недавно нападение на владения барона.
– Ты пришёл, чтобы тебя повесили, злодей? – гневно воскликнул Роберт.
Нимало не смутившись от такого тона хозяина Крейдока, на ломанном языке, использовавшемся тогда в нижней Шотландии, горец, нахально улыбаясь, ответил:
– Сассенах26 меня не убить. Она хочет её бан вернуться домой. Поэтому меня не убить.
Из дальнейших слов разбойника Роберт Бакьюхейд понял, что главарь шайки хочет получить выкуп в размере двести мерков за возвращение угнанного скота и тысячу мерков за возвращение похищенной леди. Чтобы собрать такую сумму, управляющему барона требовалось, по крайней мере, две недели. Поэтому после некоторого раздумья молодой барон велел разбойнику прийти за деньгами через этот срок. За эти две недели, пока его управляющий был занят сбором денег, Бакьюхейд со своим отрядом исколесил все окрестные горные ущелья и долины на расстоянии до пятидесяти миль от Крейдока, пытаясь напасть на след бандитов. Но разбойники как будто растворились в тумане, окутывавшем горы.
В условленный срок разбойник вернулся за деньгами. Получив всю сумму, он поклялся, что через три, максимум через четыре дня, всё, принадлежащее барону, будет ему возвращено. Но прошло три дня, четыре. На пятый день разбойник вместе со своим помощником пригнали угнанное стадо, в котором, однако, не хватало пары коров и телёнка. Барон, не увидав своей жены, схватился за меч и ринулся на горца с криком: «Ах ты, злодей! Ах ты, лжец! Ах ты, клятвопреступник! Я тебя живьём поджарю и буду по одной отрубать части твоего поганого тела! Клянусь святым распятием, ты ещё на этом свете узнаешь, что такое ад!»
Но, несмотря на всё неистовство Роберта Бакьюхейда, разбойник с презрением отвечал: «Сассенах искал детей тумана. Плохо. Мы прятаться. Завтра её бан приходить».
Барон кипел яростью, глаза метали молнии, голос гремел раскатами громовых проклятий. Но он понимал, что оказался заложником своей доверчивости и горячности. А посему, ежели он не хотел терять надежды вернуть свою леди, то ему не оставалось ничего другого, как позволить разбойникам спокойно удалиться…
Кентигерна пришла на следующий день, как и говорил горец.
Глаза её были опущены на землю и взгляд беспорядочно блуждал. Во всём её поведении не было ни намёка на радостное ликование от возвращения в Крейдок к любимому мужу, которое в подобных обстоятельствах стоило бы ожидать. Все последующие дни леди Бакьюхейд была не похожа на ту весёлую и беззаботную Кентингерну, которую привыкли видеть в замке до этого. Она оставалась печальна, мало разговаривала. Челядь Крейдока относила необычное поведение своей хозяйки на воздействие на её рассудок ужасных испытаний, связанных с нахождением в неволе у горских бандитов. Однако же, странная перемена произошла и в бароне. Он стал замкнут и молчалив. На осунувшемся враз лице резко стали выделяться скулы. Взгляд его стал ещё более суровым. А в глубине глаз разгорался злой огонёк.
Примерно через месяц после возвращения Кентигерны от разбойников барон и его леди с эскортом всадников покинули замок. А когда через несколько дней Роберт Бакьюхейд со своими людьми возвратился, Кентигерны с ним не было. Слугам было сказано, что леди Бакьюхейд пожелала провести некоторое время у своего родителя МакАлдониха. На следующий день барон во главе своего вооружённого отряда ускакал, не объяснив куда и когда вернётся.
Прошёл ещё месяц. До Крейдока доходили слухи, что кто-то мельком видел вооружённый отряд, похожий на отряд Бакьюхейда, то в одном месте в Ментейте, то в другом в Стёрлингшире, то даже на берегах Лох-Ломонда. Но никто толком ничего не знал.
Наконец в один прекрасный день под вечер барон со своим отрядом не спеша въехал в замок. Все слуги и челядь радостно собрались поприветствовать своего хозяина, устало прошествовавшего во «дворец». Никто не обращал внимание на оставшихся во дворе ратников. Лишь утром челядинцы Крейдока с омерзением заметили высившийся над въездными воротами шест, на который была насажена человеческая голова. Собравшиеся рядом слуги и подошедшие местные жители, привлечённые новостью о возвращении барона, вскоре опознали в той голове с огненно-рыжими волосами и такого же оттенка бородой, со страшным жестоким оскалом на лице, искажённым гримасой ненависти и боли, того самого разбойника, который предводительствовал при налёте на владения барона несколько месяцев назад.
Ещё долго замковые врата «украшал» ужасный трофей. Он уже успел превратится в череп и мёртвые волосы потеряли свой огненный цвет, а барон всё не разрешал снимать жуткий символ возмездия. Голова разбойника так и высилась над въездом в замок, добавляя угрюмости в настроение его обитателей, до тех пор, пока в Крейдок не вернулась леди в сопровождении своего мужа. Увидев череп над воротами, она как будто узнала в нём его бывшего обладателя, побледнела и упала бы с лошади, если бы барон не поддержал её, вежливо обняв за талию. Глаза же Бакьюхейда в тот момент горели мстительной радостью… В тот же день страшный череп исчез с ворот замка.
Во время отсутствия Кентигерны в замке, барона тоже почти всё время не было дома. Как раз в это время он помогал королеве-матери строить планы по освобождению короля Иакова. После того как Роберт Бакьюхейд привёз свою леди обратно в Крейдок, он месяц-другой никуда не отлучался, наслаждаясь после многомесячной разлуки пребыванием рядом со своей любимой Кентигерной. Но однажды прискакал посыльный с гербом Стюартов на плаще.
И вновь Бакьюхейд вступил в борьбу за высвобождение короля из пут регентской опеки, и снова его месяцами не бывало дома. О том, каким опасностям он подвергался, будь то при вызволении короля из Фолклендского замка или при стычках в Пограничье, барон своей леди предпочитал не рассказывать. Кентигерна же терпеливо переносила продолжительные отлучки мужа, вместо него занимаясь вопросами поместья.
Однако, самой большой её печалью долгое время было отсутствие у них детей с тех пор, как умер ещё младенцем их первенец. Кентигерна понимала, что и Роберта не могло радовать это обстоятельство. К счастью, супруги слишком любили и уважали друг друга, что позволило им избежать взаимных упрёков и без ропота принимать испытания судьбы. Наконец, на восьмой год их брака Бог услышал горячие молитвы леди Бакьюхейд и терпение супругов было вознаграждено рождением сына.
Мальчика назвали Ронаном, что было необычно для дворянских семей, где никогда не называли детей кельтскими именами. Но это имя ирландского святого очень нравилось Кентигерне, и барон не видел причины, почему он должен уподобляться другим дворянам и называть своего сына Джоном, Вильямом или Джеймсом – самыми распространёнными в те времена в стране именами. Такое своенравие и причудливость Бакьюхейда вызывали насмешки у скудоумных и чванливых аристократов и соседей-землевладельцев, которые плохо были знакомы с бароном. Но не у тех – а их было большинство, – кто в нём видел храброго рыцаря, отметившего себя доблестью на полях сражений во имя короля и страны, мужеством и благородством поведения, и коему Иаков Пятый, судя по ходившей молве, в немалой степени был обязан своей свободой…
Поначалу воспитанием сына занималась сама леди Бакьюхейд. Она научила Ронана говорить, помимо шотландского, ещё и на своём родном гэльском языке. Пока мальчик был совсем маленький, она много рассказывала ему историй, как своего клана, так и различных мифов и легенд из богатого шотландского фольклора. Кентигерна прекрасно пела и играла на арфе, под мелодичные звуки которой Ронан частенько засыпал. Сын оставался единственным утешением леди Бакьюхейд во время долгих отсутствий её мужа, ибо сэр Роберт появлялся в Крейдоке редко и, как правило, ненадолго. Тихая семейная жизнь претила темпераментному и деятельному барону, который тратил свою бурную энергию вкупе с могучей физической силой и прекрасным здоровьем в пылу многочисленных больших сражений и малых стычек, о чём выше уже было порядочно рассказано. Поэтому из своих ранних детских лет Ронану более всего запомнился образ его матери, её ласковый и мелодичный голос, нежные звуки арфы, их долгие прогулки по лесным аллеям.
Когда мальчику было шесть или семь лет, в Крейдоке случилось огромное несчастье. Леди Бакьюхейд неожиданно охватила сильнейшая лихорадка с непонятными симптомами. Болезнь усугублялась с каждым часом. Не помогали никакие примочки и лекарственные снадобья, известные в то время. Не принесло облегчения и кропление святой водой отцом Филиппом. Бедный мальчик в своей спальне преклонился перед распятием и шептал по-детски горячие молитвы. Сделали кровопускание и леди Бакьюхейд, казалось, полегчало. Она перестала метаться по кровати и её взгляд стал более осознанным. Все вздохнули с облегчением. Кентигерна слабым голосом попросили привести Ронана. Когда мальчик с растерянным и тревожным заплаканным лицом предстал перед ложем своей матери, Кентигерна подняла слабую руку и осенила сына маленьким позолоченным крестом, который всегда лежал у неё в изголовье. После этого она откинулась на подушках и закрыла свои красивые и ласковые глаза. Через час Кентигерны не стало.
Лишь через несколько дней посыльный, отправленный из Крейдока сразу же, как у Кентигерны проявились признаки болезни, рискуя жизнью, не без труда разыскал сэра Роберта где-то в приграничной области и сообщил о странном недуге его жены. Но болезнь леди Бакьюхейд была столь скоротечной, что барону сообщили о ней, когда душа Кентигерны уже оставила её бренное тело. Не ведая ещё об этом, встревоженный барон, до смерти загнав своего скакуна, уже на следующий день после получения тревожной вести был дома, но только для того, увы, чтобы опустить тяжёлую каменную плиту в семейном склепе, которая навеки закрыла последнее земное пристанище его верной спутницы жизни.
Скорбь сэра Роберта была безутешна. Но каким манером может солдат быстрее забыть свою печаль и горе, как не окунувшись вновь в ратную жизнь с её походами, сражениями, подвигами, ранами… Ронан же остался на попечение воспитателя да отца Филиппа. Сам барон Бакьюхейда никогда систематически не учился и считал, что человеку его ранга и образа жизни вполне хватает умения читать и писать и делать элементарные арифметические подсчёты, и, весь поглощённый в ратное служение и ведя походную жизнь, он обоснованно надеялся, что его образованная супруга возьмётся руководить образованием сына. Но преждевременная кончина Кентигерны заставила барона самому поразмыслить, как построить воспитание сына. Во многом Бакьюхейд полагался на советы отца Филиппа, замкового капеллана, стойкого приверженца католической веры, человека эрудированного и любознательного, главными достоинствами коего, да и недостатками тоже, являлись добродушие и снисходительность. Под руководством этого достопочтенного клирика Ронан научился неплохо читать и писать, включая и латынь, ибо только на этом языке отец Филипп мог приобщить мальчика к религии, читая ему небольшие и самые понятные отрывки из Библии и Евангелия. Но более всего Ронану нравилось слушать удивительные рассказы про различные исторические события своей страны, ибо отец Филипп всю свою жизнь собирал предания, истории и легенды из бытия шотландских святых, из жизни королей, известных вельмож, да и небольших дворян, а также описания битв и всевозможные хроники. Поначалу мальчик просил капеллана почитать ему «что-то такое интересненькое». Позже, когда Ронан уже сам неплохо умел читать, он с позволения отца Филиппа забирался в его архив и откапывал там какой-нибудь текст с заинтересовавшим его заголовком. Иногда священник добродушно ворчал на Ронана, когда тот клал книгу не на ту полку, где он её брал.
Воспитателем же мальчика был один школяр, закончивший в своё время университет в Глазго, после чего занимавшийся тем, что обучал детей в семьях феодалов различным наукам. Это был беспечный молодой человек, любитель побалагурить. Он не пропускал ни одного празднества в Хилгай, селении недалеко от замка, откуда возвращался обычно в самом отличном расположении духа, подкреплённым к тому же aqua vitae. Тем не менее, несмотря на всю его весёлость, он был смышлёным малым и дал Ронану много полезных знаний, коими сам обогатился в бытность свою студентом, и в том размере, в котором ребёнок мог их воспринять. По правде говоря, воспитатель из него был никудышный, зато он был хорошим компаньоном Ронану в прогулках по лесу, дурачился вместе с мальчиком и залезал на деревья, не запрещал ему делать то, за что в других благородных семействах обоих строго бы наказали. Отцу Филиппу этот молодой человек не нравился вовсе, но, видя улыбку или смех на лице Ронана в ответ на весёлую гримасу, состроенную ему учителем, или когда мальчик хохотал над простодушными выходками своего молодого воспитателя, этот служитель церкви мирился с прочими его недостатками…
Так прошло четыре или пять лет. Благодаря двум своим таким наставникам Ронан не замкнулся в себе после смерти матери, увлёкся чтением – поначалу всяких развлекательных книг и рыцарских романов, а затем легенд и прочих старых хроник, будораживших его воображение, – и одновременно не просиживал всё время в своей комнате, а гулял по окрестностям, играл и развлекался со сверстниками из Хилгай, бегал с ними, прыгал, кувыркался и купался в озере.
Но на смену так полюбившемуся Ронану беспечному воспитателю отец мальчика вскоре пригласил совсем другого учителя. Барон посчитал, что его сыну пора осваивать более серьёзные науки, нежели учиться складывать цифры и тратить время на бездумное чтение. Так в Крейдоке появился сурового вида человек со сросшимися бровями и огромным шрамом через всё лицо. Это был старый шотландский солдат, воевавший много лет на континенте в армиях различных королей и принцев, а теперь возвратившийся на родину, чтобы спокойно провести остаток своей жизни. Барон пригласил его, дабы он научил мастера Ронана всем воинским наукам. Сэр Роберт рассчитывал, что его наследник станет достойным представителем своего рода и продолжателем благородного дела своих предков, коим барон считал беззаветное служение шотландским монархам и королевству. Он не слушал возражений отца Филиппа, что мальчик ещё слишком мал для обучения воинским наукам. Своенравный барон полагал, что чем раньше его сын начнёт овладевать военным мастерством, тем лучший рыцарь и более достойный слуга короля из него выйдет в дальнейшем.
У Ронана началась совсем иная жизнь. Сначала по часу, потом по два, а затем всё больше и больше времени ему приходилось уделять занятиям со старым воином. Оставалось, ежели не меньше времени, то меньше физических сил на игры со сверстниками. Поначалу он просто дрался на палках со своим учителем. И это казалось ему забавным. Но старый суровый солдат оказался более опытным педагогом, нежели беспечный школяр. Постепенно их сражения на палках становились более продолжительными и более жёсткими. У мальчика прибавлялось сил и выносливости. Детское тело привыкало к синякам и ссадинам. Вскоре вместо палки Ронану местный кузнец выковал небольшого размера меч. И его занятия стали менее походить на детскую забаву, но больше напоминать обучение настоящих воинов. Учитель показывал мальчику различные удары и способы защиты. Арсенал их боевых упражнений всё более обогащался. Ронан учился бросать дротик, стрелять из лука, арбалета и даже палить из аркебузы. Хотя такое оружие и считалось предназначенным для пеших ратников, но барон распорядился, чтобы его сын научился владеть всеми видами оружия, бывшем в ходу в то время. А посему Ронану приходилось даже делать упражнения с пиками и алебардами.
К пятнадцати годам Ронан уже отличался отменной ловкостью и гибкостью тела. Он стал вынослив как тяговая лошадь и силён словно молодой буйвол. На палках он мог побить любого из своих сверстников и часто вызывался драться с более старшими парнями. Ронану весьма не нравилось, когда он чувствовал, что ему специально поддаются – ибо не у всех хватало смелости биться с наследником баронства в полную силу. Он частенько надевал перевязь и по-детски гордо расхаживал с мечом, даже когда кругом были одни лишь слуги. Изменился у него и характер. Почувствовав свою возросшую силу и замечая, с каким почтением окружающие относятся к нему как к будущему их хозяину, тем более в отсутствие барона, Ронану трудно было устоять от соблазна поддаться гордыне и он стал иногда кичливо важничать. Отец Филипп сожалел об уменьшившемся интересе юноши к чтению, качал головой и иногда пытался разговаривать с Ронаном, упрекал его в заносчивости и рассказывал о смиренности духа и прочих христианских добродетелях. Однако, в этом возрасте юношам трудно что-либо доказать словами и внушениями. Так и у Ронана, который с почтительным видом слушал капеллана, а через несколько минут после расставания с ним все сказанные тем благодатные слова улетучивались подобно быстро растворяющемуся в небе облачку.
Вскоре, однако, снова всё переменилось, включая и юношеский норов. Причиной тому стал тот, от кого можно было менее всего этого ждать – барон Роберт Бакьюхейд. Одним хмурым сентябрьским днём в Крейдок прибрёл ратник из отряда барона. Он был в разодранной одежде, без оружия, волосы слиплись от пота и крови. Весть, которую он принёс, была ужасна. По словам воина, вся огромная шотландская армия была разгромлена и уничтожена англичанами в страшной битве у Пинки-клюх. Пал весь отряд барона Бакьюхейда, а самого сэра Роберта ратник видел, когда тот падал вместе с лошадью оземь, поверженный вражескими ударами.
В замке воцарилась мрачная напряжённость. В селении слышался плач, ибо многие ратника из отряда барона, имели здесь семьи. Старый воин, учитель Ронана и отец Филипп, взяв с собой пятерых крестьян из Хилгай, отправились на место битвы искать тело сэра Роберта. Его сын в это время метался по всему Крейдоку. Его переполняли разные противоречивые чувства. Он понимал, что лишился последнего родного человека. Хотя барон редко бывал в родовом замке и мало проводил времени со своим наследником, будучи занят ратными делами, Ронан всегда чувствовал привязанность к отцу. Ему нравилась его суровая мужественность, прямота и простосердечие. Он не мог поверить, что родителя не стало. Юноша разом возненавидел все войны на свете, которые лишали детей их родителей. Но с другой стороны он ещё более возненавидел англичан, извечно жаждущих покорить его страну. Ему было противно смотреть на развешанные по стенам старинные доспехи и одновременно хотелось схватить меч, вскочить на коня и ринуться на врагов, убивших его отца. Ронану как никогда захотелось поговорить с капелланом, излить ему свою душу, попросить помочь разобраться в сбивчивых мыслях, испросить совета. Но отца Филиппа не было в замке. Единственный человек, с кем Ронан мог поговорить по душам, был старый замковый повар Гилберт. Но тот тоже был как никогда угрюм, несловоохотлив и только охал и ахал.
Так прошло три тяжёлых дня. На четвёртый день в замок прибежал какой-то мальчишка и сказал, что в Хилгай привезли павших у Пинки. Ронан в одиночестве побрёл в селение, до которого было не более мили. Бледный и хмурый, ожидая скоро увидеть мёртвое тело своего родителя, он шёл по дороге, когда из-за поворота показался верхом на муле отец Филипп, на уставшем лице которого тоже была печать траура. Но увидав Ронана, он почему-то улыбнулся ему и сказал: «Эй, мастер Ронан, беги скорей в замок и вели приготовить постель в комнате барона, зажечь камин да нагреть побольше воды. Даст Бог, поживёт ещё сэр Роберт не один годок». Юноша сначала с недоумением посмотрел на капеллана, а когда до него дошёл смыл сказанного, он опрометью бросился обратно в замок отдавать приказания.
Оказалось, барон Бакьюхейда не был убит. Его тело нашли среди зарубленных, заколотых и убитых пушечными ядрами шотландских воинов. Благодаря прочным латам на нём было всего лишь несколько небольших ран и ушибов. Поэтому он и не успел потерять много крови. Причиной его падения в бою стало то, что пока сэр Роберт раздавал удары налево и направо, отражая наскоки английских рыцарей, один вражеский копьеносец подкрался сзади и воткнул свою пику в бок коня рыцаря. Когда бедное животное, сражённое людским коварством, рухнуло, оно увлекло за собой своего хозяина и при падении так неудачно придавило правую ногу барона Бакьюхейда, что эта его конечность сломалась сразу в нескольких местах. В предсмертной агонии боевой конь пытался ещё подняться и тем самым усугубил страдания своего хозяина, ибо нога барона застряла в стремени. Впрочем, это обстоятельство вкупе с тем, что оглушённый падением и болью Роберт Бакьюхейд потерял сознание, в конечном итоге и спасло ему жизнь. Увидев, как конь волочит безжизненно свисающее из стремени тело, англичане подумали, что всадник уже мёртв. И когда животное, в конце концов, рухнуло, никто из врагов не счёл нужным тратить силы на то, чтобы подойти и добить того, кто и так, по всей видимости, был уже трупом… Когда сэр Роберт очнулся, было темно, слышались переклики английских солдат и наёмников, рыскавших по усеянному телами полю в поисках поживы. Рыцарь попробовал пошевелиться и правую ногу пронзила страшная боль. Так он пролежал до утра, то теряя чувства, то приходя в сознание. Когда рассвело, английских солдат уже не было. На поле то там, то здесь осторожно стали появляться люди: это шотландцы искали своих знакомых и сородичей, чтобы предать земле их тела. Но найти кого-то в этой груде мёртвых тел было весьма тяжело. Погибших была не одна тысяча. И пока мёртвых растаскивали и клали рядами, кто-то услышал слабый стон. Это был барон Бакьюхейда. Его тут же доставили в палатку, куда сносили раненых и умирающих. Там его и обнаружил вечером следующего дня отец Филипп. Когда разыскали и собрали всех погибших воинов из отряда барона, их погрузили в повозку и печальная процессия отправилась в Хилгай. Впереди ехала повозка с погибшими, позади несли носилки с бароном. Поскольку траурная повозка двигалась быстрее, она чуть раньше достигла земель баронства и остановилась в центре селения, о чём тут же стало известно в замке. Поэтому когда понурый Ронан шёл в Хилгай, он не знал ещё, что его отец барон Бакьюхейда был жив…
Нога барона мало-помалу зажила, но он стал сильно хромать, а езда в седле причиняла ему сильную боль. А посему сэр Роберт вынужден был оставить ратные дела и проводить большую часть времени в родовом замке. По этой причине жизнь в Крейдоке резко изменилась, как меняется жизнь на корабле, когда после долгой отлучки на берег на борт судна возвращается его капитан. Управление имением и землями барон взял на себя, а старому – не только по возрасту, но и по сроку службы в Крейдоке – управляющему было предоставлено небольшое содержание и домик для проживания в Хилгай. Гилберту взяли ещё двух поварят по причине прибавившейся работы, ибо и сэр Роберт после скудного воинского рациона пристрастился к вкусной домашней еде, и частые пиршества с соседями дворянами и помещиками, которые устраивал радушный барон, требовали дополнительного кулинарского старания. Поскольку хозяин замка был более благосклонен к ревностным католикам, то на мессы отца Филиппа стало собираться столько народу, что порой не все пришедшие помещались в замковой часовне.
Но особенно сильное изменение претерпела жизнь Ронана. Сэр Роберт попросил сына продемонстрировать, чему тот научился у мастера ратного дела. Опытным глазом военного он оценил умения своего наследника, похвалил Ронана за прилежание и его учителя за усердие в обучении. Однако, к удивлению юноши, через несколько дней старый воин, его учитель, хмыкая, улыбаясь и подкручивая ус, перебрался из замка в Хилгай в дом к одной вдове, потерявшей супруга в битве при Пинки. Жизнь Ронана стала более вольготной. Не обременённый более тяжёлыми воинскими занятиями и снова превратившись в доброго и спокойного подростка, он перестал бахвалиться перед окружающими своими навыками и взял за правило много времени проводить разъезжая верхом по окрестностям, кои не ограничивались только близлежащими холмами и долинами, а простирались с каждым днём всё дальше и дальше. Сэр Роберт не запрещал такие поездки, а даже поощрял их. Так, на своё шестнадцатилетие Ронан получил в подарок прекрасного гнедого жеребца испанских кровей. Конь настолько полюбился юноше, что он не позволял никому ухаживать за ним, седлать и рассёдлывать жеребца, мыть его и чистить. Всё это делал только хозяин Идальго – так назвали коня. И животное отвечало взаимностью юноше, и когда тот появлялся в конюшне, обычно приветствовало его радостным ржанием. На Идальго Ронан уезжал порой за десятки миль от Крейдока. Ему нравилось скакать через горы и долы. Он упивался быстротой езды и радостью чувствования крепкого молодого тела. Ощущение свободы и ликование при виде завораживающих пейзажей заставляли забыть обо всех прошлых горестях и тревогах. Усталый, но счастливый он возвращался в замок под вечер, а иногда и поздно ночью.
Скоро у Ронана появился ещё один друг. Вернее сказать, слуга или что-то вроде пажа, ибо то был паренёк на четыре или на пять лет моложе Ронана, отец которого много лет сражался под командой сэра Роберта, но пал вместе с другими в битве при Пинки. Барон не оставил без внимания ни одну семью в Хилгай, где потеряли в той страшной сече мужа, отца, сына или брата. Одной вдове он предложил взять её младшего сына в замок, где тот мог бы вести более радужную жизнь, к тому же сняв с матушки заботы о своём пропитании и одёжке. Так в Крейдоке появился Эндри, рыжеволосый худощавый парнишка с плутовской физиономией. Он не умел ни читать, ни писать, а также не знал никаких других наук. Но эти недостатки с лихвой компенсировались его бойким язычком, весёлым нравом и расторопностью в действиях. Он с полуслова понимал Ронана, а своими озорными шутками не давал своему хозяину возможности соскучиться. Ронан же, обделённый судьбой прочими братьями и сёстрами, да и сам ещё почти мальчишка, вскоре привязался к Эндри и полюбил его как младшего брата. Он даже научил его грамоте, благо смышлёность Эндри не уступала бойкости его языка.
Вскоре Ронан пристрастился к охоте, и здесь Эндри был его верным помощником. Он помогал смотреть за гончими и ухаживать за соколами, которые всегда держались в Крейдоке, ибо любимым развлечением барона Бакьюхейда в дни его кратких наездов домой, была охота. Но после Пинки сэр Роберт уже не мог в полной мере наслаждаться этой утехой. Борзые бесцельно разгуливали по замку, соколы томились в своих клетках. Но однажды давно скучавший ловчий барона, малый по имени Питер был нежданно обрадован, когда к нему подбежал Эндри и сообщил, что мастер Ронан желает повеселиться и устроить охоту. Жизнь в замке ещё более оживилась. Даже барон кряхтя забирался на лошадь и не спеша выезжал вслед за молодёжью, пусть хоть не поучаствовать в охоте, зато понаблюдать за ней с какой-нибудь возвышенности; а иногда даже и надевал перчатку и сажал на неё сокола, снимал клобучёк с головы птицы и запускал её в воздух, подбирать же трофеи отправлялись Ронан, Питер или Эндри.
По вечерам же сэр Роберт всё чаще стал проводить время в беседах с отцом Филиппом. О чём они разговаривали, никто не знал, ибо собеседники закрывались вдвоём в покоях барона. Полагали, что они обсуждают некие вопросы религии, кои в то время угрожающе надвигающейся реформации будоражили всех людей в шотландском королевстве. В действительности же, барон и капеллан обтолковывали видение грядущей судьбы Ронана. Сэр Роберт полагал, что его сын должен пойти по его стопам. Однако барон был в некотором конфузе: в стране опять правил регент; королева Шотландская, маленькая Мария ради безопасности была отправлена во Францию и, согласно хаддингтонскому договору, она должна была стать женой французского дофина. Сэр Роберт, никогда не интересовавшийся политикой и всегда служа своему монарху и шотландскому королевству, не знал разом, какую фракцию поддерживать и чью сторону принять. Он задавался вопросом: какому правителю будет служить его сын? – и не находил на него ответа. С другой стороны, замковый капеллан, будучи духовным отцом Ронана, тоже был не равнодушен к его судьбе. Он поделился с бароном своим мнением о даровитости юноши и его завидных успехах в учёбе.
И, в конце концов, духовный и родной отцы сошлись во мнении, что Ронан ещё мал для воинской службы, но достаточно зрел, чтобы даром терять время в замке, и что юноше полезно будет обогатить свои знания иными полезными науками и в то же время пожить без отцовской опеки и приучиться к некоторой самостоятельности. Мысль о том, чтобы отправить Ронана в университет Сент-Эндрюса или Глазго, была отброшена старинными товарищами сразу, ибо, во-первых, фамильная гордость барона не позволяла и думать, что юноша будет учиться и жить вместе с ровесниками из низших сословий, грубо говоря, из простонародья и черни, а во-вторых, был повод небезосновательно опасаться, что среди студентов могут распространяться еретические кальвинисткие учения. Отцу Филиппу пришло на память, что в аббатстве Пейсли пребывает монах необыкновенных научных познаний. Барону понравилась эта мысль и он, вопреки своей неприязни к Джеймсу Гамильтону по причине недальновидности оного как полководца в битве у Пинки-клюх и ведомой им вилявой политике, написал брату его, архиепископу письмо, испрашивая позволение Ронану укрепиться в католической вере, обучаться богословию и таинствам прочих наук у благочестивого учёного монаха в обители Пейсли. Барон и архиепископ сошлись на сумме в двадцать мерков за каждый из сорока месяцев, которые юноша должен был провести в монастыре.
Ронан же тем временем беззаботно проводил время в скачках, в охоте, в играх и прочих юношеских забавах. За три дня до начала планируемого обучения сэр Роберт позвал сына и в присутствии капеллана объявил опешившему юноше свою волю. Отец Филипп отвёл ошеломлённого неожиданной новостью Ронана в свою комнату и объяснил, чем они с бароном руководствовались при принятии такого решения. Старый капеллан был мудрым человеком и смог найти такие слова, которые умиротворили возмутившийся было дух юноши, ободрили Ронана и даже чем-то вдохновили его, так что в конце разговора молодой человек был даже рад, что ему предстоит ещё более углубиться в науки и познать новое. Ронан верно уразумел, что барон поступил так исключительно во благо своего сына.
Назавтра юноша торжественно попрощался со всеми слугами, как будто уезжал не в недалёкий монастырь, а уплывал в Новый Свет. Спозаранку он хотел было оседлать Идальго, но тот был уже осёдлан – это Эндри напоследок решил выказать свою любовь и преданность хозяину.
На этом мы закончим краткое жизнеописание некоторых главных наших персонажей, предшествовавшее событиям, которые начались в первых главах и найдут своё продолжение уже в следующих строках.
Глава XI
Отчий дом
Итак, когда Ронан увидел силуэт родного замка, сердце его радостно забилось, и он с трудом удерживался, чтобы не пустить коня галопом.
В звериной душе Идальго, заприметившего строения замка вдали, верно, тоже проснулись некие воспоминания, и громкое ржание раскатилось по лесу.
Несколько минут спустя, пересекая большую лесную прогалину, своим зорким глазом охотника Ронан заметил молодого тетерева, вальяжно прогуливавшегося в густой траве в поисках ягод. Юноша не мог не остановиться, чтобы полюбоваться красочным нарядом этого представителя птичьего царства: чёрное оперенье с синеватым отливом, алые брови на голове и пара белых перышек в хвосте.
Птица бойко сновала по лугу, то ныряя в траву за красной ягодой, то поднимая голову вверх и оглядывая поляну – не видать ли где хищника. Неожиданно тетерев дёрнулся, испуганно метнулся в сторону, запрыгал, взмахнул крыльями, оторвался было от земли и… в этот самый момент раздался звук рассекаемого воздуха, и с неба камнем упала другая птица, ударив свою жертву в голову крепкими когтями. Тетерев свалился замертво, а сразивший его сокол взмыл вверх и гордо уселся на ветке осины, звеня привязанными к его лапкам бубенцами.
– Ого! Клянусь душой, отличная ставка! – воскликнул восторженно Ронан, оценив соколиную атаку опытным глазом. – Но кто же здесь интересно охотится?
И как будто в ответ на его вопрос между деревьев замелькала фигура бегущего человека. Когда он выскочил на открытое место, в худощавом пареньке Ронан не без радости узнал Эндри, давнего своего слугу. Хотя распознать в охотнике, разодетом в расшитый золотыми нитками бордовый камзол и с белым пером на шапочке, своего бывшего слугу юноше было нелегко, ибо мальчишка был больше похож на пажа богатого вельможи, чем на грума в маленьком замке. Увидев Ронана, направившего коня к месту, где лежала убитая птица, Эндри встал как вкопанный, но в ту же секунду на его веснушчатом лице промелькнуло хитрое выражение и он закричал:
– Эй, сэр! Не смейте трогать трофей, добытый слугами барона Бакьюхейда, а посему и принадлежащий ему! Не вы за птахой охотились, не вам она и достанется!
– Ты что же, плут, своего господина не признал? Это же я, Ронан Лангдэйл, – удивлённо воскликнул юноша.
Эндри посмотрел внимательно на Ронана, потёр кулаками глаза, снова взглянул на всадника и высокомерно заявил:
– Не дурачьте меня, сэр! Какой же вы Бакьюхейд? Посмотрите-ка на вашу одежонку. Право слово, ей-ей, у нас в замке слуги и то лучше одеваются. Вот гляньте, например, на мой камзол… Да одно лебединое перо с моей шапочки дороже всех ваших лохмотьев будет стоить!
Выпятив грудь, подперев бока и выставив вперёд ногу, паренёк стоял, красуясь с горделивым видом. Ронан, вспомнивший, наконец, про весёлый нрав своего молодого слуги и пристрастие его к шуткам, был не прочь подыграть тому и, приняв рассерженный вид, грозно сказал:
– Ах ты, мошенник! Да как ты осмелился надеть мою одежду, пусть она уже мне и стала не по плечу. Что ж, сейчас я тебя проучу!
Он отломил толстую ветку и угрожающе двинул коня в сторону паренька.
– Ааа!… – заорал Эндри во всю глотку. – Убивают! На помощь! Спасите! – и он что есть мочи дал дёру обратно в лес, лишь пятки сверкали… (Ну, конечно, пятки не могли сверкать, ибо на нём были добротные высокие башмаки из оленьей кожи, также «наследство» от Ронана. Мы выразились так лишь образно, для красного словца.)
Глядя вслед удирающему мальчишке, Ронан от души расхохотался и стал ждать того, кто придёт забрать сокола и его добычу. И в самом деле, через некоторое время появился Питер, ловчий барона Бакьюхейда, преданный слуга и добродушный малый.
– Вы ли это живьём во плоти передо мною, мастер Ронан! – радостно воскликнул он. – Домой пожаловали! Ну теперь, знамо, жизнь в Крейдоке веселее пойдёт. А уж барон как рад будет-то!
Здесь надо объяснить читателю, почему к юноше в Крейдоке обращались «мастер Ронан». Дело в том, что в Шотландии наследника титула обычно звали мастером с прибавлением названия титула. Так что, если следовать данному правилу, в нашем случае Ронана стоило бы звать мастер Бакьюхейда , т.е. наследник баронства Бакьюхейд. Но пока Ронан был мальчиком, домочадцы Крейдока ради почтительности прибавляли «мастер» к его имени, потому как у всех имя Бакьюхейд ассоциировалось с грозным бароном, отцом Ронана. И потому-то, вместо величания мальчика по имени бравого рыцаря, его почтительно и одновременно ласкательно называли мастер Ронан . Такое обращение к наследнику баронства по привычке осталось среди челяди замка и когда мальчик превратился во взрослого юношу.
Питер положил убитую птицу в холщовый мешок на спине, посадил сокола на перчатку, накрыл его голову клобучком и они вместе с Ронаном двинулись по извилистой дорожке к замку.
– А скажи-ка, Питер, а с какой стати этот чертёнок помчался от меня как полоумный? Что за чума его взяла? – спросил юноша с высоты своего коня.
– Эндри-то? По моему разумению, он направился через лес прямиком в замок, чтоб первым новость о вашем приезде принести. Везде сорванец свой нос суёт и первым быть хочёт.
Как будто в подтверждение его слов через несколько минут со стороны замка послышался радостный звук горна, стремившийся огласить на всю окрестность весть о важном событии.
– Эге-ге, мастер Ронан! Смотрите-ка, какие у Эндри ноги быстрые – уж весь Крейдок взбудоражил, – воскликнул Питер.
– Разумеется, в этом ты прав, дружище, – согласился Ронан. – От меня он умчался будто испуганная лань, за которой гонится стая голодных волков.
Через четверть часа Ронан на Идальго въехал в гостеприимно распахнутые ворота замка. Во дворе уже собралась небольшая толпа из слуг и челядинцев, каждый из которых хотел поприветствовать сына барона. Ронан с благодарностью ответил на их радостные выкрики и прошёл во «дворец», где в парадном зале, служившем одновременно и гостиной для времяпровождений, и холлом для празднеств и церемоний, его ждал сэр Роберт, чинно восседавший на резном стуле с высокой спинкой. Рядом с ним стоял, улыбаясь, сорванец Эндри. Вокруг стула и по зале лениво бродили гончие собаки. По стенам были развешаны старинные доспехи и оружие. Барон встал навстречу Ронану и горячо обнял его.
Роберт Бакьюхейд был чуть ниже сына, но шире в плечах, густые тёмные волосы с проседью под малиновой шапочкой с павлиньим пером были собраны и закреплены серебряным ободком. Чёрный парадный камзол с золотистой отделкой, ботинки с серебристыми пряжками и чулки с белыми бантами определённо не шли к мускулистой фигуре и бородатому лицу с властными чертами, с большим, придававшим ещё более суровости шрамом на щеке и густыми тяжёлыми бровями. Раскаты сильного и басовитого голоса барона разносились по всей зале и слышны были, кажется, даже во дворе. Этот человек без сомнения смотрелся бы лучше в латах, шлеме и с мечом на перевязи, ежели бы не то, как сильно он припадал на правую ногу, что сразу бросилось в глаза, как только он встал и сделал несколько шагов вперёд чтобы обнять сына.
Позади спинки стула как ни в чём не бывало стоял Эндри, довольный тем, что успел загодя примчаться в замок и помочь барону натянуть праздничную одежду, ибо в одиночку старый дворецкий Джаспер – который также был и камердинером барона, – с этой задачей так живо бы не справился. А паренёк зная, как его господин любит помпезность и церемонность, догадывался, что он наверняка пожелал бы встретить сына при всём параде…
После естественных расспросов, коими родитель забросал своего единственного наследника, и восторженных подробных рассказов последнего о проведённом в обучении времени сэр Роберт сказал, ухмыляясь в свою густую чёрную бороду:
– А ты, мой мальчик, верно, уже и от мирской суеты успел отвыкнуть за то долгое время, что в монастырском заточении пожил. Так ведь?
– Да какое же это заточение, батюшка? – ответил Ронан. – Право слово, вы же сами изволили отправить меня туда учиться. Да и скучать там с отцом Лазариусом в учёных занятиях мне не приходилось, в отличие, к примеру, от бедного Идальго…
– То-то, когда я нынче его ржание в лесу-то услыхал, – неожиданно бесцеремонно встрял в разговор заскучавший Эндри, – оно мне чем-то Pater Noster27 напомнило.
Ронан улыбнулся, а барон, не обращая внимания на вольности слуги, к коим он уже давно привык и принимал их скорее за детскую непосредственность, нежели за разнузданную непочтительность, продолжил:
– Может оно и так, Ронан. Тем не менее, было у меня опасение, как бы постное монастырское бытие не превратило тебя в чуждого мирским увеселениям инока. О-хо-хо! А вот завтра мы и проверим, дружок, не разучился ли ты ещё веселиться. А ты, Эндри, скачи-ка немедля в Арнприор к барону тамошнему, лэрду Эдварду Бьюкэнану и передай, что мы ждём его назавтра на празднество. И пришли мне ещё одного из конюхов, да одного из привратников – зашлю их также гостей звать.
– Ей-ей, господин! – ответил Эндри. – Вы, похоже, запамятовали, что в замке всего по одному конюху да одному привратнику и осталось-то. Коли все разъедутся в разные стороны гостей созывать, так кто ж будет ворота стеречь да овёс лошадям подсыпать? Может быть, старина Джаспер, который того и гляди развалится на ходу, или наш бравый повар Гилберт? А вместо него в таком случае кто же будет кушанья готовить для завтрашнего пиршества?
– Ах ты! Смотрите, какой умник выискался… Ясли пускай овсом доверху наполнят, а ворота запрут да самого старшего из кухарей в привратницкую посадят…
– … и дадут ему в руки заместо алебарды самую большую поварёшку, дабы ей непрошенных гостей отгонять! Ей-ей, вот потеха-то будет! – весело добавил мальчишка.
– Ах! Ты ещё здесь, шельмец! – прикрикнул барон, делая грозный вид. – Я полагал, ты уже вовсю в Арнприор мчишься. А ну, кругом марш!
Не успел сэр Роберт закончить фразу, а Эндри уже как ветром сдуло.
– Не понятно мне, Ронан, как ты управлялся в былые времена с этим озорником, покуда он при тебе пажом был. Я ему слово, а он мне целых два. Да как ловко всё умеет в шутку обернуть! Порой хочется приказать его выпороть на конюшне, а он, глядишь, снова какую-нибудь хохму отпустит. Не знаешь, что и делать: то ли сердиться, то ли хохотать.
– А мне нравится этот весёлый мальчишка с его добрыми шутками, – признался Ронан. – как, впрочем, и вам, отец. Это ведь вы только для вида сердитый вид делаете… Что ж, пожалуй, пойду-ка я сам распоряжусь обо всём, а потом вернусь к вам, мы ведь так давно не виделись…
На следующий день в Крейдоке с самого раннего утра вовсю дымила труба. Это повар Гилберт готовился порадовать гостей вкусными яствами. Накануне под вечер вернулись гонцы, и к полудню ожидалось прибытие гостей. Тем временем барон рассказывал сыну о приглашённых:
– У нас будет, во-первых, молодой Арчибальд Напьер, лорд Мерчистона, твой ровесник. Сего юношу отличают сообразительность, любознательность, цепкая память и к тому же блестящее красноречие. Однако же некому было дать ему добрый совет в своё время, и, покуда ты знаний набирался, Напьер поспешил обременить себя женитьбой на сестре оркнейского епископа и сейчас они проживают в своём доме в Гартнессе и уже растят наследника. Впрочем, я полагаю, у Напьера с его дарованиями будет блестящее будущее…
– А зачем же, отец, они живут в Гартнессе? Я видел их замок Мерчистон, он мне показался похожим чем-то на Крейдок и заслуживающим того, чтобы быть домом благородной семьи.
– Видишь ли, Ронан, Мерчистон находится совсем недалеко от Эдинбурга, а места там сейчас неспокойные. Вот, видимо, и решил молодой Арчибальд пока пожить с семьёй недалече от нас, в Гартнессе. Потише здесь в Стёрлингшире. Впрочем, если у тебя владения и в Лотиане, и в Стёрлингшире и в Ленноксе, как у этого самого Напьера, то ты имеешь полное право выбирать, где жить… Ну, так вот, во-вторых, будет у нас Эдвард Бьюкэнан, лэрд Арнприора, твой дальний родственник по материнской линии. Лет на пять постарше тебя будет. Очень колоритная фигура. Решительный, смелый, но и неуступчивый – это его потомственная черта. Ежели бы не мирный договор с Англией, полагаю, он бы не в Арнприоре сидел и хозяйством занимался.
– Простите мой наивный вопрос, отец, но мне право любопытно, – сказал Ронан, – почему вы с ними так сдружились. Эти молодые джентльмены28 годятся вам в сыновья, крепки здоровьем и у них наверняка иные интересы, нежели у вас.
– Эгей, да уж не ревнуешь ли ты, Ронан? О-хо-хо! Оставь эти неблагодарные помыслы, сынок. Арчибальд и Эдвард – наши отличные соседи. Они честные и благородные люди, хоть и не лишённые мелких недостатков. К тому же, я чувствую себя в долгу перед ними, ибо их родители, почтенные лорды Джон Бьюкэнан и Александр Напьер, с коими я имел честь быть очень дружен и которые не менее моего были преданы королю Иакову, так вот, эти отважные рыцари пали в сражении у Пинки-клюх. Помилуй, господи, их души. Погибли они по воле злого рока, а я, видишь ли, уцелел милостью божьей. Вот и пытаюсь оказать этим юношам хоть чуточку отцовской заботы, которой молодые люди были лишены в последние их лета… Впрочем, я уверен, что ты с ними подружишься.
Дальнейший разговор был вскоре прерван прибывшим гостем. Первым из явившихся лэрдов оказался и самый молодой из них – Арчибальд Напьер.
Следующим, как по времени приезда, так и по возрасту был Эдвард Бьюкэнан из Арнприора.
Постепенно один за другим подъехали и остальные гости со своими скромными свитами, состоявшими из одного-двух слуг. Из уважения к вдовству сэра Роберта и учитывая отсутствие в Крейдоке благородных дам и соответствующих развлечений для них, приглашённые приезжали без жён и дочерей, оставляя их искать себе занятие дома.
Кроме уже упомянутых сэром Робертом двух молодых баронов, прибыли ещё три мелкопоместных дворянина, кои вряд ли заслуживают какого-либо отдельного описания, кроме разве что упоминания о том, что это были старые честные шотландские патриоты, проливавшие кровь за свою страну во времена Иакова Пятого, и ревнители веры своих отцов…
Пока служанки и поварята вносили в зал разнообразные блюда, приготовленные под бдительным присмотром повара Гилберта, отец Ронана представил его гостям, после чего присутствующие разбились на две группы: барон со своими старыми боевыми соратниками и молодые люди: Ронан, лэрд Бьюкэнан из Арнприора и Арчибальд Напьер.
Мало-помалу Ронан разговорился со своими новыми знакомыми. Они подтрунивали иногда между собой над старыми воинами, у которых любимой темой для разговоров были воспоминания о славных битвах, да о бывшем своём короле Иакове Пятом, коему они давали такие эпитеты как благочестивый ревнитель веры, непримиримый противник Англии и упрочнитель шотландского королевства. Тем временем как сэр Роберт беседовал подобным образом со своими старыми боевыми друзьями, молодой лорд Напьер с любопытством расспрашивал Ронана о его обучении наукам в монастыре Пейсли, а Бьюкэнан с интересом прислушивался к их разговору. Молодые люди скоро оставили всякие титулы и фамилии и называли друг друга просто по имени.
После того, как Ронан рассказал о своём времяпровождении в Пейсли, лорд Напьер заметил:
– Я разумею, что знание французского, греческого, германского языков даёт возможность читать любые книги и разговаривать с иноземцами. Но вот математика и астрономия мне кажутся настолько архисложными и путанными, что могут свести с ума кого угодно. Да и какой от них прок, в конце концов, для благородных людей кроме, разве что, всяких астрологов, алхимиков и прочих шарлатанов?
– Ну что ж! А вот скажи, любезный Арчибальд, сможешь ли ты, к примеру, узнать точно высоту своего мерчинстонского замка, не меряя её ни шестом, ни верёвкой? – прищурив один глаз, спросил молодой Бакьюхейд.
Напьер задумался на мгновенье, затем ответил:
– Увы, должен признаться, мне это будет не под силу… По правде говоря, я и понятия не имею, как это вообще можно было бы сделать без верёвки с привязанным к ней грузилом!
– Ну хорошо, а как полагаешь, возможно ли узнать точное расстояние до какого-либо объекта – да хотя бы до той же башни твоего замка, – находясь вдали и не приближаясь к ней ни на йоту, а лицезря лишь её крышу на горизонте?
– Ну, ты мне прямо загадки задаёшь, приятель Ронан.
– Да нет же, Арчибальд! Это как раз простейшие и вразумительнейшие примеры того, что позволяет определять математика. Такие вычисления ведь ещё и в античной Греции могли делать. Но, конечно же, возможности этой науки много больше.
– А скажи, Ронан, – спросил тут Бьюкэнан, – вот ты говоришь, что также познал и науку астрономию. А как она объясняет, что Солнце вокруг земли обращается с такой прямо-таки неизменной периодичностью, равной двадцати четырём часам? И не может ли наше светило невзначай остановиться, и наступит тогда вечный день, если оно остановится с этой стороны земли, или вечная ночь, ежели – с другой?
– О-хо-хо, Эдвард! – развеселился молодой Бакьюхейд, смех которого был чем-то похож на смех его отца. – А знаешь ли – и для тебя и многих других это будет, верно, откровением, – что из всех небесных светил лишь Луна обращается вокруг Земли, а наша планета – да-да, Земля это планета! – сама кружится вокруг Солнца? А смена дня и ночи и vice versa есть причина того, что Земля к тому же, будучи круглым шаром, вращается вокруг своей оси. И так будет до тех пор, мне думается, пока господь соизволяет быть жизни на нашей Земле.
Бьюкэнан недоверчиво смотрел на Ронана, не в состоянии воочию вообразить всё то, о чём рассказывал юноша. Так это было непохоже на его личные весьма смутные представления об устройстве мироздания, присущие большинству людей того века.
– Так, стало быть, Земля не есть центр вселенной? – ошеломлённо спросил он. – И неужели ты хочешь сказать, что не Солнце вращается вокруг нас, а мы – вокруг него, и что мы живём на шаре, с которого странным образом не падаем? Но это ведь, чёрт возьми, просто невообразимо!
– Клянусь мессой, дорогой Эдвард, так оно и есть! – уверил Ронан. – Древние ещё в античные времена полагали – да и в наши дни многие невежественные люди вслед за ними по старинке считают, – что Земля плоская и является центром вселенной. Однако ещё в древности Пифагор верно предположил, что земля есть круглый шар. Но он заблуждался, считая её центром мироздания. А великий учёный по имени Николас Коперник доказал ошибочность таких убеждений.
И Ронан вкратце поведал друзьям основную суть открытий Коперника. Когда он говорил, глаза юноши светились, а на бледных обычно щёках пылал румянец, что стоило бы отнести не к действию выпитого перед обедом лёгкого вина, к которому Ронан, надо сказать, был непривычен, а к лихорадочному возбуждению, вызванному разговором о величайших открытиях науки.
Напьер и Бюкэнан, никогда прежде не обременявшие свои головы думами об устройстве вселенной и законах, которые ей управляют, слушали Ронана разинув рты. Ещё бы! Они привыкли, что умы дворян в лучшем случае были заняты мыслями о политике, войне и мире, будораживших всех религиозных вопросах того времени. А в большинстве же случаев, по правде говоря, все помыслы и, конечно же, поступки знати вообще исходили из сугубо честолюбивых и своекорыстных мотивов. Ныне же молодые бароны узнали совсем иного представителя дворянской семьи, который размышлял совсем по-другому, нежели прочие молодые люди из благородных фамилий.
Увлечённость Ронана заразила его слушателей. Даже отец Филипп, скучавший в компании старых солдат, передвинулся поближе к молодым людям и с интересом внимал вдохновенной речи своего бывшего подопечного.
Арчибальд Напьер настолько был поражён и вдохновлён рассказами Ронана, что в итоге он пылко воскликнул:
– Как бы я желал тоже овладеть науками подобно тебе, друг Ронан!
– Nulla aetas ad discendum sera29, как частенько говорил мой наставник Лазариус. Вот он, к примеру, до сих пор свой разум новыми познаниями обогащает, книги учёные по ночам читает, а у самого уж борода седая до пояса!
– Эх! – вздохнул Арчибальд. – Понимаешь ли, лежит на мне бремя заботы о многочисленных моих поместьях, там и здесь, будь они не ладны! А надо ведь и при дворе появляться, и в парламенте в Эдинбурге. Не до наук уж тут. Но клянусь честью, друзья! Когда подрастёт мой сын, обязательно определю его обучаться разным наукам.
Право автора позволяет нам забежать вперёд в историю и поведать читателю, что Арчибальд Напьер действительно сдержал своё слово, ибо сын его Джон Напьер стал учёным и прославился тем, что дал определение логарифма в своём труде «Mirifici logarithmorum» в 1616 году…
Вскоре беседа друзей, становившаяся всё более и более интересной, была прервана, ибо из кухни служанки и поварята стали вносить различные блюда. На огромных серебряных тарелках, наполняя залу аппетитными запахами, были уложены горы жареного и солёного мяса. Вазочки со всевозможными пряными приправами окружали их. Повар Гилберт вложил всё своё искусство в приготовление этих отменных блюд. На столе красовались нашпигованные каплуны и добрый шотландский бифштекс. Отдельно гостям был предложен жирный куриный бульон. Подобно стоящей на карауле в нескольких милях к западу горе Бен-Ломонд надо всеми блюдами возвышался большой сладкий пирог с яблоками, украшенный сверху белым кремом подобно снежной шапке на вершине.
Когда же блюда, наконец-то, были расставлены, отец Филипп благословил трапезу, прочитал Pater Noster и сел по левую руку барона. Никто бы не смог устоять в тот вечер перед искусительной кулинарией повара Гилберта, а посему на целых добрых два часа собравшиеся подпали под власть греха чревоугодия.
Глава XII
Пиршество
Обед поистине был отменным как по аппетитности, так и по обилию, что было вполне оценено гостями. Надо признать, что пример всем показывал сам хозяин дома, никогда не страдавший плохим аппетитом. Кушанья и яства, расставленные на массивном дубовом столе, сэр Роберт атаковал, как отважный воин обрушивается на заклятого врага, не зная тому пощады. Его боевые соратники не сильно отставали от старого рыцаря, подобно верным генералам, поддерживающим в битве своего полководца.
Молодые люди, то ли из уважения к старшим, а может и по отсутствию житейского навыка отведывали не спеша, больше наслаждаясь вкусом восхитительных мясных и кулинарных блюд, нежели обилием съеденного.
Когда с обедом было покончено, началось главное действо этого пиршества. Повар Гилберт самолично внёс в залу небольшой бочонок и принялся его откупоривать.
– А вот и лучшее бордо, которое вы когда-либо пили, друзья! – воскликнул хозяин. - Мы не приобретаем у виноторговцев в Эдинбурге ту разбавленную смесь в бутылках, которую они имеют наглость называть вином. Наши бочонки поступают прямиком с французских берегов. Это доброе старое вино было разлито в бочки ещё до того, как король Иаков вырвался из когтей коварных Дугласов.
Отец Филипп, будучи в то время уже в почтенном возрасте, хотел было покинуть пирующих, но старый рыцарь остановил его со словами:
– О, дорогой мой друг и советчик, не спеши покидать наше общество. Клянусь небом, сегодня ты услышишь нечто интересное.
– Смею сказать, дорогой сэр Роберт, – ответил капеллан, – что я уже услышал много интересного от вашего сына, и те знания, кои он нам тут поведал, я должен осмыслить и закрепить в своей голове.
– Однако же, любезный мой Филипп, – говоря это, барон подмигнул лэрду Бьюкэнану, – то, что ты услышишь нынче, ежели пожелаешь задержаться на нашем пиршестве, могло бы стать жемчужиной в твоих исторических анналах.
Тем временем кубки были наполнены изумрудным виноградным напитком, и барон провозгласил тост за королевскую династию Стюартов. После звучали ещё тосты за шотландское королевство, за святую католическую веру, за славу шотландских рыцарей. Если капеллан на каждый раз, когда поднимали кубки, позволял себе лишь толику пригубить вино, а молодые люди и особенно Ронан удостаивали тосты лишь несколькими глотками, то барон Бакьюхейда, наученный на пирах у многих славных шотландских полководцев искусству пить изрядно и без заметных последствий, осушал свои кубки без остатка.
Когда собравшиеся достигли того состояния, когда их сознание было ещё не затуманено окончательно винным возлиянием, а настроение было взбодрено первыми тостами и сопровождавшими их кубками, сэр Роберт торжественным тоном произнёс:
– Возлюбленные друзья мои! Как бы мне хотелось поднять чашу за нашего доброго короля Иакова. Но, увы, жизнь суверенов зачастую бывает короче жизни их верных слуг, ибо они погибают вместе с нами на полях сражений: подобно Иакову Четвёртому, павшему в битве при Флодене, они угасают и от душевных мук, обременённые ответственностью за судьбу государства, как покинул нас последний король Иаков Пятый, коему мы или отцы здесь присутствующих служили верой и правдой, – барон перевёл дыхание, ибо столь помпезная фраза потребовала от него изрядного умственного напряжения, и продолжил: – Однако же мы тут собрались не для того, чтоб печалиться, а напротив, веселить наши души хорошей компанией и отличным вином! А раз уж тут был упомянут король Иаков, то я хочу попросить лэрда Арнприора рассказать забавную историю, приключившуюся с его родителем.
Взоры всех обратились к Эдварду Бьюкэнану. А он погладил свою аккуратно постриженную бородку, ухмыльнулся в преддверии занимательного рассказа и начал речь:
– Ну что ж, сэр Роберт спустил меня сейчас на землю, в то время как чуть ранее его сын вознёс в недосягаемые взору выси. Действительно, забавная история произошла у нас в Арнприоре. Я в те времена был ещё мальчишкой, сующим во всё свой нос и норовящим быть похожим на взрослых. Отец мой Джон Бьюкэнан был человек смелый, своевольный и весёлый.
Но стоит, впрочем, особо упомянуть, как он стал владельцем баронства Арнприора, которое ранее принадлежало одному барону из клана Мензи. Мне думается, всем, и особенно тебе, почтенный отец Филипп, будет интересно это услышать. Так вот, у этого барона Мензи из Арнприора не оставалось наследников. А возраст у лэрда и его супруги был уже почтенный. И позарился на это баронство сэр Дункан Форестер из Гардена. Этот вельможа занимал важный чин при дворе Иакова Четвёртого, чувствовал себя всемогущим и, обуреваемый алчностью, возжелал к своему баронству Гардена добавить ещё и владения Арнприора. Он приехал в замок к старому Мензи и прямо-таки велел тому завещать баронство Арнприора ему, Форестеру. В противном случае сэр Дункан угрожал отнять Арнприор у Мензи силой, используя своё влияние при дворе и родственные связи с королевским судьями. Старый Мензи был человек гордый и не мог потерпеть такой наглости. Он обратился за помощью к своему хорошему соседу, главе клана Бьюкэнан сэру Уолтеру, с просьбой защитить его от Форестера. За это он обещал оставить баронское поместье одному из его сыновей. Мой дед с удовольствием согласился помочь соседям и к тому же расширить владения своей семьи. И он отправил младшего сына, малолетнего Джона с одной лишь пестуньей жить в Арнприор к старым супругам Мензи, которые окружили ребёнка любовью и заботой как родного. Однажды, когда старая чета куда-то отъехала, в Арнприор нежданно заявился сэр Форестер и потребовал от пестуньи вместе с мальчиком покинуть замок, ибо он собирался его сжечь в отместку за упрямство Мензи. Но мой отец, тогда совсем ещё маленький мальчик, всё прекрасно понял, а именно, что злой чужак хочет отобрать у него замок, который маленький Джон уже считал своим. Тогда он схватил за платье свою пестунью, затопал ногами и заорал благим матом, что не уйдёт из своего замка, даже если злой дядька его будет там убивать. Он кричал так пронзительно, что у Форестера заложило уши и узурпатор попросту опешил. Ободрённая такой храбростью своего подопечного, воспитательница моего отца заявила сэру Дункану, что никуда отсюда с мальчиком не уйдёт, и что ежели им посмеют причинить вред, то страшная кара вождя Бьюкэнанов и всего его клана ждёт злодея. Форестера такой отпор смутил и заставил задуматься. В итоге, устрашённый перспективой ужасной мести со стороны семьи Бьюкэнанов, сэр Дункан вынужден был отступить.
– Так мой отец стал полноправным владельцем Арнприора и уже в младенческом возрасте смог отстоять свою собственность и защитить её от посягательств алчного злодея, – закончил первую часть рассказа Эдвард Бьюкэнан, после чего сэр Роберт поднял кубок и предложил тост за благородство души и верность законам чести. Тост был дружно поддержан, и через некоторое время Бьюкэнан вновь продолжил повествование:
– В один прекрасный день, а точнее вечер, собрал мой батюшка своих друзей на пиршество, вот как сейчас хозяин Крейдока, благородный сэр Роберт. Гостей, правда, было поболее чем здесь. Однако я не припомню среди них, вас, сэр Роберт.
– Мне помнится, то был как раз первый год, – заметил скорбно Роберт Бакьюхейд, – как не стало леди Кентигерны, и я пытался забыть своё горе в пограничной области, выполняя волю нашего короля Иакова и вымещая мою злость на судьбу на английских и шотландских мародёрах.
– Ну, так вот, – продолжил Бьюкэнан. – Вино лилось рекой, играла лютня или арфа – право, не помню уже, что именно, – в большом зале замка было людно и весело. А я тогда был непоседа и носился по всему нашему дому. Подражая отцу, я решил обойти все замковые укрепления Арнприора и проверить надёжно ли они охраняются. Поднявшись на одну из башен, я вдруг заприметил, как по пролегающей мимо ворот замка дороге едут не спеша три всадника. Они, видимо, были уставшими, ибо у одного из них через лошадь была перекинута туша убитого на охоте оленя.
«Как так! На нашей земле кто-то осмеливается охотиться!» – вознегодовал я и бросился с этой вестью к моему отцу. Пиршество во дворце в это время было как раз в самом разгаре. Вино лилось таким потоком прямо как река Форт после сильных ливней, столы ломились от еды, а мой отец и его гости, разгорячённые не только вином, но и более крепкими напитками, разговаривали во весь голос, смеялись, спорили, шутили. Дворцовый бард играл на лютне или арфе.
«Отец! – крикнул я. – Какие-то люди убили оленя в окрестностях нашего дома и имеют наглость везти его мимо самых ворот замка!»
«Что!? – гневно взревел хозяин Арнприора. – Пойдём же взглянем на этих проходимцев!»
И отец ринулся вниз, сопровождаемый галдящими гостями. Так живо я принёс эту весть и так стремительно было движение моего отца, что несчастные охотники не успели отъехать и тридцати ярдов от замка, как их остановил звучный оклик барона Арнприора:
«Эй, вы! Стойте немедленно и отвечайте прямо: кто вы такие и по какому праву убили оленя на моих землях».
Грозные слова отца были подкреплены выбежавшими из ворот ратниками с пиками и луками. К тому же многие из гостей, большинство из которых были нашими родственниками, держали в руках мечи.
Охотники, похоже, ничуть не смутились, и тот, у которого через лошадь был переброшена туша оленя, сказал спокойным и твёрдым голосом:
«Досточтимый сэр, мы всего лишь скромные слуги короля Иакова. Его величество нынче держит великий пир во дворце Стёрлинга. Народу собралось так много, что король испугался, что вино ещё не будет выпито, а яства закончатся. Вот он и велел нам, его ловчим, пополнить запасы на королевской кухне».
«Ха-ха-ха! – рассмеялся мой отец. – Право слово, какое совпадение! У меня ведь тоже сегодня большое пиршество. И вот эти благородные господа, – он кивнул себе за спину, – все мои гости, кои уже изрядно подчистили мои запасы. И я боюсь, что нам тоже нечем будет утолить голод уже завтра утром. Позовите-ка мне сюда повара».
Пришёл дворцовый повар Арнприора.
«А скажи-ка, уважаемый кулинар, – спросил, подмигивая, лэрд Арнприора, – не оскудела ли ещё твоя кухарская житница? Ибо, почитай, я со своими гостями собираюсь долго сегодня пировать и не желаю, чтобы меня упрекнули в отсутствии гостеприимства, ежели мой стол, не дай бог, опустеет до завтрашнего утра».
Повар, зная весёлый нрав моего отца, изобразил смущение и растерянность на своей физиономии и через минуту ответил:
«О, мой господин! У вас и ваших гостей нынче разыгрался такой хороший аппетит, что у меня уже сейчас начинают дрожать коленки из страха перед вашим гневом, когда мне нечего будет более предложить для пиршественного стола. По правде говоря, я уж хотел было идти к вам с просьбой послать кого-нибудь за телёнком в ближайшее селение».
«Вы слышали, господа охотники? – спросил отец у королевских слуг. – Наш провиант тоже подходит к концу. А посему я вынужден изъять у вас охотничий трофей, добытый на моих землях».
«Но этот олень был убит вовсе не здесь, а на холмах около Гартмора», – пытались отстоять свою добычу королевские слуги.
«На этой туше разве написано, что она с гартморских холмов? – возразил мой отец. – Но все видят, что вы везёте её мимо моего замка. А значит, я имею полное право полагать, что олень был убит недалеко отсюда».
«А я видел давеча оленя, похожего на этого, на холме неподалёку отселе», – лукаво добавил я, желая поддержать моего родителя.
«Но уважаемый сэр! – воскликнули охотники. – Этот олень предназначен для стола в замке Стёрлинга и является собственностью короля, как и вся дичь, добытая в его королевстве».
Но мой батюшка был твёрд в своей прихоти.
«Король Иаков может быть королём Шотландии, – небрежно ответил отец, – но зато я есть король Киппена!»
Королевских слуг освободили от их ноши, коя оказалась чересчур тяжела для провоза через Арнприор, и они вынуждены были вернуться в Стёрлинг налегке, с пустыми руками. Как они объяснили королю случившиеся, мне, однако, не ведомо…
– Зато про то знаю я! – прозвучал зычный голос Роберта Бакьюхейда. – Один из присутствующих при той сцене дворян – будто бы, это был кто-то из Ситонов, – поведал мне, как было дело, когда слуги вернулись к Иакову не солоно хлебавши…
Старший из них с опущенной головой и растерянным выражением на лице подошёл к королю, восседавшему за богатым пиршественным столом. Увидев его, Иаков сказал:
«О! Вернулся наш придворный ловчий и, надо полагать, с богатой добычей, которую на кухне уже превращают в прекрасное жаркое».
«Ваше величество, – пробормотал неудачливый охотник, – нам действительно удалось подстрелить большого жирного самца оленя в гартморских холмах, но…»
«Но? – удивился король. – Что но?»
«Однако, нас поджидала неудача на обратном пути».
«Как так! О чём ты говоришь, сэр ловчий?»
«Этот олень был у нас злодейски похищен», – удрученно вздохнул слуга.
«Как похищен?! – вскричал король. – Неужели в окрестностях Стёрлинга есть такие наглецы, кои осмеливаются похищать дичь, предназначенную для королевского стола? Клянусь душой Брюса, нет такого смертного, способного на сию дерзость! В конце концов, не нечистая же сила его утащила!»
«Нет-нет, ваше величество, то был вполне осязаемый человек», – ответил слуга.
«Человек! Интересно, и кто же оный смельчак, не боящийся ни плахи ни виселицы, ни топора ни верёвки?» – спросил король, которого эта история, похоже, уже начинала веселить.
«То был король Киппена, ваше величество», – смущённо ответил ловчий.
«Что? Король!… Послушайте, мои лорды, – обратился Иаков к гостям. – Оказывается, недалеко от Стёрлинга имеет место быть ещё один король! Ну не забавно ли сие?… И как же по имени зовут этого короля? – полюбопытствовал Иаков у слуги.
«По всей вероятности, это владелец Арнприора, ваше величество, ибо мимо ворот этого замка мы держали свой путь».
«Кто из вас, мои лорды, скажет мне, кто владеет замком Арнприор?» – вопросил Иаков Пятый у придворных.
«Джон Бьюкэнан!» – ответили сразу несколько голосов.
«Бьюкэнан? – с удивлением воскликнул король. – Но я знаю, что сей клан верой и правдой служил моему отцу. Мне также нечем упрекнуть их и ныне. Джордж Бьюкэнан! Король!… Как ты говоришь, сэр ловчий, зовётся его королевство?… Киппен? Впервые слышу!»
«Ваше величество, так местные жители называют пустошь в десяти милях от Стёрлинга, аккурат неподалёку от Арнприора», – ответил слуга.
«Ха-ха-ха, – звонкий смех Иакова огласил залу. – Король торфяного болота! Отличное же королевство себе выбрал барон Бьюкэнан из Арнприора. Надобно на днях наведаться к его величеству, провести переговоры и заключить великий альянс против моего дядюшки короля Генриха. Объединив наши армии, мы сможем наконец-то отобрать у английской короны и Нотумбрию, и Кумбрию. Как вы думаете, мои лорды? А?»
Шутливый тон Иакова снял напряжение, вызванное происшествием, и вслед за королём в зале раздался дружный смех. И пиршество продолжилось дальше. За общим весельем, музыкой, танцами и приятными разговорами все скоро забыли про новоиспечённого короля Киппена…
На этом месте барон закончил повествование о том, как незадачливые охотники вернулись в Стёрлинг после знакомства с королём Киппена. Довольный тем, как у него получилось красочно описать ту сцену, старый рыцарь осушил очередной кубок и посмотрел на Эдварда Бьюкэнана, взглядом призывая того продолжить рассказ.
– Благодарствую, сэр Роберт, за то, что вы восполнили пробел в моём повествовании, – сказал Бьюкэнан. – Не помню, сколько минуло дней с оного случая, про который почти уже все и забыли, только однажды, когда мой отец возвратился с охоты в компании своих кузенов – в которой я, кстати, тоже уже принимал участие, – и мы обедали в большом зале дворца, вошёл один из свирепого вида караульных с секирой на плече. Надо сказать, что все стражи в замке были дюжими малыми, выросшими среди гор и привыкших с детства держать в руках оружие. И порой один их вид мог испугать прибывающих в Арнприор. Я почти слово в слово запомнил, что говорилось в те несколько часов, ибо такие незабываемые события случаются не каждый день.
«В чём дело, Иан? – сердито спросил мой отец. – Какое такое происшествие побудило тебя прервать наш обед?»
Вошедший караульный доложил, что у ворот замка стоит группа всадников и самый старший из них требует пропустить их к лорду Джону Бьюкэнану из Арнприора.
«Хм, кто бы это мог быть? Как вы думаете, сродники? – удивился отец. – А скажи, Иан, не разглядел ли ты, какие у них гербы и эмблемы на одеждах?»
«Нет, мой господин, – ответствовал караульный. – Все до головы закутаны в плащи, но судя по плюмажу на шапках, это знатные люди».
«Ха, да мало ли что знатные! Белое перо на берете ещё не делает джентльмена, – воскликнул хозяин Арнприора. – Клянусь небом, ни у кого нет права тревожить Джона Бьюкэнана во время обеда. Так пойди и скажи этим гостям незваным, что барон трапезничает».
Мы продолжили прерванный обед. Но через некоторое время стражник снова вошёл в залу со смущённым лицом.
«Ваша милость, я сказал незнакомцам, как вы и велели, чтобы они подождали окончания трапезы, и даже сделал страшное выражение лица. Но меня попросили передать вам одну лишь короткую фразу, сказав, что речь идёт о жизни и смерти».
«Возможно, эти господа имели в виду свою скорую погибель, коли они не перестанут беспокоить меня во время обеда! А зверское выражение на своей физиономии ты изображать даже и не пытайся, Иан, ибо оно и так страшнее, чем у самого дьявола. Ха-ха! Ну, да ладно, так что же это за фраза такая фатальная?» – поинтересовался отец, вальяжно откинувшись на спинку резного кресла.
«Мне было сказано лишь, что хозяин Балленгейха приехал отобедать с королём Киппена».
При этих словах мой отец побледнел, а от бравурной усмешки ни осталось и следа…
– А теперь, – с улыбкой прервал свой рассказ лэрд Арнприора, – я хочу попросить сэра Роберта как хорошего друга Иакова Пятого поведать нам, что же так испугало моего отца в той фразе.
– Ну, уж ни таким я был и другом Его величества, клянусь мессой! – сказал барон Бакьюхейда. – Оказал ему лишь несколько незначительных услуг. Так то есть обязанность каждого верноподданного вассала короля.
– Мы ценим вашу скромность, уважаемый сэр, – сказал Бьюкэнан, – но именно вы как никто другой можете рассказать про тайну хозяина Балленгейха. Ибо когда это имя прозвучало тогда под сводами Арнприора, никто из присутствующих не знал, кто это такой. И лишь мой отец, похоже, догадался, что было видно по его лицу.
– Что ж, извольте, друзья, – начал говорить барон. – Возможно, вы слышали про странную причуду нашего короля переодеваться в простую одежду и в таком виде ходить и разъезжать по городам и селениям своего государства. Могу предположить, что тяга к переодеванию у Иакова появилась при воспоминаниях о его побеге из Фолклендского замка, чему я был свидетелем.
– Но ещё и активным участником этого события, сколь мне известно! – воскликнул молодой Напьер.
– А вы, лорд Мерчистон, извольте не перебивать речь старших, чёрт возьми! – притворно нахмурившись, сказал сэр Роберт. – Итак, как-то раз, бродя инкогнито по улицам Эдинбурга в сопровождении пары слуг, короля привлекла собравшаяся на площади толпа. Это наказывали какого-то законопреступника. Иаков подошёл поближе, чтобы посмотреть на экзекуцию. И в это время, один из слуг, желая предупредить короля то ли о глубокой грязной луже, то ли ещё о чём-то, обратился к нему со словами: «Ваше величество,…» Какой-то чересчур ушастый горожанин расслышал эти слова, и по толпе быстро разнеслось: «Король! Здесь король!» В результате Иакову Пятому пришлось совершить манёвр и быстро оттуда скрыться, дабы избежать излишнего внимания толпы. С тех пор он и придумал себе имя «хозяин Балленгейха», с которым к нему стали обращаться слуги во время его странствий инкогнито. А название это относится к крутой дорожке, спускающейся по холму от замка в Стёрлинге. Так что, верно Джон Бьюкэнан догадывался тогда, кто к нему пожаловал, и у него был повод испугаться, памятуя, как нелюбезно он обошёлся с королевскими ловчими… Ну, Эдвард, рассказывай теперь ты, что же последовало дальше.
Снова слово взял лэрд Арнприора:
– Итак, вы, должно быть, уже поняли, что перед воротами нашего замка стоял сам король Иаков в ожидании, когда же хозяин Арнприора соблаговолит впустить его. Как только мой отец услышал фразу, переданную караульным, он ринулся вниз, самолично распахнул ворота и упал ниц перед королём, который с минуту внимательно взирал с высоты своего коня и своей власти на распростёртого перед ним вассала, а затем с лёгкой улыбкой сказал:
«Ну-ну, вставайте, мой собрат. Не подобает нам, монархам, падать оземь перед кем бы то ни было, разве что перед святым распятием».
Лэрд Арнприора поднялся и с опущенной головой встал перед королём.
«Ваше величество, не гневитесь на преданного вассала. Я завтра же отошлю к вашему двору двух молодых бычков заместо того старого тощего оленя, которого подстрелили ваши слуги».
«Как старого и тощего! А мне, помнится, старший ловчий говорил о большом и жирном рогаче», – удивился Иаков.
«Клянусь святым распятием, ваше величество! А также честью моей и всего клана Бьюкэнанов! – ответил отец. – Более жалкого оленя я в жизни своей не видел, кожа да кости! Его мясо оказалось таким жёстким, что один из моих кузенов сломал зуб в попытке его разжевать. Здесь стоят гости, присутствовавшие на той пирушке, и они могут засвидетельствовать правдивость моих слов».
«О! У меня нет оснований сомневаться, когда приносят такие клятвы. Но в этом случае, лорд Арнприор, – сказал шутливым тоном король, – ты будешь в убытке, ежели вместо тощего оленя пришлёшь мне двух молодых бычков. Я не могу позволить свершиться такой ужасной несправедливости в моём государстве».
«Но ваше величество! Должен же я искупить чем-то свой проступок!» – ободрённый весёлыми нотками в голосе короля, сказал отец.
«Разумеется, сэр! – сказал король. – Потому ведь мы к вам и пожаловали, чтобы отобедать во дворце Арнприора со славным королём Киппена. Hospitium insolentia recupera30».
Пока в воротах замка шли такие разговоры, леди Арнприора, моя ныне покойная матушка, уже отдавала распоряжения. Поднялась невообразимая суматоха, слуги забегали как сумасшедшие, дым из кухонной трубы шёл столбом. Так что, когда Иаков Пятый поднялся в парадный зал нашего дворца, он смог по достоинству оценить усердие обитателей замка в желании попотчевать своего монарха… Король оставил Арнприор в отличном расположении духа. Ему так пришлось по душе развлечение, полученное им в замке, и понравился неунывающий и весёлый хозяин, что на прощание он пригласил короля Киппена навестить собрата короля шотландского в замке Стёрлинга, а также даровал моему отцу привилегию «облегчать» проезжающих мимо замка охотников так часто, как ему вздумается…
Когда Эдвард Бьюкэнан завершил живописное повествование этой забавной истории, неутомимый барон Бакьюхейда снова поднял свой кубок и провозгласил тост за великодушие королей и верность их поданных, и несмотря на то, что к нему мало кто присоединился, – ибо все ещё находились под впечатлением рассказа, – сэр Роберт почти в одиночку осушил полный кубок вина.
Тут подал голос любознательный лорд Напьер:
– Высокочтимый сэр Роберт, я осмелюсь попросить вас поведать нам, каким образом король Иаков совершил побег из Фолклендского замка. Мне давно уже хотелось услышать о той истории в подробностях, и, кажется, в этот вечер самая подходящая обстановка для того, – юноша хитро подмигнул другим гостям, – чтобы вы рассказали, как было дело на самом деле.
– Действительно, мой старинный друг, – поддержал молодого человека отец Филипп, – ваш рассказ будет ещё одним бриллиантом, обретённой мной в этот день.
Барон Бакьюхейда, как, впрочем, и все его предки, относился к числу тех редкостных людей, кои не любят выставлять напоказ свои заслуги, не ищут славы и почёта. А потому, хотя и ходили толки о его якобы важном, чуть ли не первостепенном участии в спасении короля от регента Ангуса, сам сэр Роберт об этом никогда не рассказывал. А если любопытные просили его раскрыть тайну побега короля Иакова, барон лишь отнекивался, говоря, что не такое уж и важное было его участие, как это ему приписывала молва.
Но в этот вечер, в меньшей степени поддавшись уговорам своих друзей, а в большей – благодаря лёгкому дурману от поглощённого вина и охватывающему обычно в таких обстоятельствах желанию вспомнить былые времена, хозяин Крейдока решился удовлетворить любопытство своих друзей.
– Справедливости ради надо сказать, что этот изощрённый план придумали кардинал Битон вместе с королевой-матерью. Сейчас-то он мне представляется немудрёным и простым как сыграть в шахматы со стариной Джаспером. Уж больно я пристрастился к этой игре нынче. Эх, кабы не моя нога! А то теперь вот вынужден воевать с костяными фигурками заместо настоящих рыцарей… Ах, да, не о том я, похоже, стал речь вести. Видать, бордо уже мой рассудок слегка расслабило. Ну, так вот. И согласно тому плану хитроумному должен был быть у короля сподручник, который помог бы ему выбраться из-под надзора охраны Дугласов. А молодой король в то время находился по большей части в эдинбургском замке, расположенном, как вы знаете, на высокой скале и охранявшимся крепким гарнизоном, преданным графу Ангусу. Бежать оттуда незамеченным было немыслимо. Поэтому-то Её величество Маргарита Тюдор и кардинал Битон решили организовать побег из королевского замка Фолкленд, что в Файфе. Всем было известно, что временами молодой король приезжал туда, дабы повеселить свою душу славной охотой на оленей да вепрей в долинах меж ломондских холмов. Однако Иаков и шага не мог сделать без ведома заклятых Дугласов. Их стражники, охранники и соглядатаи не спускали с юноши глаз ни днём ни ночью… По замыслу сторонников Иакова кому-то надо было пробраться в Фолклендский замок и устроиться там стременным в королевские конюшни. То должен был быть сильный, отважный и решительный человек, преданный королю и готовый положить за него жизнь. Ибо риск был невероятно великий, и коли бы тот человек попался в руки Дугласов, то верной его страшной смерти предшествовали бы ещё более ужасающие истязания плоти. Признаться честно, я долго размышлял, прежде чем посмел потребовать у королевы-матери, чтобы ту опасную работёнку поручили именно мне. Я целиком и полностью разумел, коему риску я себя собирался подвергнуть. Ныне, по прошествии уж четверти века, когда позади множество ратных полей, где мне не раз приходилось быть на волосок от гибели, оный случай кажется просто ребячьей забавой, ей богу! Ну, так вот, я вызвался сыграть роль конюха и помочь побегу короля. Её величество пыталась было меня отговорить, ссылаясь на моё благородное происхождение: что, дескать, не дело дворянину переодеваться конюхом, и что можно найти человека менее знатного, посулив ему хорошее вознаграждение. Я усмехнулся, понимая, что королева-мать кривит душой, и, помню, ответил, что согласно нашему плану Иаков также должен был облачиться в одежду грума, а значит и его вассалу незазорно некоторое время поносить одежду конюшего. Путём подкупа нам удалось сманить из Фолклендского замка трёх конюхов. А стало быть, мастер королевского двора, коим тогда был брат Ангуса, Джордж Дуглас вынужден был искать им на замену новых стремянных для королевских конюшен.
Другим тайным участником нашего заговора был, как я уже упомянул, не кто иной, как кардинал Битон. Именно он пригласил к себе в Сент-Эндрюс короля Иакова и регента графа Ангуса, всячески ублажал и развлекал их, особенно регента и его приспешников, пытаясь создать у них благодушное настроение и усыпить бдительность. По тайному совету кардинала молодой король изъявил желание ехать в свои владения в Файфе, где любимым его развлечением в то время была охота, о чём я уже упоминал. Весть эта быстро дошла до Фолкленда, ибо от него до Сент-Эндрюса всего-то полдня пути.
Узнав о скором приезде короля в Фолкленд, Джордж Дуглас велел искать новых стременных. А я, к тому времени уже пребывал в селении, что находится рядом с замком. И вот в одежде грума я пришёл к замковым воротам и спросил, не требуется ли им конюший. С лошадьми-то я уже с детства умел обращаться и знал все тонкости стремянного дела. Меня тут же взяли в замок. Ради спасения короля я не чурался никакой грязной работы. Так что, когда Иаков в сопровождении Дугласов и их клевретов прибыл в Фолкленд, я разбрасывал солому по конюшне, сыпал зерно в ясли, поправлял развешанную по стенам сбрую и, извините, убирал за лошадьми. Дугласы зорко следили за молодым королём и старались никого из посторонних к нему не подпускать. Но мне было несложно подкупить некоторых слуг из челяди замка, и скоро король уже знал о нашем плане, а в его покоях в потайном месте была спрятана верёвочная лестница и одежда грума. Иаков ждал лишь условного сигнала от меня, чтобы начать выполнение задуманного. Всё было спокойно в Фолклендском замке. Граф Ангус уехал в Лотиан по каким-то делам, связанным с его тамошними владениями. Тем временем за Джорджем Дугласом, его братом, прискакал гонец из Сент-Эндрюса с просьбой кардинала срочно приехать к нему по некоему важному делу. Так было задумано заранее. Король весело проводил время в компании молодых дворян: кузенов Арчибальда и Джеймса Дугласов, бастарда графа Аррана Джеймса Гамильтона и Роберта Лесли. Причём молодой человек по имени Джеймс Дуглас из Паркхеда, бывший одного с королём возраста, исполнял при нём роль пажа. Хотя в действительности – и это все понимали, включая и самого Иакова, – он был соглядатаем графа Ангуса и его братца Джорджа Дугласа.
Надо сказать, что в ту пору характер у меня был весёлый и простой. За те несколько дней, что я служил в замке, я постарался подружиться с большинством слуг. Но более всего, признаюсь, меня тянуло к детям, простым и непосредственным созданиям, ибо своих у меня тогда не было. Особенно я сдружился с одним поварёнком по имени Томас – такое я, наверное, внушал доверие своим простосердечием. Я сажал его на лошадь, когда он захаживал ко мне на конюшню. А Том клал мне самые лакомые куски, когда я приходил на кухню за едой.
Однажды с утра поварёнок подошёл ко мне с испуганным видом и сказал, что случайно подслушал накануне вечером в парке, как четыре джентльмена обсуждали, кто первый из них заколет короля. Том очень испугался и решил рассказать мне. Признаюсь, я не придал словам мальчугана тогда большого значения. Но что-то мне подсказывало, что тянуть с побегом нельзя и пора действовать. В тот же день я воткнул пурпурно-чёрное петушиное перо в мой берет – это был условленный сигнал – и постарался сделать так, чтобы попасть на глаза молодому королю.
Согласно нашему плану за обедом Иаков заявил, что хотел бы созвать назавтра рано утром большую охоту, на которой он велел собрать самых лучших гончих и затребовал присутствия многих именитых дворян Файфа. Словом, король всё делал так, как будто собирался отлично развлечься. Он велел подать ужин в свои покои в четыре часа пополудни и сказал, что рано ляжет спать. Поужинав в своей комнате, Иаков забрался в постель и велел своему двуличному пажу тоже идти спать, дабы тот мог утром присоединиться к охоте. Жизнь в замке в этот день замерла рано, так как все полагали, что король уснул, и не хотели тревожить его сон.
Были уже сумерки, когда окно королевской комнаты отворилось и оттуда вниз была сброшена верёвочная лестница. На счастье ночь была ветреная, и за шумом листвы в дворцовом парке трудно было различить звуки открывающегося окна. Ветер кидал лёгкую лесенку из стороны в сторону, и мне пришлось придержать её нижний конец, пока юный король спускался. Я быстро оглядел Иакова, упрятал его роскошные волосы под шапку, нахлобучил её пониже и натёр грязью нежные щёки юноши. Надо сказать, он смирено выносил такое глумление над своей внешностью. После этого мы прокрались в конюшню, вывели под уздцы двух лошадей и направились к воротам замка, которые были давно уж закрыты. Наступил самый важный и опасный момент нашего плана. На удивлённый окрик стражников, я спокойным голосом отвечал, что назавтра утром назначена большая королевская охота, а у этих двух лошадок болтаются подковы, и вот мы их и ведём к деревенскому кузнецу. Стража поначалу отказывалась нас выпускать, ссылаясь на строжайший приказ никого не впускать и не выпускать после захода солнца. Тогда я пригрозил, что если по этой причине назавтра сорвётся королевская охота, то господам привратникам будет несдобровать. В общем, угрозами и увещеваниями мне удалось добиться того, чтобы нас выпустили. Минуя портал замковых ворот, я крикнул стражникам, что мы не хотим их более беспокоить этой ночью, а потому заночуем на сеновале у кузнеца. Дабы не вызывать подозрений мы спокойно направились в селение, но как только миновали последний дом, я достал припрятанные шпоры, мы вскочили на коней и, когда уже стук копыт был не слышен замковым стражам, Иаков пустил коня галопом. Свежий ночной ветер обдувал нас. Невообразимая радость обуяла юношу, вырвавшегося на свободу, он смеялся, кричал как безумный… Под утро мы уже были около ворот Стёрлинга. Что было после, вы все прекрасно знаете… Конечно, в некотором смысле нам повезло или, вернее, на то была воля божья. Ибо позже мы узнали, что покидая с королём Фолклендский замок, мы едва разминулись с братом Ангуса, возвращавшимся из Сент-Эндрюса. Когда он спросил о короле, ему ответили, что Иаков давно уже мирно почивает в своей спальне. И Джордж Дуглас спокойно пошёл спать. Можно только представить, какой переполох творился утром в Фолклендском замке! О-хо-хо!
Воспоминания, казалось, выгнали из головы барона весь хмель и сэр Роберт, закончив рассказ, снова освежил пересохшее горло добрым вином.
– А не приводилось ли вам бывать после в Фолкленде, сэр Роберт? – полюбопытствовал Напьер. – Как никак, это ведь место ваших геройских свершений!
– Как же, довелось мне побывать там ещё разок. За год или два до своей безвременной кончины пригласил меня король посетить его в этом замке. Он устраивал там большое празднество, на котором хотел собрать лучших своих друзей. Помнится, он предложил мне сыграть с ним в кайх31. Не видал я более странного и нелепого развлечения. Около замка построили огороженный дворик, где через середину на верёвке висела сеть наподобие рыбачьей, а двое игроков с помощью так называемых ракеток перекидывают мячик через эту сеть. Я, конечно, любезно отказался и просил извинения у короля, рассудив, что мне привычней размахивать стальным мечом, нежели деревянной лопаткой, а на этом кайхпуйле, как они дворик для игры звали, я буду выглядеть смешно и неловко.
– Интересно, а что же стало с тем поварёнком Томасом, а, сэр Роберт? – снова спросил дотошный Напьер, который ещё долго находился под впечатлением фееричной истории побега.
– Увы, более его я никогда не видел, – ответил барон. – Но знаешь, как-то раз много лет спустя, как рассказывают, по пути из Эдинбурга в Фолклендский замок к Иакову Пятому подошёл некий молодой человек и попросил дать ему возможность сказать что-то очень важное, касающееся жизни суверена. Король милостиво выслушал поведанную ему историю, снял с пальца перстень и передал юноше, велев ему идти к управляющему королевским двором и рассказать тому ещё раз эту историю. Вскоре после этого случая Джеймс Гамильтон, один из тех четырёх, злоумышлявших против молодого короля, был схвачен и брошен в темницу. Остальные же трое были в изгнании, как и все Дугласы. А иначе их бы ждала та же участь, что и Гамильтона. А его, как только королевский суд нашёл, что он вместе с пособниками замышлял убиение соверена в Фолклендском замке, немедленно казнили. Говорят, что перед судьями свидетельствовал родственник этого самого Джеймса Гамильтона, некий шериф из Линлитгоу, жаждавший отомстить своему коварному родственничку за одно из многочисленных его злодеяний, а именно за то, что он отправил на костёр брата этого шерифа, вменяя ему в вину, что тот был якобы протестантом, а сам захватил его земли. Ну, а кто был тот юноша, подошедший к королю и рассказавший ему эту старую историю, которая-то и легла в основу обвинения шерифа, мне не ведомо. Возможно, это и был мой старинный знакомец Том, а может быть и кто другой: столько врагов себе нажил этот арранский бастард своими злодействами.
На этом самая интересная часть пиршества закончилась. Отец Филипп ушёл в свою опочивальню, где он до рассвета записывал услышанные им этим вечером истории. Молодые люди, договорившись устроить рано утром охоту, пошли спать. А барон со своими старыми соратниками ещё долго продолжали отдавать почести великому богу Бахусу.
Глава XIII
Снова Фулартон
Утро после пиршества было пасмурным и серым, лёгкая пелена измороси окутывала воздух. Это, впрочем, не нарушило планов молодых людей, которые с удовольствием погонялись за дичью в окрестных лесах. После сытного обеда, который уже не отличался тем разнообразием блюд как накануне, гости сердечно попрощались с хозяином замка и его сыном и довольные проведённым временем разъехались по домам.
Напьер и Бьюкэнан пригласили Ронана посетить свои именья и при этом едва было не поссорились между собой по поводу того, чей черёд будет первым принимать молодого Бакьюхейда. Любознательный Напьер хотел непременно узнать, как Ронан издали определит высоту его дома, а коли повезёт с погодой, то и расстояние до вершины Бен-Ломонда. А бравый лэрд Арнприора обещал пригласить тех из своих соседей, коих могли бы сопровождать молоденькие незамужние дочки, понимая как его новый друг, должно быть, истосковался по женскому обществу.
Вечером за ужином барон Бакьюхейда расспрашивал сына, как тому пришлись гости и оправдались ли его ожидания от знакомства с Напьером и Бьюкэнаном.
– Эти молодые джентльмены – как вы их и описывали, отец. Напьер – умён и любознателен, но обременён заботами, налагаемыми на него его владениями. А лэрд Арнприора чем-то напоминает его отца, судя по тому забавному рассказу о короле Киппена…
Неожиданно в зал, где отец с сыном принимали вечернюю трапезу, прервав мирную беседу, подобно пуле из аркебузы влетел вездесущий Эндри.
– Тревога! Тревога! – пронзительно вопил мальчишка, и весь его вид как будто подтверждал это беспокойство: округлённые глаза на вытянувшейся физиономии, призывающее протянутые вперёд руки и неспособные устоять на одном месте ноги.
Отец с сыном переглянулись, и взгляд их, казалось, говорил: «Опять сорванец захотел нас какой-то шуткой позабавить».
Бакьюхейд усмехнулся и сказал:
– Я бы хотел знать, как ты, сэр шут, заголосишь, когда я велю Гилберту не давать тебе сегодня ужина в наказание за то, что ты помешал нашей мирной трапезе.
– Ей-ей, как моя матушка говорит: и шут может умному человеку хороший совет дать, – бесцеремонно заявил юный грум. – Да мне и не до шуток, мой господин! Вы разве не слышите шум у ворот? Недаром у меня пятка давеча чесалась, а это, ей-ей, всегда к беде.
Все притихли, прислушиваясь. Действительно, со двора доносились невнятные крики. Барон и Ронан вопросительно посмотрели на слугу.
– Какие-то всадники стоят у ворот и требуют впустить их в замок, – пояснил тот.
– А это случаем не наши недавние гости, – спросил барон, – вздумавшие вернуться и продлить весёлое празднество?
– Не, ей-ей. Сверху-то я разглядел, хоть и темно уже: их там не меньше дюжины, и все в кирасах, шишаках и с копьями да алебардами. У наших-то гостей обличие не такое воинственное было. А эти кричат, что ежели их тут же не впустят, они наш дом возьмут приступом, – выпалил Эндри.
Бакьюхейд нахмурился и тут же по-военному стал отдавать приказы:
– Ронан, дорогой, беги и вели всем слугам живо собраться во дворе, да пусть прихватят оружие, у кого какое есть, а ежели никакого нет, пусть в этом зале со стены снимут. А ты, Эндри, поможешь мне облачиться в приличествующие случаю одеяния. Клянусь пречистой, никому ещё не удавалось замок Бакьюхейдов взять штурмом!
А тем временем перед въездом в замок некоторые всадники уже спешились и пробовали ворота на прочность тяжёлыми секирами. Но крепкий дуб, из которого были сделаны ворота в Крейдоке, заставил бы их работать так всю ночь. Среди осаждавших раздавались крики:
– Поджечь, да и дело с концом!
– Не спеши, Джон, может, сами откроют.
– А может через стену перелезть?
– Как же ты перелезешь? Она, поди, в три человеческих роста!
– А, и то верно… А по лестнице если?
– Где же ты ночью, дурья башка, лестницу раздобудешь?
– Отставьте ворота в покое, безмозглые болваны! – надо всеми раздался властный оклик, по-видимому, их командира. – Клянусь небом и землёй, вы так будете осаждать их до второго пришествия.
Ворча и чертыхаясь, ратники отступили от ворот и собрались вокруг своего центуриона, который им сказал негромко:
– Вы чересчур рьяно взялись за дело, мои воители. Так можно и пташку вспугнуть. Без моей команды – ни одного движения!
А с другой стороны ворот обитатели замка, уже собравшиеся во дворе, понимали, что, кто бы то ни были эти воины, цели у них не были похожи на дружеские.
Через некоторое время в амбразуре башенки над воротами показался сам барон. В нём трудно было узнать того гостеприимного добродушного хозяина, которого мы видели накануне за столом в пиршественном зале. Стальной шлем без забрала закрывал от света факелов черты лица рыцаря и придавал фигуре ещё больше суровой величественности. На стальной воротник падала чёрная с проседью борода, полностью прятавшая нижнюю часть лица. Остальную часть его одеяния составлял плащ из буйволиной кожи, когда-то расшитый шёлком, а ныне покрытый паутиной трещин и порезов, полученных в боях. Он приоткрывал кое-где стальные отполированные латы, когда-то красиво отделанные позолотой, а сейчас покрытые налётом ржавчины. Огромный двуручный меч устаревшего образца висел на перевязи на могучей шее; он был настолько длинным, что пересекал всё тело – его большая рукоятка высилась из-за левого плеча, а конец спрятанного в ножны лезвия, опускался к правому сапогу и стучал при каждом шаге по непонятно зачем пристегнутым шпорам. У Ронана, увидавшего отца в таком бравом виде, на губах проскользнула лёгкая улыбка.
– Почтенные странники, по какому праву вы нарушаете покой этого мирного дома в столь неподходящий час, когда многие добрые шотландцы видят уже не первый сон? – с высоты башни прозвучал грозный бас старого рыцаря.
В ответ он услышал беззастенчивое заявление:
– Именем управителя шотландского королевства лорда Джеймса Гамильтона я требую, чтобы мой отряд был впущен в замок, а иначе мы возьмём его силой.
– И кто же смеет так дерзостно со мной говорить, прикрываясь именем регента? – барона Бакьюхейда не смутили ни упоминание Гамильтона ни угрозы приступа.
– Я, капитан этого отряда, сэр Фулартон из Дрегхорна! – напрягая голосовые связки прокричал наш старый знакомец.
– О-хо-хо! – нарочито рассмеялся барон. – Признаюсь честно, сэр капитан, похоже, что я не очень силён в современной генеалогии, ибо, клянусь мессой, не могу припомнить оного имени среди благородных шотландских фамилий, по крайней мере, среди тех, с коими мне доводилось воевать бок о бок.
О! Такого удара по своему честолюбию приспешник регента никогда ещё не получал за всю свою жизнь. Он буквально задохнулся от гнева. И если бы не ночная темнота, его перекошенное лицо, пунцовое от злости, стало бы прекрасным образчиком для изучения физиономиста.
– Как! Вам не ведома эта древнейшая и благороднейшая фамилия? – с гневным изумлением воскликнул Фулартон. – Да сам Роберт Первый назначил нас потомственными королевскими ловчими в Ангусшире.
– Ну, может, Фулартоны и ловили тетеревов да куропаток в Ангусшире, но на моей памяти ни один человек с такой фамилией никогда не участвовал в охоте за более крупной дичью – за английскими стервятниками.
– Проклятые паписты, ну я тебе покажу, Бакьюхейд, – прошипел Фулартон себе под нос, скрежеща зубами, а затем, чуть поостыв, надменно крикнул хозяину замка: – Я так разумею, что разговариваю с сэром Робертом Бакьюхейдом?
– Возможно, сэр Фулартон, ежели вы таковой, за кого себя выдаёте, – ответил барон.
– Сэр Фулартон из Дрегхорна, к вашим услугам! Так вот, сэр Бакьюхейд! У меня письменное повеления управителя государства, скреплённое личной печатью шотландского регента, доставить к нему в Стёрлинг некоего Ронана, именуемого себя Лангдэйлом, хотя он есть Бакьюхейд, ваш родной сын.
– Что! Ронана к регенту! – удивлёно воскликнул барон, а тем временем правая рука рыцаря потянулась к левому плечу, над которым поднимался длинный эфес. – Право слово, сэр капитан, к чему такая честь моему мальчишке?
– Мне это не ведомо, мой лорд. Но полагаю, намерения у герцога Шательро самые что ни наесть благие, и клянусь честью, вам нечего опасаться за судьбу вашего сына.
Позади барона на ступеньку ниже его стоял пострел Эндри, который не отходил от своего хозяина ни на шаг, готовый быстро выполнить любой его приказ. Он слышал весь разговор. А после последних слов Фулартона, в которых детская интуиция уловила ту фальшь и неискренность, коя как правило бывает недоступна слуху взрослого, мальчишка стал дёргать барона за подол плаща. Старый рыцарь раздражённо оглянулся и увидел Эндри, со всей силы мотавшего головой из стороны в сторону. Он снова повернулся к ратникам и произнёс:
– Прошу простить нашу неприветливость, сэр капитан. Мой гарнизон очень мал, а по дорогам нынче шастает много лихих людей, для которых такая тёмная ночь как эта – удобное время творить свои разбойничьи дела. К сожалению, я не могу в целях предосторожности приказать слугам открыть немедля ворота – уж слишком подозрительно вы выглядите. Я бы советовал вам отправиться в деревню Хилгай, что находится совсем рядом... вон за тем леском. Там вы почти сможете найти кров на ночь и хорошо подкрепиться на постоялом дворе. А назавтра при свете дня вы вернетесь и, ежели вы действительно посланцы регента, как утверждаете, то предъявите бумаги, подтверждающие ваши полномочия, и тогда – клянусь святым причастием! – я впущу вас в замок.
– Но сэр Бакьюхейд! Это дело государственной важности и не терпит отлагательства. Регент желает приватной беседы с вашим сыном.
– Ага! – вскричал барон. – А вы, сэр, утверждали, что не знаете, зачем регент желает видеть моего сына!
– Но поверьте мне, сэр Роберт, юноше действительно ничто не угрожает!
В этот момент Бакьюхейд почувствовал, как Эндри снова дёргает его за плащ.
– Сэр Фулартон, мне не остаётся ничего другого как пожелать вам спокойной ночи и вашему отряду благополучно добраться до Хилгай.
Барон Бакьюхейда продолжал стоять на стене до тех пор, пока всадники, посовещавшись между собой, не развернули лошадей и не исчезли в темноте на уходящей в лес дороге, ведшей в селение.
Затем хозяин Крейдока спустился во двор, оглядел всех собравшихся там, как будто подсчитывая силы защитников замка, и стал держать совет с Ронаном, отведя его в сторону.
– Знаешь ли ты, сын мой, что это регентское охвостье приехало по твою душу. Я их покуда отослал в Хилгай, но назавтра при свете дня они вернутся, ежели ещё ночью не дерзнут атаку предпринять. А командует ими некий Фулартон, который утверждает, что регент немедля желает приватной беседы с тобой. Меня это безмерно удивляет, но ещё боле настораживает. Откуда вообще Джеймс Гамильтон знает о твоём существовании? Клянусь святым Андреем, не нравится мне всё это!
– Отец, я нахожусь в таком же недоумении, что и вы… А впрочем, есть у меня некие догадки, но всё надо бы тщательно обдумать.
– Ну, вот и ступай покуда поразмышляй, а я здесь распоряжусь о защите замка на случай неожиданного нападения. Эти прихвостни регента ничем не лучше обыкновенных разбойников.
Барон подозвал Эндри.
– Ты что, проказник, меня дёргал на стене, покуда я важную речь держал со странниками?
– Ваша милость, так ведь врал он всё, этот Фулартон. Ей богу, брехал, как коробейник на ярмарке, который что угодно скажет, лишь бы товар распродать, и бога не побоится. А знатно, ей-ей, вы их прочь отослали. На постоялый двор в Хилгай! Вот умора-то! Да там не то что постоялого двора, а даже таверны-то справной нету! Ей-ей, ведь верно говорят, что словечки «совсем рядом» и «почти» есть великие лгуны, ха-ха.
– Однако же не уверен я, что в Хилгай они уехали. А посему придётся тебе этой ночью на страже постоять. Укройся в этой башне, погаси факел и следи за подступами к стене – у тебя глаза молодые и зоркие. В случае тревоги труби в горн. Часа через четыре тебя Питер сменит. А покуда пойди и укрепи зажжённые факелы в угловых башенках, дабы снаружи казалось, будто замок надёжно охраняется. Тогда никому и в голову не придёт, что в Крейдоке осталось-то всего раз, два,… семь мужчин, не считая старого дворецкого Джаспера, который не то что меч, а ложку и то уже с трудом поднимает, да отца Филиппа, могущего врагов разить разве только словом божьим.
После этого Бакьюхейд, как настоящий полководец, назначил каждому из слуг его пост и время дежурства. Даже повару Гилберту поручено было вместо топора для разделки туш вооружиться алебардой и ходить по периметру стены с полуночи и до первых жаворонков.
Отдав такие распоряжения, сэр Роберт поспешил в залу, где в сосредоточенной задумчивости сидел Ронан.
– Какие думы у тебя, сын мой, о причине этого визита? Я так просто теряюсь в догадках, зачем ты мог понадобиться Джеймсу Гамильтону, этому перевёртышу, лисе хитрой. Да и откуда ему вообще ведомо, что на свете есть такой юнец как Ронан Лангдэйл?
– Мнится мне, здесь сокрыта какая-то тайна. И клянусь мессой, её мог бы объяснить не кто иной, как мой учитель отец Лазариус.
– Лазариус? Но причём здесь он? И что заставляет тебя так думать, Ронан?
– Я пытаюсь размышлять логически, как меня учил учёный старец… Вот смотрите, батюшка! Накануне моего отъезда из Пейсли туда прибыл сам архиепископ Сент-Эндрюс, брат регента. На следующее утро отец Лазариус был очень опечален и встревожен. Он поведал мне лишь, что слышал некий разговор, полный богопротивных слов и помыслов. Я хотел выведать у него более обстоятельные сведения, так его встревожившие. Но он наотрез отказывался упоминать какие-либо подробности. Упомянул лишь, что знания эти опасны, и хотел, чтобы я быстрей покинул аббатство. Ну, что вы об этом скажете, отец?
Бакьюхейд задумался. Но, похоже, никакие догадки не посетили головы бравого вояки, но никудышного мыслителя, ибо он лишь ответил:
– Чертовщина какая-то творится в монастыре оном, клянусь небесами!.. И в самом деле хорошо, что ты уже дома.
– А я вот что думаю, – продолжил Ронан. – Пойдём от обратного. Регент посылает людей за мной: верно, чтобы меня как-то изолировать или даже бросить в темницу. Значит он полагает, что я представляю какую-то опасность для него, иначе к чему такие хлопоты. Отец Лазариус также говорил, что ежели я узнаю то, что услышал он, то мне будет угрожать опасность. Связывая последние два факта, я прихожу к заключению, что регент полагает, что мне известно то, о чём никак не хотел мне рассказывать отец Лазариус. Вот я и говорю, что только этот святой отец может раскрыть тайну. Очень даже вероятно, что это связано с архиепископом Сент-Эндрюсом, а может и со всем кланом Гамильтонов во главе с Шательро.
– Ах вот оно что! – воскликнул барон. – Не зря я всё же тебя обучаться посылал. Вот ты мне и растолковал всё как есть.
– Я, правда, не в состоянии понять, почему регент считает, что мне ведома тайна, услышанная отцом Лазариусом. Я ведь так ничего от праведного старца и не узнал.
– Эх, Ронан! По юности лет не знаешь ты ещё людского коварства. Верно, кто-то внушил Джеймсу Гамильтону или шепнул ему на ушко, что ты якобы всё знаешь.
– Но зачем, отец?! Кто же может хотеть погубить меня?
– Хотел бы я это знать, Ронан! Долго его голова красовалась бы над нашими вратами! – вскричал в сердцах барон и вдруг запнулся, охваченный старинными воспоминаниями. Когда мрачное туча сошла с его лика, Бакьюхейд продолжил: – Одному богу только всё ведомо, сын мой! А мне ж, право слово, невдомёк, где и когда ты себе смертельных врагов нажить успел. Порыщи-ка в своей памяти, авось, что и вспомнишь.
– Что же нам делать, отец?
– А вот что. Поди-ка спустись в комнату Питера, вели ему сменить Эндри пораньше, а мальчишка пусть сюда придёт…
Паренёк, крайне удивлённый такой быстрой сменой с поста, через пару минут позевывая предстал перед бароном. Он ещё больше удивился, когда его надежды на сон не сбылись, а вместо этого он получил указание седлать коня.
– Эндри, сынок, хочу я тебе важное задание поручить. Бери Идальго, он дорогу хорошо знает, да скачи в монастырь Пейсли. Завтра днём тебе надобно быть у его ворот и спросить отца Лазариуса. Если он выйдет, то передай ему моё приглашение посетить нас с Ронаном в Крейдоке, когда ему будет удобно и как позволит отец-настоятель. Передай, что мы за ним можем даже носилки прислать. А ежели нет его в аббатстве, то поинтересуйся осторожно где его можно разыскать. И сразу назад, только лошадь до смерти не загони. И будь внимателен, нигде не останавливайся и ни с кем не разговаривай. А когда выедешь из Крейдока, возьми коня под уздцы, сверни с дороги и пробирайся зарослями и пустошью. Полагаю, тебе ведомы здесь все тропки. А то я подозреваю, что эти солдаты, или разбойники, могут стеречь дорогу из замка.
– Отец, – сказал Ронан, – думаю, будет лучше, коли мальчишка сперва вздремнёт чуть-чуть. Только представьте, какой путь ему за день с небольшим предстоит проделать!
А Эндри добавил:
– Ей-ей! А коли вы, господин, меня тотчас в путь отправите, то очень даже возможно, что я засну прямо на коне и не пробужусь даже, ежели свалюсь с него, как было когда один монах возвращался в камбускенетский монастырь после отпевания почившего купца в Стёрлинге. Этот августинец с таким усердием весь обряд выполнил, что у него не осталось сил противиться предложенной ему кружке вина. И с каждой последующей кружкой сил к сопротивлению у него всё убавлялось и убавлялось. Ему бы проспаться, но он был очень уж благочестивый и не хотел пропустить заутреню. А посему он упросил родственников и друзей почившего, чтоб его водрузили на мула, и поехал в монастырь. А по дороге уснул и свалился. Когда мул посреди ночи прибрёл в монастырь без хозяина, монахи переполошились и отправились на поиски брата и скоро обнаружили благого монаха. Тот мирно возлежал посреди моста через Форт и громко храпел Ave Maria под убаюкивающее журчание воды.
– Ну ты мастер басни рассказывать! – добродушно сказал барон.
– Ей богу! То в самом деле было! Мы когда ездили с Гилбертом на майскую ярмарку в Стёрлинг, я собственными ушами слышал эту историю.
– Ну что ж, ладно, два часа тебе на сон и в путь. Мастер Ронан расскажет тебе дорогу и снабдит всем необходимым. Ну, иди с богом!… Эх, вы, молодняк! Помню, мы с Джоном Бьюкэнаном сутками могли с седла не слезать.
Бакьюхейд остался наедине с сыном.
– Ежели нынче на нас не нападут, – с хмурым видом молвил барон, – то ведомо, пожалуют утром гости непрошенные. Покажут грамотку с печатью регента, и у меня не будет причины не впустить их в замок. А тогда силы будут неравны, и они увезут тебя с собой… Клянусь мессой, не бывать тому!
– Да почему собственно я должен бояться этого Шательро? – горячо воскликнул юноша. – Ведь совесть моя чиста и мне нечего скрывать! Я отдамся в руки ратников регента и поеду с ними хоть в Стёрлинг, хоть в Кэдхоу или даже в Эдинбург, – простосердечно добавил он. – Поклянусь Гамильтону святым распятием и скажу прямо и честно, что ничего мне не ведомо, и что я всего-то простой школяр и хочу остаться в стороне от всех этих интриг.
– О-хо-хо! Какой же ты наивный, Ронан! Э-эх, не ведомо тебе ещё коварство людское. А уж этому-то арранскому отродью и подавно верить нельзя. Помнишь, я упоминал давеча про бастарда Джеймса Гамильтона, каковой вместе с Дугласами замышлял убить молодого короля Иакова в фолклендском замке, про того самого, который в конце концов понёс заслуженную кару на плахе? К его многим злодействам можно причесть и подлое убиение благородного Леннокса. После нашего поражения в битве у Линлитгоу граф Леннокс сдался Аррану, уверенный в его благородстве, бросил свой меч и безоружный был злодейски умерщвлён братцем Аррана Джеймсом Гамильтоном… Так вот, по крови-то наш теперешний регент Шательро приходится племянником тому нечестивому злодею, и тоже ведь Джеймс. Да тебя верная смерть ждёт, ежели ты им в руки отдашься! Нет, не допущу я сего!
– Но что же делать, отец?
– Мы сделаем хитрый манёвр и обведём регентского клеврета и его подручников вокруг пальца. Правда, тебе, Ронан, придётся испытать временные стеснения в удобствах. Это как в шахматах, когда мы с Джаспером играем. Я своего короля увожу в самый угол и окружаю плотно разными фигурами, и он как в крепкой цитадели пребывает, недосягаемый для врагов… А пока что пойди вздремни часок другой на мягкой постели. Кто знает, когда ты ещё сможешь понежиться на чистых простынях в своей опочивальне?…
Бакьюхейд помолчал ещё немного и сказал со злой искоркой в глазах:
– Ну что ж, добро пожаловать в Крейдок, «птицелов» Фулартон!
Глава XIV
Возвращение гвардейцев
Едва только небо окрасилось в светло-серые краски в преддверии наступающего дня, как у ворот Крейдока уже стоял отряд конников. Это были вчерашние ночные гости. Лица у ратников были неприветливые и даже злые, то ли из-за невесёлой погоды, то ли из-за плохо проведённой ночи, голодной и холодной.
Одетый как и ночью только без старомодного шлема и шпор, Роберт Бакьюхейд приказал приоткрыть ворота и впустить того всадника, который называл себя сэром Фулартоном. Внешний вид у него был бравый, но во взгляде сквозила надменность и недовольство. Приспешник регента вытащил из висевшей на перевязи сумки свиток и вручил хозяину замка.
Барон, развязал шёлковый шнурок, расправил грамоту и прочитал, что сей документ уполномочивает сэра Фулартона из Дрегхорна доставить к регенту герцогу Шательро дворянина по имени Ронан Лангдэйл, сына барона Бакьюхейда, для приватной беседы с регентом. Ниже была приписка, что в случае отказа добровольно сопровождать капитана гвардейцев, последний имел право использовать все имевшиеся в его распоряжении средства. Барон ещё раз перечитал свиток – да, внизу действительно стояла печать регента. Он спросил:
– Чем же заслужил мой сын такой чести: быть принятым самим регентом?
– К сожалению, мой барон, я не могу удовлетворить ваше любопытство.
– Ну, хотя бы намекните, сэр Фулартон!
– Фулартон из Дрегхорна, сэр!
– Да-да, конечно из Дрегхорна, сэр Фулартон!… Вы же разумеете, что Ронан всего лишь школяр и мы все просто удивлены этим приглашением, написанном, ей богу, в тоне приказа на арест. И как родителя Ронана меня это не может не беспокоить.
– Боюсь, что даже если бы я и желал ответить на ваш вопрос, уважаемый барон Бакьюхейда, – надменно отвечал регентский клеврет, чувствуя за собой власть, – то не смог бы этого сделать. И даже не из-за вчерашней вашей «гостеприимности», оставившей моих людей холодными и голодными. Дело в том, что я стараюсь всего-навсего не совать свой нос в дела герцогов и графов, королей и регентов… Так где же молодой человек? Надеюсь, у него не много займёт время на сборы?
– Извините, сэр капитан, но теперь в свою очередь я должен огорчить посланника Джеймса Гамильтона, которого теперь зовут герцогом Шательро. Я бы мог сообщить об этом и давеча ночью, когда вы так нежданно предстали перед вратами моего замка, ежели бы я был уверен, что вы это вы. Однако наступательные действия вашего войска внушали моему гарнизону большие опасения, и мои советники и ординарцы призвали меня перейти к глухой обороне. Как полководец и военачальник вы должны признать наши действия вполне разумными и обоснованными с позиции военной стратегии. Вы согласны со мной, сэр Фулартон… из Дрегхорна?
– Хм. Мне кажется, вы надо мной издеваетесь, сэр Бакьюхейд! – начинал уже злиться приспешник регента, брезгливо оглядывая собравшийся вокруг «гарнизон» из нескольких слуг, девушки-прислужницы и двух-трёх любопытных поварят: из всей этой армии только три или четыре человека в состоянии были владеть оружием. – Я требую немедленного отъезда вашего сына к шотландскому регенту. Можете не сомневаться: я составлю ему отличную компанию в этой поездке.
– Эх, не люблю я разочаровывать своих гостей, – с ухмылкой вздохнул барон, а его челядинцы пытались безуспешно спрятать улыбки. – Однако, думается мне, что это известие расстроит вас, сэр Фулартон из… из Дрегхорна. Ежели вы и готовы составить отличную компанию Ронану, то он не совсем расположен к вашему обществу, ибо после весёлого пиршества запрошлой ночью, когда наш стол ломился от яств, таких как, хотя бы... – и барон пустился перечислять все известные ему блюда, в то время, как оголодавший Фулартон исходил слюной. – Так вот, после того замечательного пира, выспавшись в мягкой и тёплой постели, – продолжал барон, дразня клеврета регента, – вслед за гостями ускакал и мой сын, задумавший проведать своего деда МакАлдониха, коему уже на восьмой десяток, а он крепок как самый старый дуб в нашем парке. Вот, челядинцы подтвердят искренность моих слов.
– Да-да, ускакал давеча мастер Ронан, – сказала кокетливо девушка-служанка и покраснела, смутившись своей смелости.
– Уехал он, сэр, взял у меня сыра головку да кусок окорока, сел на Идальго, да уехал, – угрюмо пробурчал невыспавшийся повар Гилберт.
Другие же слуги были никак не в состоянии подтвердить слов своего господина: всё, что они могли бы сделать в тот момент, так это упасть на землю и схватиться за животы, чтобы не лопнуть от смеха – так их позабавила насмешливая речь хозяина замка.
Конечно же, Фулартон был не такой дурак, чтобы не понять, что над ним насмехаются. Но вступать в препирательства со старым рыцарем не входило в его планы. Ему нужно было во что бы то ни стало заполучить Ронана и сделать так, чтобы по дороге в Стёрлинг с юношей случилось фатальное несчастье. Поэтому-то он, хотя и готов был взорваться от ярости, сделал вид, что не понял ехидных шуток Бакьюхейда и, желая проверить свои подозрения, надменно молвил:
– Сэр Роберт Бакьюхейд! Данными мне полномочиями я должен убедиться в искренности ваших утверждений.
– Каких именно, уважаемый сэр? Что на нашем пиршестве мы вкушали именно те яства, кои я перечислил, или что постели в нашем замке мягкие и тёплые? Скажите же, как мне доказать, что я не обманываю вас? – барон не мог отказать себе в удовольствии ещё немного покуражиться над несчастным Фулартоном, мстя тому за преследование сына.
Ординарцу Шательро стоило большого труда сдержать свой гнев. Он скрежетал зубами, а глаза метали молнии.
– Сэр, я хочу увериться, что молодой человек не скрывается в замке, – зло произнёс Фулартон.
– Вы что же, не верите моим заверениям? – с наигранным удивлением спросил барон.
– Нет, клянусь всем святым! – ответ прозвучал как вызов на бой.
– Ну, хорошо, мой лорд, – после некоторого раздумья рассудил Бакьюхейд. – Коли у вас хватает наглости считать, что я не есть хозяин в собственном доме, я вынужден отступить перед численным превосходством противника, пойти на переговоры и заключить перемирие, даже при условии досмотра моей цитадели. Что ж, я вам дозволяю взять одного из ваших спутников и обыскать моё скромное жилище. Прошу искренне меня простить, но всю вашу армию я впустить не могу – сейчас в замке мало слуг, чтоб мы могли защититься в случае чего… Хотя я вас честно предупреждаю, что вы зря потратите время.
– Как вам угодно, сэр, – сказал капитан регентских гвардейцев и крикнул сквозь решётку в воротах: – Эй, Джон! Зайди-ка сюда.
В ворота впустили помощника капитана, ратника по имени Джон. У него был пристальный сверлящий взгляд и огромные подкрученные кверху рыжие усы. В сопровождении этого солдата и при его помощи Фулартон обошёл все помещения «дворца», заглянул под все висящие на стенах гобелены – не скрыта ли где потайная дверь, нагнулся и посмотрел под все кровати – не прячется ли под ними разыскиваемый, открыл дверки всех шкафов и крышки всех сундуков, проверил все большие бочки на кухне, сунул свой нос во все тёмные углы, порой давно уж затянутые паутиной. Не остались без внимания и постройки в пределах замковой стены: часовенка отца Филиппа, амбар с подвалом, конюшня, псарня и прочие хозяйственные сооружения. Фулартон залез на окружавшую замок стену и обошёл её по периметру, зорко вглядываясь во внутренние строения и пытаясь понять, куда бы мог спрятаться Ронан, если бы у него возникло такое намерение. В общем, упрекнуть ординарца в отсутствии рвения и добросовестности было нельзя.
Не поленился он спуститься и в тёмный и холодный подвал под амбаром. Но и там ничего не было, кроме огромных бочек с вином и старой рухляди. Приуставший и взмокший от этой работёнки – а на нём ведь была боевая амуниция – Фулартон присел на пустую бочку и вздохнул: на упорные поиски было убито полдня, а в результате эдакие усилия были потрачены впустую.
Помимо сподручника Джона его всюду сопровождал также и Питер, ловчий барона Бакьюхейда. Хозяин наказал ему ходить и присматривать за регентскими холуями, пока те рыскали по замку в поисках мастера Ронана.
– А скажи, мужлан, – обратился к Питеру Фулартон, – правда ли, что уехал вчера Ронан?
– Это ж верно как и то, что в бочке под вами не осталось и капли вина, сэр, – ответил слуга.
– Послушай, приятель, – вдруг неожиданно приветливым голосом сказал ординарец, – мне же ведомо, что молодчик прячется где-то здесь рядом. Но, видимо, скрывается так умело, что быстро его и не сыщешь. Мы поставим дозор около замка и рано или поздно все равно поймаем этого каналью. Но чтобы сберечь время я готов заплатить тебе десять крон золотом, если ты мне скажешь, где он прячется.
– Эге-ге! Какие вы речи-то ведёте, сэр! Удивительно, однако ж, что вы такой непонятливый. Вам же все говорят, что ускакал мастер Ронан… Да ежели б и не уехал, то не такой я иуда, чтоб своих-то благодетелей за десять монет продавать.
– Отлично! Кажется, я тебя понял, приятель, – с воодушевлением воскликнул Фулартон. – Ты верно, хочешь сказать, что десять крон тебя не устраивают, так? А если я дам тебе в пять раз больше? Это ведь огромные деньги! Ты смог бы купить большой участок земли и сам стать лэрдом!
Ловчий Питер, преданный слуга и добродушный малый с наивным удивлением посмотрел на сэра Фулартона из Дрегхорна и сделал шаг назад, будто боясь запачкаться. Факел в руках вояки Джона хорошо освещал их обоих. По поведению и взгляду ловчего ординарец понял, что многого из этого плебея не вытянуть, и лишь подумал про себя: «Ну и глупые же эти простолюдины!»
Когда Фулартон со своим сподручником Джоном наконец-то покидали замок, неунывающий барон зычно крикнул ему:
– Эй, сэр Фулартон из э… Дрегхорна! А не желаете ли отведать вкуснейших блюд, кои у нас остались ещё со вчерашнего пиршества, и запить их живительным вином?
Регентский клеврет бросил гневный взгляд на Бакьюхейда, зло пробурчал: «Объедками не питаюсь!» и вышел вон за ворота, которые тут же за ним и захлопнулись…
Вечером в замке рано всё утихло и Крейдок погрузился в сон. Его обитатели, утомлённые беспокойной прошлой ночью, вздохнули свободно, и, казалось, жизнь потекла как прежде.
Бакьюхейд позвал к себе Питера, который пришёл и простосердечно поведал своему господину о попытке сэра Фулартона подкупить его.
– Что ж нам теперь делать? – в раздумье спросил барон, обращаясь скорее к самому себе. – Они, похоже, очень сильно желают заполучить Ронана. Конечно, в горы к МакАлдониху они не сунутся. Да и Фулартон, этот прихвостень Гамильтона видать не уверен доподлинно, уехал ли мой сын в самом деле или прячется где. А потому и Крейдок кордонами окружил: один – в лесу выставил, чтоб на дороге можно было путников перехватывать и допрос им учинять; а ещё с севера и запада дозорных расположил, дабы замок на виду держать. Только со стороны озера никого не поставил: то ли людей у него мало для тотальной блокады, то ли считает ненужным этот крутой склон стеречь. Ну, нам это и лучше.
Присутствовавший при разговоре отец Филипп осторожно спросил у барона:
– А где же всё-таки Ронан, сэр Роберт? Он ведь не уезжал никуда, не так ли?
– О-хо-хо! Друг мой! Ну, конечно же, ни к какому МакАлдониху он и подавно не отправлялся, а сидит тихо-тихо как мышка-полёвка в своей норке. Завтра многое разъяснится, ибо под утро жду я возвращения Эндри. Посмотрим, какие известия наш юный гонец привезёт.
Ожидая возвращения посланца и опасаясь, что его могут перехватить солдаты регента, Роберт Бакьюхейд поднялся за несколько часов до рассвета. Он привёл в готовность свой маленький отряд, состоявший из ловчего Питера, молодого конюшего и старого привратника, к коим присоединился также и вечно невыспавшийся повар Гилберт. Не поднимая шума, они собрались около ворот, готовые выскочить на помощь пареньку по первому сигналу тревоги.
Но старый рыцарь недооценил молодого слугу, который за пару миль до замка свернул с дороги в тёмный лес и, ведя под уздцы коня, пробрался в непроглядной мгле одному ему известными тропками среди кустов и деревьев до Крейдока и неожиданно явился перед самыми воротами. Его быстро впустили. Мальчишка буквально валился с ног: настолько он был уставшим. Он безропотно позволил заботливому Питеру отвести себя в комнатку с кроватью, рядом с которой тут же появилась миска с дымящейся жирной похлёбкой и кружка эля. Не меньший почёт получил и Идальго, которому судя по осунувшимся бокам, утыканным репейником и колючками хвосту и гриве, и спотыкающимся ногам тоже пришлось несладко. Коню насыпали отменного овса, а уже с утра почистили и расчесали.
Барон зашёл к пареньку, когда тот допивал эль в предвкушении долгожданного отдыха.
– Эндри, сынок, всё ли у тебя получилось и какие же вести ты привёз?
– Ей-ей, господин, я всё сделал, как вы и велели, – отвечал с гордостью за оправданное доверие молодой слуга. – Похоже, я правильно сделал, что повёл Идальго лесом потому как, приближаясь к воротам, я заметил какое-то движение на опушке…
– Да уж, расставили они тут вокруг дозорных, будто это не крохотное поместье Бакьюхейд, а обширные земли Гамильтонов в Ланаркшире… Ну, так что же в Пейсли, Эндри? Видел ли ты отца Лазариуса?
– К монастырю-то я прибыл уж после обедни, и монах-привратник сказал, что вот уже как три дня не видал благого старца, и говорят, что будто бы тот уехал к епископу в Глазго. Ну, как вы и наказывали, я сразу же обратно и поехал.
– Уехал, говоришь, в Глазго? – помрачнел старый рыцарь и надолго задумался.
Эндри показалось, что его господин рассержен тем, как он выполнил поручение, а потому он сразу погрустнел и скис, и даже глаза стали влажными от подступавших слёз обиды.
Бакьюхейд снова пришёл в себя, бросил взгляд на юного слугу и воскликнул:
– О-хо-хо! Что ты нос-то повесил, Эндри? Поручение моё ты исполнил справно. Хвалю, слуга верный. Был бы я королём, ей богу, рыцарским званием бы тебя одарил, ибо более всего ценю верность долгу и преданность.
– Ей-ей, ваша милость, чтоб рыцарем стал слуга, божественная нужна рука, – прибауткой ответил враз повеселевший паренёк, и не успел ещё сэр Роберт выйти из комнатушки своего слуги, как тот уже мирно посапывал.
А Бакьюхейд тем временем в сопровождении Гилберта отправился в амбар. Все слуги уже разошлись досыпать по своим каморкам, и в замке было тихо и темно.
Хозяин и слуга спустились в подвал под амбаром – тот самый, где накануне сэр Фулартон пытался подкупить ловчего Питера. Гилберт не без труда откатил от стены одну из винных бочек. Повернув огромный камень в стене вокруг оси, барон закричал зычным голосом в открывшийся в стене тёмный узкий лаз:
– А ну-ка, крот, вылезай из норы! Улетели пока что хищные ястребы.
Через некоторое время из дыры на корточках выполз Ронан. Он стряхнул пыль, сбросил с себя тряпьё, в которое был закутан, чтобы не окоченеть, и начал разминать затёкшие мышцы.
– Ну и темень же там, отец, и воздух ужасно спёртый, пахнет сырой землёй, мхом и плесенью, а чувствуешь себя будто в склепе погребальном. Мне пришлось всё время провести около противоположного выхода. Там хоть немного тянуло свежим воздухом с озера.
Гилберт поставил перед юношей корзинку с едой, оставил фонарь и ушёл караулить у входа в амбар, почтительно оставив отца наедине с сыном.
– Ронан, мальчик мой, этот подземный ход был вырыт ещё во время сооружения самого замка. И никто кроме Бакьюхейдов и самых преданных из их слуг не ведал никогда о его существовании. А те работные люди, строители, что его делали, говорят, даже не понимали по-шотландски и вернулись вместе с зодчим во Фландрию. С позиции фортификации это очень удачный лаз. Наружный вход в него закрыт тяжёлой дверью, запертой на засов изнутри, и прикрыт густым кустарником на крутом косогоре над озером. Я был ещё совсем юным, много моложе чем Эндри, когда твой дед показал мне этот потайной ход. Вот теперь он и пригодился и, верно, ещё не раз нам придётся им воспользоваться.
– Почему же, батюшка? А уехали ли регентские ратники? И вернулся ли мальчишка из Пейсли? В добром ли здравии отец Лазариус? – спрашивал юноша, с волнением глядя на отца.
– Из Пейсли-то паж твой вернулся, только вот Лазариуса там уже, похоже, нет, и никто толком не знает где он. Говорят, будто в Глазго поехал к епископу тамошнему. Только мне отъезд его уж чересчур подозрительным кажется.
– Вот уж действительно! Он два года уже, как и на полмили от монастыря не отходил! – воскликнул удивлённо Ронан. – А тут вдруг в Глазго уехал… Да святой отец и в седле-то уже, наверное, держаться не сможет. Ох, боюсь я за него, отец. Припоминаю я, как он говорил про недоброе предчувствие и роковую опасность, когда мы с ним прощались.
– Ну, поскольку ты у меня теперь учённый, мастер Ронан, вот и рассуди что к чему.
– Эх, да что тут мыслить-то? Отец Лазариус услышал невзначай чей-то секретный разговор, о чём он мне сам и говорил. Также из слов старца я уразумел, что то были знатные особы и обсуждали они какие-то злокозненные замыслы… Думается мне, отец, что те злоумышляющие интриганы прознали каким-то образом про Лазариуса, про то, что он слышал их разговор, и ... что-то сделали со святым отцом. Мне даже страшно подумать, что они могли сделать.
– А теперь, сынок, подумай, кто бы могли быть те знатные особы, интриганы, кои устраивают встречи под покровом ночи в монастыре Пейсли, в котором в это время, как ты давеча говорил, находился архиепископ Сент-Эндрюс, родной брат регента.
– Похоже, вы и сами уже обо всём догадались, батюшка, и назвали их имена. Мне только неясно, как шотландский управитель очутился в монастыре, да так что никто про то и не прознал.
– Может статься, кто-то и знал, но помалкивал. Это ты у меня ещё наивный и простодушный юноша, а искушённые люди говорят: «Язык храни в темнице, а сам будешь на свободе». А иной раз можно даже и приврать немного.
– Чуждо мне врать и лицемерить, отец. Мои уста говорят то, что лежит у меня на сердце. Ведь Христос велел нам: «non falsum testimonium dices»32.
– О-хо-хо! Я гляжу, ты умным стал, математику выучил, астрономию, языки всякие. А вот Эндри, к примеру, не учил всего этого, а сказал бы тебе, что тот много ведает, кто знает, когда можно речь вести, но ещё больше ведает тот, кто знает, когда надо язык за зубами спрятать… А ежели с врагом дело имеешь, то обмануть его есть не прегрешение пред богом, а военная хитрость. Это как, к примеру сказать, фальшивое отступление: противник полагает, что ты пустился бежать, покидает свои укрепления и бросается в погоню, дабы добить тебя окончательно, а ты в нужный момент разворачиваешь своё войско, нападаешь на преследующих тебя и изничтожаешь врага. Не одно сражение так было и ещё будет выиграно. Да взять хотя бы знаменитую битву при Гастингсе, когда норманны англичан побили.
– Да кого же мне обманывать, отец, если нет врагов у меня, – сказал бесхитростный юноша и запнулся, вспомнив о последних событиях.
– Вот-вот, – молвил старый рыцарь. – Не всегда знаешь, кто есть друг твой, а кто враг. Э-эх, с такой честностью как у тебя редко кто до старости доживает. Наукам-то ты у учёных мужей выучишься, а вот кто тебя жизни научит кроме родителя твоего да самой этой жизни… Впрочем, не о том у нас разговор пошёл. Ибо надо решать, какую стратагему мы применим, чтобы отвести опасность от тебя. Ты же не сможешь в этой норе всё время сидеть, и рано или поздно Фулартон, этот лис регентский пронюхает, что ты в Крейдоке прячешься. Стоит будет только нос из замка высунуть, как тебя тут же и схватят.
– Да это же наша земля отец! Разве не мы здесь хозяева?
– Господином всегда является тот, у кого больше силы. А с могучими Гамильтонами мы тягаться не сможем: у них и власть, и деньги, и войска. Не такой уж и дурак этот Фулартон чтоб поверить, будто уехал ты. Считает, похоже, что ты прячешься в замке. Окружил Крейдок постами так, что без его ведома ни мышь не пробежит, ни ворона не пролетит.
– Что же нам в таком случае делать, отец? – спросил Ронан с надеждой на опыт старого воина.
Бакьюхейд стоял некоторое время молча, нахмурив брови в глубокой задумчивости. Ведь он так хотел уберечь своего единственного сына от того, чего старался избежать сам всю жизнь – от грязных интриг и заговоров, лжи и предательства. Не получилось.
– Отец, а что если я расскажу всё королеве-матери, а вы приложите ваше влияние и я буду свидетельствовать перед Тайным Советом? – простодушно предложил юноша.
– О-хо-хо! Свидетельствовать о чём? Что тебе на что-то намекнул старый монах из аббатства Пейсли? Даже ежели и сможешь добраться до Её величества, то что ей скажешь? Нет, этим мы ничего не добьёмся, разве что подпишем тебе смертный приговор и будет тебя ждать та же участь, что, видимо, постигла и Лазариуса.
– Эх, бедный старец, – вздохнул Ронан, у которого при мысли о его учителе стало страшно тяжело на сердце, а к горлу подступил горький комок. Потом его мысли вернулись к собственной судьбе и он воскликнул: – Но неужели у меня нет иного пути, как скрываться неизвестно как долго в этой дыре подобно полёвке, которая всю жизнь прячется в своей норе от хищных птиц?! Да лучше уж смерть с мечом в руках, чем такое существование!
Глава XV
Старый друг
Ещё полчаса прошло в тишине после отчаянного восклицания Ронана. Его отец продолжал сосредоточенно размышлять, но вдруг черты лица барона расправились, будто по нему пробежала искра озарения. Потом его лик снова окутало облако задумчивости. Наконец Бакьюхейд нарушил тягостное молчание:
– Я вижу только один выход, Ронан… Тебе надо отправиться туда, где тебя не достанут руки Гамильтонов…
– Куда же это, отец?
– В Англию!
– В Англию? – удивился юноша, никак не ожидавший такого ответа: ведь это южное королевство было извечным врагом Шотландии, и с воинами оного много раз скрещивал мечи и копья отец Ронана. – Но почему именно в Англию, отец?
– Где бы ты ни укрылся севернее Твида, тебя везде достанут длинные руки Гамильтонов, – рассудил барон Бакьюхейд. – Нигде ты не сможешь чувствовать себя в безопасности. Даже ежели удастся сесть на корабль, касаемо чего у меня очень уж большие сомнения, и уплыть во Фландрию, то и там полно шпионов нашего регента. Повсюду тебе будет грозить опасность. А вот в английское королевство ради такой мелкой рыбёшки как ты регент не сунется… Я так полагаю, что когда здесь всё уляжется, ты сможешь вернуться на родину. Уж больно я сомневаюсь, что Гамильтоны будут вечно у власти. Через несколько лет подрастёт королева Мария и, надеюсь, возьмёт бразды правления в свои руки. Да, впрочем, не исключено, что ещё раньше королева-мать отберёт у Джеймса Гамильтона регентство, всё к тому идёт. Вот тогда-то ты сможешь без опаски возвратиться домой.
– Но, батюшка, куда же мне податься в Англии? Она такая обширная и у меня там нет друзей и знакомых.
– Твои опасения понятны, ты полагаешь, разумеется, что в чужой земле тебе придётся устраивать жизнь самостоятельно. Вот об этом я как раз сейчас и размышлял и, похоже, могу тебя успокоить.
Барон кликнул Гилберта, дал ему какие-то указания, после чего рассказал сыну следующую историю:
– После того, как шотландцы расторгли Гринвичский договор с англичанами, между нашими странами начались ожесточённые военные действия, поскольку английский король Генрих Восьмой был разгневан и отправил свои войска карать нашу непокорную страну. Англичане приплыли на кораблях, коих было более сотни, разорили Лейт и подступили к самому Эдинбургу, но это был слишком крепкий орешек для их гнилых зубов. Английские войска ушли в пограничную область, где принялись разорять шотландские города и земли, убивать жителей, угонять скот, захватывать крепости. Эти еретики жгли и грабили монастыри, оскверняли святыни. Больше года английские легионы бесчинствовала на юге Шотландии. Многие наши проанглийски настроенные дворяне отвернулись от них. А пуще всех негодовал граф Ангус, ибо его владениям досталось более всего. И этот вот клеврет Генриха Восьмого вдруг снова поменял расцветку и стал его врагом и шотландским патриотом. Он решил отомстить англичанам за разорённые владения Дугласов и взялся собрать армию. С тремя сотнями всадников он выступил из Эдинбурга и двинулся на юг. По пути к нему присоединялись подкрепления. Я аккурат в то время со своим небольшим отрядом маневрировал по тем местам, пытаясь хоть как-то защитить своих соотечественников – простых шотландских крестьян и ремесленников, да побить отставшие, да увлёкшиеся мародёрством вражеские отряды. Когда ж дошла до меня весть, что шотландское войско движется на англичан, хотел я сразу к нему присоединиться. Одно меня останавливало поначалу: что им командует граф Ангус, мой старинный недруг, из лап которого не без моего скромного участия был спасён молодой король Иаков. За это-то Дугласы меня и возненавидели и, верно, много лет назад именно Ангус посоветовал Генриху Восьмому несоразмерно высокий выкуп за меня затребовать, когда я в английском плену в лондонском Тауэре очутился… Но ненависть к врагам нашей страны в моём сердце была сильнее и я, в итоге, примкнул к оному шотландскому войску. Две армии встретились в местечке Анкрум-мур, что недалеко от джедбургского монастыря. И вновь нам помогла военная хитрость, что является не обманом и ложью, Ронан, а есть искусство ведения боя. Наше войско было в два-три раза меньше английской армии, а потому сражаться в открытом поле было чистым безумием. И мы пустили ложный слух, что в нашей армии происходят массовые дезертирства. Это молва дошла до английских командиров, для уш коих она и была предназначена, и они решили атаковать. Увидев наступающего врага, мы притворно развернулись и ускакали прочь по старинному, построенному ещё римлянами тракту, как будто спасаясь бегством. Англичане тут же бросились за нами в погоню по петлявшей меж холмов дороге. И вот, очутившись на возвышенности, английские всадники неожиданно оказались перед лицом ощетинившего пиками шотландского войска. Ослеплённые ярко светившим из-за спины нашей маленькой армии солнцем, английские кавалеристы, не поняв что к чему, ринулись вперёд, и многие из них тут же оказались либо проткнутыми пиками, либо сброшенными на землю. Те, кто уцелели и не увязли в торфянике, поскакали назад и врезались в подходившую сзади свою же пехоту. В рядах противника началась неразбериха. Тут наши аркебузиры открыли огонь, а затем во фланг английской армии ударила наша конница… Англичане и их наёмники бросились спасаться бегством, многие сдавались в плен, а иные переходили на нашу сторону.
Пока старый рыцарь так увлечённо вспоминал о былых ратных делах, Ронан успел подкрепиться провиантом из корзинки, принесённой Гилбертом, запив хорошим глотком эля, вытер рукавом рот и нетерпеливо стал смотреть на родителя. В конце концов, он не выдержал и, пока отец переводил дух, перебил его рассказ:
– Прошу прощения, мой высокочтимый родитель, но мы ведь разговаривали о моём побеге в Англию и о том, как я там обустроюсь без друзей, без знакомых и чем буду там заниматься. А вы предаётесь старинным воспоминаниям. Уместны ли они в эту минуту?
– Эх, молодёжь неопытная и пороха не нюхавшая, – посетовал барон. – Ты нетерпелив подобно тому больному, кто не желает долго, изо дня в день принимать предписанные лекарем средства, а хочет враз на ноги подняться. Да вот только не бывает так! Лучше ждать поваров, чем докторов, как говорит Эндри. О-хо-хо! Я уже мальчишку цитировать начал. Так его прибаутки и поговорки порой мудрей изречений древних оказываются… Да я, впрочем, уже и к самому главному подошёл. Полегло на той пустоши множество врагов, некоторые сдались нам в плен, а иные решили спасаться бегством. А в одном месте завязалась жестокая схватка. Небольшая горстка английских воинов, потерявших своих боевых коней, но ещё не лишившихся жизней, окружили своего командира сэра, Брайана Лейтона, и ожесточенно отбивались от напиравших на них со всех сторон шотландских ратников. Но силы, очевидно, были не равны, и англичане один за другим падали, сражённые ударами боевых топоров и длинных пик шотландских солдат. Вскоре исчез и белый плюмаж сэра Лейтона, потому как один горец лохаберским топором раскроил череп английскому командиру. По иронии судьбы свирепые горцы, так яро атаковавшие горстку английских рыцарей, были из числа тех самых шотландцев, которые поначалу присоединились к английскому войску, но видя, что дело принимает для южан худой оборот, посрывали английские эмблемы святого Георгия и напали на своих же бывших сотоварищей. Англичан оставалось всё меньше и меньше. Должен честно признаться, что меня поразила их отвага и отчаянная смелость, а также мужество, с которым они принимали смерть, ибо они предпочитали умереть с оружием в руках, нежели сдаться в плен. Мне искренне было жаль, что им всем суждено было погибнуть. В конце концов, наступил момент, когда в живых или ещё живых остался один единственный англичанин, бравый рыцарь. Силы уж покидали его, хотя он и продолжал размахивать мечом и отбивать удары шотландских ратников и горцев, которые, похоже, просто тешились и продлевали себе удовольствие, потому как могли уж давно бы проткнуть его пикой или разрубить топором. Лицо английского рыцаря было залито кровью, он уже еле держался на ногах. Незнамо отчего я вспомнил про тебя и почему-то в моей душе появилось интуитивное желание спасти этого храброго воина. Верно, то было провидение господне. И вот, истекая кровью, в окружении шотландских горцев и ратников, обессиленный он просто упал на колени, направив лицо к небу и прося у господа прощения в ожидании смерти. «Остановитесь!» – крикнул я, когда занесённый над головой рыцаря топор горца готов был опуститься на жертву. – «Этот англичанин будет моим пленником!» Безжалостные горцы отступили. Наверное, они не смели перечить шотландскому рыцарю, который так доблестно дрался в том сражении, ибо именно я выбил из седла некоторых из тех англичан, которые стали драться пешими и в итоге были изрублены. А может, они продолжали опасаться за своё недавнее предательство. Как бы то ни было, они опустили оружие и расступились. Я спешился и подошёл к английскому воину, чтобы попросить его отдать мне меч. В таком случае по законам рыцарства он мог бы считаться моим пленником. Но тот уже распростёрся на земле без сил, обескровленный и без сознания. Я взял его меч и приказал моим людям унести англичанина с поля битвы и найти какого-нибудь лекаря, который тотчас позаботился бы о его ранах. Но времена истинного рыцарства, увы, давно минули. Ангус, узнав, что я взял в плен благородного англичанина и сокрыл его, потребовал от меня отдать ему пленника, ибо согласно нынешним понятиям все пленённые вражеские воины принадлежат короне или же управителю королевства. Мне ничего не оставалось делать, как поклясться словом рыцаря, что я вручу пленника власти регента графа Аррана (который нынче стал герцогом Шательро), как только у раненого затянутся раны, ежели он вообще выживет. Если бы я в тот момент отдал англичанина мстительному Ангусу, то пленник, несомненно, был бы жестоко умерщвлён, чего я никак не мог допустить. Мои воины отнесли англичанина в полуразрушенный джедбургский монастырь, который хотя и был уже разграблен и наполовину разрушен, но жизнь в обители продолжала теплиться. Монахи аббатства, находящегося в пограничной области, там, где постоянно происходили военные действия, оказались искусными врачевателями боевых ран. Я остановил свой отряд в селении около монастыря и ежедневно навещал англичанина. Как только он пришёл в себя, первым его чувством было удивление, что он жив. От монахов он узнал, что господь избрал меня своим посланником, дабы я спас его жизнь. При моём появлении, англичанин даже попытался подняться, хотя и безуспешно, с целью выразить свою благодарность. Я узнал, что храброго воина зовут сэр Хью Уилаби и он принадлежит к знатной английской семье. Он честно поведал мне, что желает обрести славу на ратном поприще во имя великой Англии, или же погибнуть во имя своего короля, ежели так будет угодно богу. Несмотря на то, что я считал англичан своими врагами, я не мог не отдать должное благородству поведения этого рыцаря, его храбрости и искренности. Ведь он также был предан своей родине, Англии, как я – Шотландии. Им тоже управляли не тщеславие и корысть, а возвышенные устремления, которые побуждали его совершать героические поступки. Я не мог не испытывать уважения к Уилаби. В моей душе зародилась неосознанная симпатия к английскому рыцарю. И почему-то часто, беседуя с ним, перед моим взором как живой вставал твой образ, как будто между вами была некая загадочная связь. Я очень дивился такому мистицизму, то было для меня непостижимо – ведь вы были совершенно разные: и по возрасту, и по роду занятий. И лишь ныне я разумею, что та невольная встреча не явилась случайностью, а была ниспослана свыше…
– Так что же случилось с тем английским рыцарем дальше? – в вопросе Ронана уже не было предыдущей нетерпеливости, поскольку он, видимо, так увлёкся рассказом отца, что на миг даже забыл о своём трудном положении.
Барон отхлебнул вина из лежавшей в корзине бутылки и продолжил:
– За те несколько дней, что мой отряд провёл подле джедбургского монастыря, я много общался с сэром Хью. Он с охотой рассказывал о себе, много и подробно, ничего не тая, чтобы я ни спросил. Поведал он мне про всех своих предков и родственников. Знаешь – как в именитых семьях любят своей родословной кичиться. Но не так он был тщеславен, этот Уилаби, как иные наши дворяне, кои свою трусость и малодушие прикрывают подвигами и добродетелями, явными и мнимыми, своих предков. Впрочем, всего я уже и не припомню из того, что он про своё родословие рассказывал. По большей части Уилаби описывал военные подвиги своих предков… Про себя лично он говорил мало, и ежели я бы не спрашивал, то и не узнал бы ничего. Оказалось, что мы чуть было ни встретились с ним на ратном поле подле Лейта, когда туда английская армия прибыла на многих судах, которые как саранча весь залив Форта заполонили. Но не судьба нам была, видимо, мечи скрестить. Мы вынуждены были к Эдинбургу отступить, дабы столицу защитить, а англичане тем временем Лейт заняли. И, видать, Уилаби так доблестно сражался в те жаркие денёчки, что английский командующий граф Гертфорд произвёл его в рыцари. После этого он обрёл репутацию отважного воина и даровитого командира и стал занимать важные посты в английской армии, стоявшей в граничном районе. Уилаби стал доверенным лицом и военным советником сэра Брайена Лейтона, губернатора этой области с английской стороны границы, а потому и сражался с ним плечо к плечу в той битве при Анкрум-мур. Иногда мы с Уилаби и спорили, ибо я не мог смириться с жестокостью английских войск по отношению к шотландскому населению, а он упрекал рейдеров Пограничья в набегах на английские поместья на севере Камбрии и Нортумберленда. А в итоге, мы сошлись во мнении, что мучительные тяготы простонародья и разоренья дворянских поместий есть, увы, неизбежные спутники военных действий. Не побоюсь сказать, что за те несколько недель нашего знакомства мы стали хорошими друзьями, поскольку воззрения наши на жизнь и смерть, на войну и мир, на благородство и низменность были весьма близки… А после того как на моём пленнике все раны зажили, мне с большой неохотой пришлось его препроводить в Эдинбург и сдать коменданту тамошней крепости. Вот так вот.
– Как, отец! Неужели вы отдали в руки тюремщиков того, кто стал вашим другом?! – изумлённо воскликнул Ронан.
– Я и не мог поступить иначе! Ведь я поклялся Ангусу. И сэр Хью прекрасно понимал, что я связан рыцарской клятвой и не смогу отпустить его на свободу, как бы того мне ни хотелось. А посему он даже и не помышлял уговорить меня поступиться честью. Мы тепло попрощались и пожелали, чтобы в дальнейшем не пришлось нам повстречаться друг против друга с оружием в руках. После этого мы никогда более уже не виделись. Я узнал, однако, что через два-три месяца после заключения в эдинбургскую крепость за Уилаби был получен выкуп и пленник смог вернуться в Англию. Через пару лет произошла фатальная битва у Пинки, после которой я сподобился уцелеть, но оказался хромым калекой, неспособным даже в седле сидеть… Однажды, покуда ты в Пейсли наукам обучался, прибрёл в Крейдок один странствующий торговец и сказал, что есть у него некая грамотка для барона Бакьюхейда. Поначалу я очень удивился, но затем обрадовался, ибо обнаружил, что то было письмо от сэра Хью Уилаби… Эгей, Гилберт, старина, – позвал слугу Бакьюхейд, – ты принёс то, за чем я тебя посылал?
Доблестный кулинар, позевывая, приблизился и вручил Бакьюхейду сложенный вчетверо пожелтевший лист.
– Полагаю, будет лучше, Ронан, ежели ты сам прочтёшь это письмо, – барон передал Ронану документ.
Юноша развернул бумагу и прочитал следующий текст:
«Роберту Бакьюхейду от Хью Уилаби. Составлено 24 февраля года 1551 от Рождества Христова в крепости Лаудер. Уважаемый Сэр и мой дорогой друг, примите мои сердечные приветствия. Невзирая на то, что война между двумя британскими королевствами разделила наше общение на многие лета, а может даже и на всю жизнь, я часто вспоминаю моего великодушного спасителя и возношу всевышнему богу молитвы за его благоденствие. После нашего невесёлого расставания в шотландской столице я ещё три месяца бесцельно расточал время в каземате эдинбургского замка, пока не пришёл долгожданный выкуп, собранный моей леди Джэйн, моим сыном Джорджем и не без помощи иных наших родственников, да благословит их господь. По возвращению на английскую территорию после краткого визита в Дербишир я присоединился к гарнизону крепости Норхэм и участвовал в двух рейдах на юге Шотландии. Я молил бога, чтобы он не свёл нас в бою, ибо это было бы совершенно несправедливо, если кто-то из нас пострадал бы от руки другого. Вседержитель услышал мои молитвы и не допустил мне присутствовать в сражении около Пинки-клюх – так, кажется, звалось то место, рядом с которым английское оружие торжествовало свою победу на пиру, устроенном Её Высочеством Смертью. В это время я оставался в Норхэме и изо всей шотландской армии меня беспокоила судьба только одного человека. Долгое время я пытался узнать о вашей участи через наших агентов пока, наконец, до меня не дошла весть о том, что благородный сэр Бакьюхейд был тяжело ранен в сражении и удалился в своё имение, оставив ратную службу. Слава богу, что вы не погибли. Вскоре после этого я был поставлен командовать гарнизоном форта Лодер и являюсь таковым до сей поры, ибо наиболее вероятно, что вскоре смерть избавит меня от этой должности. Наши запасы иссякли, а новые не поступают потому, как вокруг крепости стоят шотландские отряды, которые отрезали все пути к Лодеру. Всю оловянную посуду мы переплавили на пули для аркебуз. Голод и болезни удушают нас, и тем, что гарнизон ещё жив и оказывает сопротивление, мы обязаны человеческому корыстолюбию, ибо только по этим мотивам некоторые окрестные шотландские торговцы тайно переправляют нам провиант. Если мы сдадимся на милость врага, то на пощаду рассчитывать не приходится, ибо до нас дошла весть о том, как шотландские солдаты поступили с пленниками, когда в прошлом году взяли замок Броути. Такая же участь ждёт и нас, если мы сдадимся. А посему все английские воины нашего гарнизона, от простых ратников до командиров, готовы драться до последнего вздоха. У меня почти нет надежды остаться в живых, но если мне суждено умереть здесь, то я желаю, чтобы вы знали, что были одним из лучших моих друзей. Прощайте, мой спаситель и друг, и пусть благоденствие и помощь всевышнего не покидают вас. Посылаем свой сердечный привет и остаёмся вашим преданным другом к вашим услугам. Хью Уилаби.»
– Вот благородный и храбрый человек! – воскликнул Ронан, когда прочитал письмо до конца. – Хотя, впрочем, и англичанин…
– Среди англичан, сынок, тоже, оказывается, существуют великодушные и честные люди. В любом народе есть добро и зло, ибо бог и дьявол борются за души человеческие.
– Так что же стало с защитниками Лодера, отец? Ведь это послание было написано, как я понял, полтора года назад, а сейчас у нас с англичанами, насколько мне ведомо, соглашение о мире.
– Ныне – да. Но только за год до написания Уилаби сего письма Англия заключила мирный договор с Францией, давней союзницей нашей страны. И среди людей стали витать мысли о том, что вскоре также установится мир и между Шотландией и Англией, потому как обе страны устали от бесплодных и опустошительных войн. И не дожидаясь заключения этого мира, шотландцы, так и не сумевшие взять форт, предложили английскому гарнизону Лодера сдать крепость, а взамен им дозволялось покинуть форт, не сдавая оружие. Как только это известие до меня дошло, я тотчас послал Питера в Лодер узнать про судьбу сэра Хью. Питер прискакал туда, когда английский гарнизон уж как неделю оставил крепость. Местные жители рассказывали, что англичане вышли из форта с оружием в руках и стяги и вымпелы развевались над их головами. Но вид самих людей вызывал жалость, ибо состояние их было ужасное: измождённые и осунувшиеся, многие из них еле держались на ногах и опирались на плечи своих товарищей; самые крепкие несли носилки с раненными и больными; при них не было ни лошади, ни мула, ни одного вьючного животного – всё давно было съедено. Впереди всех с высокоподнятой головой шёл их командир, он передал ключи от крепостных ворот шотландскому офицеру, встал рядом с ним и смотрел, как мимо бредёт его изнурённое тяготами многомесячной осады войско. Когда все английские солдаты миновали его, их командир повернулся к молча созерцавшим этот исход шотландским отрядам, отдал им салют и присоединился к своим воинам. Это был сэр Хью Уилаби.
– Так значит, он не погиб! – радостно воскликнул Ронан.
– Выжил… хотя, впрочем, и англичанин, – улыбнулся Бакьюхейд, передразнивая сына. – Вот под его покровительство ты и отправишься.
– Неужели мне предстоит встретиться с этим доблестным рыцарем?… Но как мне разыскать его в огромной Англии, отец?
– Упомнил я, когда Уилаби мне про свою семью рассказывал, что его леди и сын его проживали в то время в имении Рисли, что в Дербишире. Верно, там-то тебе и нужно его искать.
И отец с сыном стали обдумывать, как Ронану выбраться незамеченным из обложенного регентскими кордонами и постами замка, дабы отправиться в путь в далёкое английское графство Дербишир.
Глава XVI
Дичь ускользнула
Наступивший день в замке прошёл как обычно. Ничто не выдавало обеспокоенности его обитателей последними событиями. Расставленные Фулартоном посты вокруг замка присылали ему доклады, что ничего необычного не замечено. Сам же ординарец регента велел поставить себе шатёр на опушке, рядом с дорогой ведущей из замка.
Прошла ещё одна ночь и наступило воскресенье. День выдался пасмурным и дождливым, осенний лес стоял сумрачный и неприветливый. По дороге в сторону Крейдока тянулась вереница людей из Хилгай с целью посетить обедню в замковой церкви и послушать сакральные речи отца Филиппа. Казалось, ничто не могло потревожить апатичность и сонность сельского пейзажа, и Фулартон, взглянув на смачно поднимавшийся дымок над замком, взял одного из своих солдат и отправился в харчевню в Хилгай.
– Глядите в оба, – гаркнул капитан прятавшимся под ветками большого тиса около дороги постовым.
– Да мы уж стараемся, ваша милость, – ответил один из них, в котором можно было бы узнать ратника Джона, того самого, который давеча помогал Фулартону обыскивать замок.
Ординарец регента со своим спутником поскакал в сторону деревни вдоль идущих в замок прихожан.
– И что они здесь разъездились, соседка? Прямо как хозяева себя ведут, – проворчала одна из женщин.
– Говорят, ищут они мастера Ронана, – ответила её приятельница, которая обычно носила куриные яйца в Крейдок и потому была в курсе некоторых событий, там происходивших.
– Бог ты мой! Да зачем же им молодой Бакьюхейд понадобился-то? Он же, я слыхала, на днях только и вернулся.
– Вернуться-то вернулся, только, похоже, снова соколок улетел куда-то. Иначе б не искали его.
– Видать, здорово он набедокурить успел, раз за ним целое войско шлют.
– Верно толкуешь, кума, армия настоящая. У нашего барона и раньше-то никогда такого большого отряда не бывало. А после Пинки так вообще ни одного ратника-то не осталось. Почти все с той битвы не вернулись, а новые покамест не народились.
– А вон там под деревом двое стоят. У одного усы ух какие длиннющие. Смотри, как высматривает-то.
– Да они, говорят, со всех сторон дозоры расставили, чтобы сынка нашего лэрда словить, ежели он вдруг объявится. Ходят слухи, будто никуда он даже и не уехал, а прячется где-то поблизости.
– Помоги ему господи. Сколько уж бед на нашего барона-то выпало. Теперь ещё и за единственным наследником как за олешком охотятся.
Вздыхая и охая, закутанные в шерстяные платки кумушки миновали солдат и направились в ворота Крейдока, которые в этот день были приветливо открыты для всех добрых католиков.
Однако же не все стремились попасть в замковую часовню, дабы послушать обедню да обменяться новостями, поскольку некоторые имели ровно противоположное намерение, а именно покинуть замок, потому как вскоре из ворот выехал всадник на вороном коне, которого под уздцы вёл другой человек. Они неспешно направились по дороге к деревне. Их появление вызвало явную тревогу на постах, которые враз оживились: Джон со своим напарником ощетинились пиками и встали поперёк дороги, преграждая путь; на посту со стороны пустоши дозорные вскочили на лошадей, готовые ринуться на подмогу своим товарищам.
Все внимательно следили за всадником, закутанным, вероятно, по случаю непогоды с ног до головы и пригнувшемуся к шее коня. Неужели это тот, кого они ищут? Возможно, по юности и безрассудству своему он решил прорваться сквозь кордон. Так думали солдаты Фулартона в то время как пара приближалась к дозору. Те ратники, что были на посту на пустоши, не смогли удержать себя на месте и поскакали к своим сотоварищам на помощь. А всадник и его провожатый уже приблизились к кордону. Привлечённые этой сценой, шедшие в часовню люди сошли на обочину, остановись и с любопытством глазели на происходящее.
– Стойте! – рявкнул стражник Джон, угрожающе направляя пику на всадника. Не менее угрожающе топорщились и его длинные рыжеватые усы. – Кто такие?
Тут кто-то из кучки любопытных сельчан выкрикнул:
– Да это же Питер, ловчий нашего барона Бакьюхейда!
Действительно, коня под уздцы вёл ни кто иной, как наш знакомец Питер, преданный слуга и добродушный малый. Он остановился, уставился на стражников, похлопал глазами, погладил свою бородку и ответил с важным видом:
– Мы-то? Хм. Мы есть слуги его милости барона Бакьюхейда, дай бог ему доброго здравия и долгих лет, и находимся на его земле. А вот вы-то сами кто будете, воители? Хотя твои усы, дружище, мне что-то уж больно знакомы. Не ты ли давеча со своим командиром по замку рыскал?
– Тебя это не должно касаться, смерд. Скажи-ка лучше, кто это там, на коне у тебя восседает?
– Да это молодой грум барона, – как ни в чём ни бывало ответствовал Питер.
– Грум, говоришь. А почему он закутан до головы и шапка по самый подбородок напялена? – подозрительно спросил стражник.
– Так погода нынче какая ж? То дождь мелет, то ветер кроет. А парнишка он молодой, неокрепший, к суровостям бытия ещё не привыкший. Не приведи господь, захворает, сляжет да отдаст богу душу. А нашему господину нужны хорошие работники, а не добрые покойники.
– Ты много болтаешь, каналья. С каких это пор лэрды так о своей челяди пекутся?
В это время подъехали конники с поста на пустоши. Они окружили Питера и таинственного всадника со всех сторон, дабы те не могли вырваться из круга, вознамерься они это сделать. У бравого Джона уже не оставалось сомнений, что это был сын барона, Ронан Бакьюхейд. Солдат уже предвкушал, как сэр капитан вручит ему крону, обещанную тому, кто задержит юношу. Увидев прибывшее подкрепление и поняв, что всаднику никуда не деться, Джон скомандовал:
– А ну, чёртов молодчик, слазь с коня, да покажи нам свою физиономию.
Седок молчал и не двигался. А ловчий возопил:
– Эй, люди, только посмотрите, как это солдатьё над простыми слугами вашего барона изгаляется!
Стоявшие на обочине сельчане зароптали и засетовали. А некоторые особенно бойкие на язычок прихожанки вместо того, чтобы благоговейно смирять свои души перед обедней, осыпали гвардейцев непристойными проклятиями.
Всё это ещё больше разозлило Джона. Под ободряющие выкрики своих товарищей он подошёл к всаднику, схватил его за ногу, вытащил её из стремени и со всей силой потянул вниз. Но тут наездник резко дернул ногой, брыкнул ей, и получилось так, что угодил прямо по физиономии Джона, который потеряв равновесие и получив такую затрещину, не устоял на ногах и свалился на землю. Все солдаты тут же схватились за оружие.
А всадник тем временем как ни в чём ни бывало спрыгнул с жеребца и встал рядом с Питером. Он оказался совсем невысокого роста и был по плечо ловчему барона. Накидка упала и открыла его весёлое веснушчатое лицо.
– Эндри, сынок мой, – вскрикнула одна из селянок и поспешила обнять своего отпрыска. – Да что же это делается-то? Здоровые солдаты над детьми издеваются и гнева господня не бояться.
Все враз заулыбались: кто-то смеялся над бедным Джоном, попавшим впросак; кто-то радовался тому, что это был и в самом деле слуга их лэрда, а не его сын; даже гвардейцы из отряда Фулартона не могли скрыть усмешки над своим незадачливым товарищем.
Джон тем временем поднялся на ноги и встал с грозным видом перед Питером и Эндрю.
– А отчего ты сразу, юнец, по моему приказу с коня не спустился, а брыкаться начал, как необъезженный жеребец?
– Ей-ей, а ради чего жаворонок должен ворону слушаться?
– Что! – взревел Джон и ринулся на мальчишку. – Сейчас ворона из жаворонка жаркое сделает.
Сельчане охнули, а мать Эндри запричитала. Все их опасения, однако ж, были напрасны, ибо не успел ратник сделать и пару шагов, как пострел был уже в дюжине ярдов от него, а ещё через пару мгновений он достиг края леса и там остановился, дразня вояку неприличными жестами. Джон побагровел от ярости и хотел было ринуться вслед за мальчишкой. Но более хладнокровные товарищи удержали его, не дав гвардейцу регента окончательно стать посмешищем местных поселян, которые к этому времени успели уже позабыть про мессу, а весело глядели на разыгрывающее представление. Джон чуть поостыл и насел на Питера:
– А тебя я теперь припоминаю, мужлан. Это ведь ты давеча всё вокруг нас с капитаном крутился, пока мы ваш вонючий замок проверяли.
– Не ведомо мне, какой вонючий замок вы проверяли, – ответил Питер, – а в доме моего господина может пахнуть лишь аппетитными ароматами от яств Гилберта, да благоуханиями в нашем садике от роз и камелий. А впрочем, ты прав, воитель, потому как иногда у нас от непрошеных гостей случаются неприятные зловония.
– Да что б весь ваш замок к дьяволу провалился! Скажи мне только куда вы с этим юнцом направлялись и с какой целью. Да можешь проваливать.
– Так бы сразу и спрашивал, солдат, заместо того, чтоб парнишку с коня стаскивать, – отвечал Питер. – А идём мы в Хилгай к ковалю Николасу, дабы Идальго подковать. Хоть и воскресный день нынче, а все равно скакун всегда хорош должен быть. И коли не задержали бы нас, мы уж давно бы там были… Ну пошли, Идальго, пошли. – Питер помахал рукой сельчанам и побрёл дальше по дороге, ведя за собой коня.
Когда дозорные скрылись из виду, к ловчему присоединился и мальчишка.
– Эге-ге, Эндри, как полагаешь, справились мы с поручением его милости?
– Питер, дружище, дела пошли к лучшему, как говаривал один лекарь, когда число его пациентов стало резко расти по причине мора.
– Вот ты всё балагуришь, парень, а мастеру Ронану сейчас, наверно, не до смеху. Любопытно, где ж он скрывается-то. А мы, как его милость просил, так и сделали: ты в плащ укатался и к шее коня пригнулся, чтоб рост твой нельзя было со стороны определить, а потом ещё мы представление им устроили, так что регентские гвардейцы все сбежались. Только не уразумею я, для чего ж это всё надобно было нашему господину.
– Ей-ей, какой ты бестолковый, Питер. Его милости нужно было, чтобы мы внимание дозорных на себя отвлекли.
– Ну-ну, ты малой, старших не дразни, – обиделся ловчий. – Скажи-ка лучше, для чего же ему понадобилось-то внимание солдат отвлекать?
– Для чего, да для чего! Так я тебе и скажу! Как говорит отец Филипп, праздное и бесцельное любопытство есть согрешение перед лицом божьим. Хоть и мудрёная фраза, но мне запомнилась.
Болтая таким образом, добрели они втроём – ибо третьим был Идальго – до Хилгай.
Деревня эта мало чем отличалась от поселений равнинной Шотландии того времени: одна улица, если её можно так назвать, в пять сотен ярдов длиной, вдоль одной стороны которой беспорядочно расположились сложенные из камней и торфа приземистые хижины с покрытыми соломой крышами, грязная с огромными лужами. Около каждого домика был огород, отделённый от соседей или изгородью из ивняка или маленьким заборчиком из сложенных друг на друга камней песчаника. Никакого порядка или геометрии в расположении этих ограждений не было. Основной достопримечательностью на таких клочках земли были насаждения огромной капусты, между которыми кое-где высились колючие стебли чертополоха с венчавшими их фиолетовыми соцветиями размером с куриное яйцо. Там и здесь между хибарами сновали колли, то в одиночку, то целыми сворами. На пустоши позади домов можно было видеть пасущихся косматых рыжих коров, глаза которых скрывали пряди длиной шерсти. По другую сторону улицы простиралось большое поле, разделённое межами на наделы. Длинные полоски ржи, овса, ячменя и гороха располагались хотя и правильно геометрически, но абсолютно беспорядочно по выращиваемым на них растениям…
Кузнец Николас был здоровенный детина, как и большинство его собратьев по ремеслу – с широкими плечами и мускулистыми руками. Слуги барона передали ему жеребца и велели проверить все ли подковы хорошо держатся, а Эндри ещё что-то шепнул ему на ухо. После этого приятели направились в деревенскую харчевню пропустить по кружке эля.
Заведению этому было далеко до процветания, ибо Хилгай лежал в стороне от больших дорог, и лишь редкие путники останавливались здесь чтобы отдохнуть и утолить голод, да сельчане собирались иногда по большим праздникам. Тем не менее, последние денёчки выдались жаркими для семьи трактирщика, ибо регентские гвардейцы, ставшие дозором вокруг замка, за неимением лучшего повадились сюда харчевничать. И трактирщик был, пожалуй, единственным человеком в селении, коего можно было назвать довольным прибытием в окрестности отряда Фулартона.
Стряхивая капли дождя с одежды, довольные выполненным поручением улыбающиеся Питер с Эндри вошли в харчевню. Но при первом же взгляде на посетителей им пришлось умерить свою весёлость, ибо за ближайшим к очагу столом сидел сам Фулартон из Дрегхорна, наслаждаясь теплом от огня и хотя и простой, но вкусной едой. За другим длинным столом поглощали обед несколько из его солдат, сменившиеся с дежурства час-другой назад. Других столов в харчевне не было и нашим приятелям пришлось примоститься за дальним краем длинного стола. Хозяин принёс им кружки с элем и развёл руками. Питер понимающе улыбнулся, а Эндри весело подмигнул трактирщику.
Поначалу стражники подозрительно поглядывали на них, затем спросив у хозяина о личности тех двоих и получив ответ, казалось, забыли об их существовании и продолжили свою трапезу. Около получаса приятели наслаждались теплом и элем, вполголоса разговаривая о том о сём и готовясь двинуться обратно в Крейдок.
Вдруг во дворе раздался топот копыт и в харчевню ввалился усатый Джон. Под глазом у него уже красовался здоровенный синяк. Сразу увидев Эндри, поскольку тот сидел ближе всех к двери, он зловеще воскликнул:
– Ага, ты здесь, чёртов зверёныш! Ну, теперь тебе от меня никуда не деться, – и вояка, расставляя руки в разные стороны, двинулся на паренька, намереваясь схватить его и отомстить за все свои унижения. Как бы вторя рукам, растопырились и его усы.
Эндри быстро соображал, придумывая как бы ускользнуть от рассвирепевшего солдата, но после двух пинт эля ничего путного в его молодую голову не приходило. Впрочем, помощь пришла оттуда, откуда её можно было менее всего ожидать.
– Джон! Что ты здесь делаешь, чёрт возьми? – резко окрикнул Фулартон. – Разве я не велел тебе усилить бдительность?
Только тут разгорячённый гневом гвардеец заметил своего капитана. На лице Джона отобразилось смущение. Усы его тут же малость поникли, а руки опустились вдоль тела.
– Сэр капитан, я прибыл с докладом. Согласно вашему приказу в случае каких-либо особых событий о сём необходимо вам докладывать.
– И что же у вас произошло за время моего отсутствия, лентяи? Надеюсь, вы поймали молодчика?… Впрочем, по твоей физиономии этого не скажешь, – сказал Фулартон, разглядывая побитое лицо солдата.
– Это всё он, каналья! – воскликнул Джон, тряся кулаком в сторону мальчишки и снова делая движение в его сторону.
– Ты можешь спокойно поведать, что у тебя произошло? – спросил капитан.
– Я затем и приехал, сэр. А всё дело в том, что вскорости после вашего отъезда из ворот замка вышли вот эти двое, причём мальчишка сидел на коне, весь закутанный. На мои приказы спуститься и показать, кто он такой есть, этот юнец никак не реагировал. Я попытался силой заставить его спуститься со скакуна. А поскольку чертёнок был в более выгодной позиции, то он нанёс мне предательский удар и тут же удрал так, что его бы и ветер не догнал.
– Так-так! И ты прибыл, чтобы сообщить мне, что тебя безнаказанно побил какой-то мальчишка? Признаться, я был лучшего мнения о твоей доблести, Джон.
Солдат смущённо потупил взор, рыжеватые усы его свисали уже почти отвесно. А ординарец Шательро продолжил:
– И ты, наверное, даже не поинтересовался у этих смердов, куда и по какой надобности они направляются?
– Как же не спросил, ваша милость? Спросил…
– Ну и что ты замолк, солдат, чёрт тебя побери? – раздражённо спросил Фулартон. – Что тебе ответили эти двое?
– Клянусь моими усами, что это такой пустяк, который не заслуживает вашего внимания, сэр, – неохотно ответил Джон и продолжил: – Вот этот маленький ублюдок издалека нам скабрезные жесты показывал…
– Ты сам ублюдок, Джон вояка! – вдруг выкрикнул Эндри, который до того сидел молча, думая как бы улизнуть. – Мой отец доблестно сражался под командованием сэра Бакьюхейда и геройски пал в битве при Пинки, а вот ты только с детьми и можешь воевать!
Ратник ринулся было в сторону дерзкого мальчишки, но его остановил окрик Фулартона.
– Стой-ка, Джон. А парень, похоже, и прав… Подойди сюда, юнец, я желаю перекинуться с тобой парой слов… а впрочем, нет, обойдёмся.
У Фулартона возникла было идея подкупить мальчишку и сделать своим соглядатаем, но вспомнив про давешнюю неудачную попытку с сидевшим здесь же Питером, он отказался от этой мысли и снова стал расспрашивать своего незадачливого гвардейца:
– Так что же выходит, Джон, ты от них ничего не добился кроме лиловой отметины под глазом и неприличных жестов?
– Да нет же, ваша милость. Ещё вон тот малый, который, ежели вы помните, нас сопровождал, покуда мы замок обыскивали, сказал, что они ведут то ли Николаса к Идальго, то ли Идальго к Николасу, чтобы кого-то из них подковать.
– Ты совершенный болван, Джон! Николас это мужское имя, а hidalgo по-испански означает благородного человека. Скорее всего, так звался тот скакун, коего Николасу надо было подковать.
– Ваша правда, сэр. Точно так, вспомнил! Они вели жеребца Идальго к кузнецу по имени Николас… Уу, мерзавцы! – Джон потряс кулаком в сторону тихо сидевших слуг барона Бакьюхейда.
– Погоди-ка, погоди, – Фулартон неожиданно замолк, как будто копаясь в своей памяти, и через минуту ликующе вскрикнул: – Ага! Так и есть! Вспомнил, где я недавно слышал это имя – Идальго. Давеча кто-то из замковых лакеев при мне обмолвился, что этот самый Ронан уехал на Идальго.
При этих словах Эндри стало не по себе и он беспокойно заёрзал на скамейке. Эта его нервозность не ускользнула от хищного взгляда Фулартона, который кивнул своим гвардейцам и двое из них тут же встали около дверей, преграждая выход. Только Питер продолжал попивать свой эль как ни в чём не бывало.
– Эй ты, юнец, как так получается, – грозно спросил Фулартон, - что Ронан уехал на Идальго два дня назад, а сегодня вы ведёте этого коня к кузнецу. Знаешь ли, что за обман управителя королевства бывает? – кливрет регента красноречиво возвёл очи горе.
Эндри поглядел простодушными невинными очами на регентского ординарца, потом повернулся к своему товарищу и сказал тому сострадательным голосом:
– Эх, бедняга Питер, что теперь с тобой станется за то, что ты регентским гвардейцам наврал-то?
– Как наврал! Я? – непритворно изумился Питер, чуть не поперхнувшись элем, и ещё более ловчий удивился и ничего не понял, когда почувствовал, как под столом мальчишеская нога наступает на его ногу.
– Ей-ей, как ты смог-то старого мула именем благородно жеребца назвать, дурья твоя голова?
– Не могу, право, смекнуть, как такое со мной случилось, – ловчий, у которого при чрезвычайных обстоятельствах случались вспышки сообразительности, интуитивно почувствовал, что надо подыграть парнишке. – Верно, от вида грозных вояк помутнение на меня какое-то нашло. Вот я и обмолвился… А ты снова, Эндри, меня плохими словами называешь? Я ведь тебе в отцы гожусь.
– Как же тебя не обзывать, дружище Питер, коли ты гвардейцев самого регента обманул!
Фулартон пристально смотрел то на одного, то на другого. У него снова появилось давешнее ощущение, что над ним издеваются. Да и кто? Какие-то простолюдины! Он почувствовал, как негодование опять начинает закипать в нём, но затем вспомнил про своего патрона герцога Шательро, про то, что так и не смог избавить его от паршивца Ронана, и это вмиг отрезвило его мысли и заставило соображать более спокойно. И таковое остужание рассудка вскоре принесло его хозяину свои плоды. Ибо по натуре Фулартон был человеком умным и хитрым, умевшим добиваться своих целей, и тут его как молния осенила внезапная мысль, которая, казалось, всё объясняла. Капитан гвардейцев прокричал:
– По коням, чёрт возьми! Джон, хватай мальчишку, сажай на свою кобылу, да пусть он дорогу к кузнецу Николасу указывает. А будет противиться, ты знаешь, как его вразумить. Да смотри, не упусти юнца, чересчур он прыткий. И вперёд!
– А с этим как же? – спросил Джон, показывая на Питера.
– Оставь дьяволу этого безмозглого и упрямого мужлана. Скорей к кузнецу!
Эндри вмиг очутился переброшенным поперёк кобылы Джона, удерживаемый его жёсткой хваткой, и мальчишке ничего не оставалось, как указать путь до кузницы Николаса, докуда было всего-то пара сотен шагов. Но сорванец, разумея, что каждая выигранная минута может решить судьбу его молодого хозяина – ибо Бакьюхейд частично посвятил его в план побега Ронана, – сумел-таки удлинить этот путь аж в несколько раз!
Когда они доехали по грязной улице безмала до самого конца селения, солдат ещё сильнее сжал плечо лежавшего вниз лицом мальчишки и вопросил:
– Ну, змеёныш, где эта чёртова кузница? Мы уже всю деревню проехали!
Эндри встрепенулся:
– Да как же я могу по лужам-то определить, где мы находимся? Вот ты меня посади вверх головой, а не ягодицами, тогда я скажу.
Джон выругался и посадил мальчишку перед собой:
– Ну, где твой Николас?
– Ей-ей, Джон-вояка, да ты же не туда повернул! Я тебе молвил налево поворачивать, как мы от харчевни выехали. А ты куда лошадь поворотил?
– Так я и повернул налево!
– От меня налево! А я по твоей милости болтался поперёк лошади и даже чуточку вперёд ногами. Вот и получилось, что то, что от меня было налево, от тебя было направо! Потому-то ты и повернул не в ту сторону.
– Дьявол! – выругался Джон и крикнул своему капитану: – Сэр, этот мошенник опять нас обманул!
– Врёшь ты! – воскликнул паренёк сидевшему позади него ратнику. – Я-то сказал сущую правду, а вот ты своими куриными мозгами перевернул всё вверх тормашками, да и меня в том числе.
Эндри тут же получил сильный и болезненный тычок в спину рукояткой меча, но молча стерпел…
План же бегства Ронана от регентских гвардейцев, который придумал барон, был предельно прост. Питеру с Эндри предстояло выйти из замка и отвлечь на себя внимание дозорных, с чем, как мы уже видели, они прекрасно справились. Воспользовавшись этим моментом, Ронан должен был открыть спрятанную в кустах дверь, выскользнуть из потайного хода на крутой склон над озером, добраться по косогору до леса – это была самая опасная часть задумки – и далее, укрываясь под плотными кронами дерев и за густым подлеском, добраться до Хилгай, забрать Идальго у деревенского кузнеца, снова лесом убраться как можно дальше от замка и деревни, и затем уже выйти на дорогу и пуститься прочь верхом.
Фулартон догадывался верно, с какой целью Идальго вывели из замка. «Где конь, там должен быть и хозяин», – размышлял он, а потому и велел ехать к кузнецу Николасу. К тому самому моменту, когда капитан со своими ратниками вываливались из харчевни и садились на лошадей, Ронан едва только успел добраться до кузницы, поскольку ему пришлось сделать большой крюк по лесу, чтобы не попасться на глаза дозорным. Николас вывел ему жеребца. Но в это время на деревенской улице со стороны харчевни послышался гам, звон уздечек, ржанье лошадей.
– Скорее прячьтесь в сеннике, мастер Ронан! – посоветовал коваль.
– Ну уж нет! – ответил юноша, вытаскивая меч. – Давно мне драться не приходилось. А прятаться мне уже порядком надоело.
– Эй, господин, да они, кажись, в другую сторону подались, – удивился Николас. – Берите-ка Идальго и идите скорей через пустошь к лесу.
Ронан пожал крепкую руку доброму ковалю, с которым не раз дрался на дубинках в детстве, выскользнул за забор и быстро повёл коня через пустошь. Ехать верхом было опасно, ибо гвардейцы были недалеко и могли его заметить. Ярдах в пятистах виднелся спасительный лес, а на пути к нему косматые коровы пощипывали ещё зелёную траву…
А тем временем доблестные гвардейцы, поехавшие поначалу в противную сторону благодаря хитрости Эндри и бестолковости Джона, развернулись и, в конце концов, прибыли к дому Николаса, позади которого стояла его кузня.
– Эй, кузнец! – крикнул сходу Фулартон. – Где та лошадь, которую тебе вот этот мальчишка с одним мужланом привели?
– Какая лошадь, ваша милость? – удивлённо ответил кузнец. – Сегодня же воскресный день и все благочестивые христиане по мере своей возможности посвящают этот день всевышнему, а не работе.
– Ах, так! Обыскать эту лачугу! – крикнул капитан своим солдатам. И пока они разбежались по двору, ворвались в куницу, переворачивая всё подряд, он сам выхватил меч, подошёл к сеннику и стал ожесточённо вонзать своё оружие в скирды сухой травы, надеясь, что там прячется Ронан.
– Эй, сэр, да по какому праву вы такой беспорядок бедному ковалю учиняете? – закричал Николас. – Что я свой жёнушке скажу, когда она с обедни вернётся?
– Заткнись, смерд! – ответил Фулартон, продолжая неистово сражаться с сеном.
Оставшийся без присмотра Эндри подошёл к кузнецу и беспокойно взглянул тому в лицо. Николас быстро подмигнул одним глазом и продолжал шумно выражать своё недовольство действиями солдат.
Если бы регентские гвардейцы были бы более наблюдательными, они приметили бы меж бурых тёлок на пастбище мелькавшую вороную гриву жеребца, ибо Ронан не успел добраться до леса и предпочёл спрятаться с Идальго меж деревенского стада.
В это время к кузнице подошёл движимый любопытством Питер и присоединился к Эндри и Николасу. Так они и стояли втроём, с тревогой наблюдая за действиями солдат, ибо от зоркого взгляда ловчего не укрылось мелькавшее чёрное пятно среди стада коров. На счастье Ронана и его верных помощников ни сам Фулартон, ни кто из его отряда не стал всматриваться в пасущийся на пустоши скот.
Перевернув всё к верху дном на кузнице и в доме и не найдя ни Ронана – как на то надеялся Фулартон, – ни его жеребца, гвардейцы столпились в нерешительности около своего капитана. А тот зло смотрел на троицу простолюдинов. Он уже понимал, что юноша ускользнул от него, хотя и неведомо коим образом, а его – самого умнейшего из приверженцев регента и хитрейшего из его советников – смогли обвести вокруг пальца, да и кто? – какие-то неграмотные смерды. «Эх, не мешало бы повесить всю троицу! – думал ординарец. – Вот только шум от этого лишний будет, я про этого Роберта Бакьюхейда наслышан, да и повстречаться теперь уже пришлось. А дельце-то должно остаться в тайне, чтобы на регента подозрение не упало. Шательро – уж очень важная фигура в нашей игре, и потерять её никак нельзя».
Фулартон сел на коня и дал знак своим подчинённым следовать его примеру. И вскоре кузнец и слуги барона Бакьюхейда остались одни. Они ещё некоторое время краем глаза поглядывали на пустошь, до тех пор, пока Ронан и Идальго не скрылись под кровом леса…
Часть 3 Англия
Глава XVII
Конец начала
Хотя эту главу логически стоило бы поместить в конец предыдущей части, но мы предпочли поставить её здесь, ибо она не только завершает вторую часть, но и даёт начало дальнейшему повествованию.
* * *
Архиепископ Джон Гамильтон из окна своего Сент-Эндрюсского замка глядел на бушующее тёмное море с плывущими над самыми волнами мрачными облаками. Он с содроганием вспоминал, какие смутные времена пережила совсем недавно эта обитель шотландской церкви, как его предместник и благодетель кардинал Битон был варварски умерщвлён здесь ненавистными протестантами, как была осквернена замковая часовня еретическими проповедями одиозного Нокса и как замок превратился в вертеп разбойников-протестантов. И что стало бы с этой цитаделью истинной веры, если бы не долгожданная помощь французского флота! Интересно, как это ненавистному Ноксу удалось сбежать с французских галер и найти прибежище в Англии? Вероятно, не обошлось без его пособников на континенте, а может даже и некоторых вельмож среди французской знати. Да, глубоко проникла реформистская ересь в души людей.
Затем мысли архиепископа вернулись к нынешним временам. Он прекрасно понимал, что церковь нужно изменить, и так, чтобы ублажить ропщущий народ, который в своём недовольстве всё более склонял ухо к проповедям еретиков-протестантов. Но, конечно же, эти изменения не должны стать такими радикальными, как того жаждут реформисты, даже не такими половинными, как это вышло в Англии при прежнем его монархе Генрихе Восьмом. Незыблемыми должны остаться главные догмы и принципы католической веры, месса, почитание святых образов, верховенство папы надо всеми христианами и монашество как оплот духовной жизни. Но чем-то надо будет и поступиться. Уже написан новый катехизис. Архиепископ подготовил его с помощью сподручных секретарей и священников-вспомогателей. Все молитвы, проповеди и наставления изложены в книге на шотландском диалекте, чтобы даже самый неграмотный мирянин услышал слово божие. Теперь люди перестанут роптать, что не знают латинского языка, а потому не ведают, о чём с амвона говорит священник. Но самые трудности ждали ещё впереди: нужно было сохранить монастыри и аббатства, на богатства которых многие бароны и сановники давно уже алчно посматривали, пряча свою жадность под видом реформаторства. Увы, чем-то придётся и пожертвовать во спасение главного – истинной веры. Но спешить с этим, естественно, не стоит. Время покажет, когда жадным псам Вельзевула нужно будет кинуть новую подачку…
В покои архиепископа неслышно проскользнул патер Фушье.
– Monseigneur, – по-французски обратился к своему патрону секретарь и продолжил на том же языке, – прибыл посыльный из монастыря Пейсли с письмом для вашего высокопреосвященства.
Погружённый в свои мысли архиепископ вздрогнул от неожиданности.
– Из Пейсли?
Патер поклонился и передал послание Сент-Эндрюсу. Тот живо схватил свиток, взглянул на печать настоятеля монастыря, но затем замер на несколько мгновений, не решаясь открыть письмо. Наконец он развернул пергамент и стал внимательно читать.
– Видимо, приор хочет выслужиться и получить повышение по службе! – недовольно воскликнул примас, прочитав бо льшую часть документа. – Это послание более похоже на подробный рапорт офицера командующему войском, а в некоторых местах даже на отчёт казначея о состоянии финансов. Я не удивлюсь, ежели отец-настоятель добросовестно привёл здесь выписки из монастырской матрикулы. Вместо того, чтобы беспокоиться о благочестии братии, он обременяет нас чтением деталей повседневного монастырского бытия. Надо подумать о том, чтобы подыскать другого приора для нашего монастыря, а нынешнему настоятелю более подойдёт место аббатского казначея или ризничего. Как вы полагаете, патер?
– Ваша мудрость, монсеньор, видит людей насквозь, – почтительно ответствовал французский клирик.
Несмотря на своё недовольство, архиепископ продолжал внимательно читать письмо, как будто пытался обнаружить в нём нечто важное. Наконец он дошёл до самого конца этой эпистолы, так старательно составленной приором Пейсли, где как бы невзначай, как нечто несущественное и маловажное, было дописано:
«…Также с большой печалью и прискорбием я должен сообщить, что благочестивый старец покинул нашу скромную обитель и пребывает ныне при вратах господних, дабы обресть жизнь вечную среди ангелов небесных».
Это известие поразило архиепископ словно гром. Несколько мгновений он стоял, пытаясь осознать происшедшее. Затем отвернулся от патера, приложил кружевной вышитый платок к влажным глазам и промолвил дрожащим голосом:
– Патер Фушье, друг мой, оставьте меня, прошу вас.
Секретарь почтительно удалился, недоумевая, с какой стати так резко изменилось настроение его повелителя. А Сент-Эндрюс предался грустным размышлениям:
«Бедный Лазариус, ты покинул этот мир подобно Господу нашему Иисусу Христу, преданному в руки палачей Иудой Искариотом, ибо не вынесла твоя святая душа вероотступничества ученика. Господи, спаси и помилуй! А мысль о том, что на цепенеющих устах твоих застыли слова упрёков, выжигает мне сердце. Как мне простить себя за то, что я стал причиной твоих душевных мук, которых ты был уже не в силах перенести? И что заставило тебя оказаться той роковой ночью в аббатской библиотеке? Верно, Господь привёл тебя туда и дал мне после знать об этом, дабы я раскаялся, что стал было прислушиваться к словам моего брата, вложенных в его уста, надо полагать, самим дьяволом. Ах, как жаль, что ты не узнал об угрызениях совести, мучивших и терзавших меня, и о глубоком раскаянии, посетившем мою душу. Как мне будет недоставать твоего тихого, но твёрдого голоса, изрекающего мудрые советы, твоих благочестивых наставлений и даже твоих нечастых упрёков, резких, но справедливых. Как жаль, что за много лет в круговерти государственных забот я не нашёл времени дабы посетить тебя, мой старый наставник. И вот, когда я вознамерился вновь встретить тебя, перед нами разверзлась пропасть, каковая навечно разделяет живых и мёртвых».
Сокрушаясь и раскаиваясь таким образом, архиепископ преклонился перед позолоченным распятием в алькове комнаты и некоторое время предавался страстным покаянным молитвам. Надо сказать, что общение с господом не прошло даром для кающегося, ибо когда пик душевных переживаний прошёл и эмоции успокоились, рассудок архиепископа взял верх над его чувствами – всё же он был политик и государственный деятель, – и примас стал рассуждать более здраво.
«А так ли уж я повинен в том, за что пытаюсь корить себя? Ведь то был разговор повелителей нашей державы, мирского и духовного, в коем мы спорили, доводы приводили и пытались выбрать менее тернистый путь для нашего несчастного королевства. А ведь как тяжела наша ноша властителей государства! Только профан может думать, что государственный деятель способен быть безгрешным. Какую дорогу ни избрать, куда на развилке ни повернуть, везде появляются неминуемые угрозы зла, насилия, притеснений и грабежей. Как же здесь остаться праведником? Видит Господь, как пытаюсь я избежать большего зла малым, как стремлюсь бороться на нашу праведную и единственно истинную веру и святую римскую церковь, но не хочу и кровопролития напрасного в народе творить. И так сколько наша страдальческая нация претерпела в последней войне с англичанами, не говоря уже про междоусобицы меж сановниками и баронами. К тому же, ежели рассуждать благоразумно, то что привело Лазариуса в монастырскую библиотеку в столь неурочный час как не стремление к суетным познаниям, проистекающему лишь от человеческого любопытства? А разве проникновение в чужые тайны не сродни воровству? Да, впрочем, и возраст у старца был уже почтенный; никто ведь не живёт вечно. Может быть, вовсе и не наша беседа с братом послужила причиной кончины старого монаха, а именно природа взяла своё и закончился срок, отпущенный Лазариусу всевышним Господом нашим. Contra vim mortis nоn est medicamen in hortis33, – закончил ход своих противоречивых рассуждений Сент-Эндрюс, после чего позвал верного своего помощника патера Фушье и велел приготовить выходное облачение, дабы посетить поле для гольфа, где развлекались в тот день некоторые важные сановники…
* * *
На юге страны, в долине реки Аннан в окружении нескольких маленьких озерков стоял город Лохмейбен, достаточно большой по тем меркам и процветавший своей торговлей и ремёслами. Рядом высился старинный лохмейбенский замок. Именно в нём за несколько дней до злополучного сражения у Солвей-мосс собиралось шотландское войско, в котором был и Роберт Бакьюхейд со своим отрядом. То было за десять лет до начала нашего рассказа. Ныне же с Англией уже второй год как заключён был мир, и потому с притоком торговцев и покупателей из английской провинции Камбрии городской рынок стал ещё более оживлённым. Хотя и не всё ещё было спокойно в Пограничье, и дерзкие бароны не оставили свои разбойничьи рейды. Даже в мирном договоре, заключённом между двумя королевствами годом ранее, прописано было, дабы шотландцы и англичане, обитатели граничной области не пересекали границу ни ради торговли, ни с иными целями без специальных разрешительных грамот, во избежание ссор и неурядиц. Но разномастные торговцы и коробейники были народ рисковый и ради барышей всячески обходили подобные запретительные указы. Да поди уследи за сотнями дорожек и тропинок, ведущими с юга на север через запутанные лабиринты холмов и ущелий. Как бы то ни было, несмотря на все опасности и запреты, торговля между двумя странами велась… Лохмейбен был одним из таких городков, на рыночной площади которого можно было встретить и бойких коробейников с юга, торгующих нарядным тканями, платьем и убранством, и грубых скототорговцев с севера, предлагающих отменных телят из Ланаркшира и Ангуса. Тут же находилось несколько таверн и постоялых дворов, а их хозяева готовы были предложить путешествующим ночлег и трапезу в соответствии с их чином и средствами.
Через несколько дней после событий, описанных в предыдущей главе, с одного из таких постоялых дворов неспешно выехали два всадника. Один из них был чуть старше своего совсем юного компаньона. Правда, кроме возраста и масти лошадей нельзя было найти больших различий между двумя товарищами. Старший из спутников, на перевязи у которого грозно висел палаш, ехал на вороном коне, по бокам которого слегка похлопывали свисавшие с хребта дорожные сумки из бычьей кожи. Его младший сотоварищ, вооружённый кинжалом и дубинкой, управлял рыжеватой кобылой, которая тоже не избежала участи быть увешанной багажом. По неброской одежде, состоявшей из тёмных курток без какой-либо отделки, надетых поверх сорочек из грубой ткани, небрежно наброшенных шерстяных шапок, низких сапог со стальными шпорами можно было предположить, что это слуги какого-то зажиточного лэрда или богатого торговца, направлявшиеся куда-то по поручению своего хозяина. Не проехав и нескольких ярдов, младший из путников живо соскочил с лошади и сообщил другому:
– Ей-ей, господин, ежели я не подтяну ремни вашего багажа, то у бедного Идальго скоро бока будут болеть, как спина у того несчастного, которого давеча на площади у креста кнутищами хлестали за то, что он в харчевне платить за съеденное и выпитое отказался – деньги у него якобы из карманов воры вытащили. Ну и плут же!
– Так может у бедняги и в самом деле украли выторгованные им на рынке за свой товар монеты, да и одежда-то на нём вроде пристойная была – не как у попрошаек и прочих мошенников, – возразил старший товарищ, тоже спустившись на землю и помогая укрепить кладь на своём коне.
– Ха-ха, как бы ни так! Богатый плюмаж на шляпе ещё не делает дворянином, а ежели на ком-то сутана напялена, это не значит, что он монах. А тот тип к тому же, покуда его к центру площади тащили, поначалу вопил как корова перед забоем, указывая на свою куртку, что, дескать, там его денежки лежали, а как с него куртку-то с рубахой сорвали, чтоб отхлестать, стал хвататься за штаны и причитать, что воришки оттуда, мол, монеты вытащили. Ясное дело – брехал он. Ей-ей, вот ведь взаправду говорят, что у заядлого вруна память должна быть отменная.
Укрепив кладь и проверив подпругу, молодые люди продолжили путь. Так далеко на юг они никогда дотоле не заезжала, а потому всё здесь для них было непривычно. Холмы не казались такими высокими. Меньше было лесов и густой растительности, зато больше пашен, пастбищ и пустошей. Селения были населённей и стояли чаще. Дороги были непривычно многолюдны: крестьяне, ремесленники, торговцы, посыльные спешили по своим делам.
Читатель, конечно же, догадался, кто были эти два молодых путника. На следующее утро после того, как Ронан улизнул из под самого носа Фулартона и гвардейцев регента, бойкий мальчишка беспрепятственно покинул замок, ибо посты были уже сняты и солдаты со своим капитаном вынуждены были ретироваться несолоно хлебавши. По наставлению, полученному от барона Бакьюхейда, мальчишка добрался до Лохмейбена, где и разыскал на одном из тамошних постоялых дворов поджидавшего его там Ронана, которому он должен был составить компанию в путешествии в английское графство Дербишир. Обо всём этом было наперёд договорено той ночью в подвале под замковым амбаром, когда отец и сын обсуждали план избавления Ронана от преследований регента. И вот теперь, после удачного осуществления этой задумки молодой господин и его слуга были на пути в северные английские области.
Не сладко было на душе у Ронана. Чело его было омрачено беспокойством и он с горечью размышлял, как лишь за несколько дней всё переменилось в его жизни. Из школяра и наследника баронства он превратился в изгнанника, преследуемого управителем королевства. А его добросердечный и мудрый наставник бесследно исчез и, может статься, сгинул в темнице, умерщвлённый по велению Гамильтонов. Чувство жалости к благочестивому старцу пересиливало у юноши тревогу за свою собственную судьбу. А опасаться было чего, ибо покуда он находится в земле, где властвует регент, над ним довлела смертельная угроза. Ежели поначалу он простодушно надеялся отдаться во власть регента и поклясться ему в своём неведении, то исчезновение Лазариуса и доводы отца заставили юношу понять серьёзность своего положения. И вот сейчас, гонимый опасностью, он вынуждён был искать укрытие и спасение в чужой незнакомой стране.
В отличие от своего господина настроение у Эндри было отменное. Ещё бы, ведь ему предстояло интересное и увлекательное путешествие в южное государство, где, рассказывают, текут реки с кисельными берегами, а на сочных лугах пасутся тучные стада и все живут в довольствии и беспечально. «Врут, небось, – думал мальчишка. – Кабы всё у этих англичашек было бы так славненько и хорошо, они б не польстились на наши бесплодные торфяники и дикие горы. Вот любопытно-то будет поглядеть, как у них на самом деле всё обстоит».
– Мастер Ронан, а правду говорят, что в Англии есть такая диковинная башня, на которой крутится стрелка и указывает время? – спросил Эндри.
– Что ты говоришь? – очнулся от беспокойных дум Ронан. – Ах, стрелка, время… Про то, есть ли такая башня в Англии, мне не ведомо – может есть, а может и нету, – но вот Лазариус упоминал, что в некоторых немецких и фламандских городах такие башенные часы действительно украшают фасады дворцов и ратушей. А в Париже даже иные чопорные вельможи подобные часы на золотых цепях на груди носят.
– Как! Башенные часы да на груди носят? Ей-ей, вы, верно, шутить изволите, хозяин! Да как такое может быть-то? Они ж, поди, тяжеленные!
– Ну, я полагаю, те часовые механизмы, что на себя кичливые господа напяливают, будут не тяжелее кирасы. Лазариус рассказывал, будто главное назначение таких наперсных часов для чванливых щеголей это себя разукрасить и повыше нос задрать. Часы те ведь изготовляют в форме всяких красивых зверей, книг да ангелочков.
– Ха-ха! Вот умора-то! – развеселился Эндри. – Представляю этих неуклюжих расфуфыренных хлыщей с огромными изваяниями на груди!
Ронан тоже улыбнулся, хотя упоминание о Лазариусе вызывало печальные мысли. Но мальчишка тут же сообразил и рассказал несколько забавных историй: одни были взаправдашние, другие услышанные им среди людей, а иные вовсе придуманные, дабы развеселить своего хозяина. У паренька в запасе находился целый арсенал всевозможных анекдотов и баек – на все случаи жизни, и пересказ только тех из них, которые прозвучали в тот день, занял бы у нас не одну главу.
Было бы неправильно полагать, что от меланхолии Ронана не осталось и следа. Однако же, благодаря весёлому балагуру Эндри на сердце его мало-помалу стало легче и он продолжил путь в более радужном настроении. И лишь изредка затенявшее его лик облако задумчивости говорило о том, что грусть и тоска не исчезли до конца, а лишь сокрылись в потаённых глубинах его души…
* * *
И снова на протяжении одной главы мы должны перенести повествование в другое место. Да и как иначе, раз все эти действия происходили в одни и те же часы?
Другой человек в это же самое время трусил на низкорослой гэллоуэйской лошадке и приближался к Стёрлингу. На его рябом лице читались следы озабоченности, но никак не страха и неуверенности. Хотя на нём была всего лишь скромная монашеская ряса, он уверенно держал путь к королевскому замку. И здесь, как и выше, читателю не представляет трудности узнать этого седока, ибо, разумеется, то был наш старый знакомец Фергал, который по велению регента возвращался к тому с последними вестями о событиях в аббатстве. А новость у него была только одна – исчезновение отца Лазариуса. И известие это Фергалу надобно было преподнести таким манером, чтобы не встревожить регента, и вместе с тем не обмануть его ожиданий. Но, по-видимому, он уже знал, как этого добиться, ибо держался спокойно и уверенно.
Самоуверенность молодого бенедиктинца чуть поослабла под влиянием величественности возвышавшегося на массивной скале королевского замка. Покуда монах поднимался к нему по длинной эспланаде, непривычное для Фергала ощущение собственной ничтожности начинало овладевать им. От ощетинившихся огромными зубцами каменных стен и башен веяло враждебным холодком. Ему казалось, будто вот-вот сверху выглянет укрывающийся там стражник и пустит в него стрелу или пальнёт из аркебузы. Из амбразур зловеще выглядывали жерла пушек. Высившиеся над стеной массивные врата с королевским гербом над опущенной решёткой ворот презрительно глядели свысока на приближающегося путника. А стоявшие по бокам ворот полукруглые башни с уходившими в небо конусообразными сводами напоминали дежуривших на страже грозных великанов-часовых. Монаху пришлось сделать над собой немалое усилие, чтобы сбросить оцепенение, вызванное надменным величием главнейшего из королевских замков.
Приблизившись к воротам, Фергал уже хорошо знал, как нужно разговаривать с привратниками, а потому не прошло и получаса, как он предстал перед самим герцогом Шательро, управителем королевства.
Ординарец регента, как и в прошлый раз, укрылся за портьерой. Так ему было сподручней выслушать Фергала, будучи при этом незаметным. Впрочем, скрытность всего его поведения как раз и заключалась, чтобы получать информацию и направлять действия регента в нужное русло, оставаясь при этом всего лишь неприметным ординарцем. В последние дни он чувствовал себя не в своей тарелке, потому как ему пришлось искать оправдания своей неудачной попытке убрать юнца Лангдэйла с прямой дороги славного герцога Шательро. А поскольку направление сего прямого пути во многом предуготовлялось добрыми и бескорыстными советами ординарца, то он, Фулартон из Дрегхорна, должен был позаботиться о том, дабы на этом тракте было как можно меньше глыб, валунов и камешков. Таким образом, ежели неудовольствие Шательро можно было смягчить витиеватыми речами, то беспокойство, касательно вероятия, что молодой Бакьюхейд поделится своими сведениями с недоброжелателями его господина, – и в первую очередь, с приверженцами профранцузской католической партии королевы-матери, – это беспокойство не давало ему спать и побуждало к активным действиям. Каждодневно и даже ежечасно его гонцы отправлялись во все стороны, дабы оповестить сеть шпионов и соглядатаев. Фулартону во что бы то ни стало требовалось проведать, куда подался Ронан и где скрылся, дабы следом укрыть молодца ещё подальше и желательно навечно. Более всего внимания ординарец уделил портовым городкам Лейту и Данбару, потому как полагал, что где ещё такой школяр как Ронан мог пожелать укрыться как не во Фландрии, известной своими университетами, или даже во Франции. Но весть о похожем юноше – на вид двадцати лет, статном, на вороном жеребце, – коей его разбудили под утро, пришла не из Эдинбурга, где проще простого было затеряться среди жителей, и не из Лейта и Данбара, откуда ежедневно уходили корабли через Немецкое море во Фландрию, а из самой вотчины всех графов Аррана, а нынче и герцога Шательро – городка Гамильтон. Пару дней назад молодой человек подобной наружности останавливался на постоялом дворе в Гамильтоне с целью дать отдых себе и коню. Фулартон, обрадованный известием и вместе с тем рассерженный такой задержкой, в гневе накричал на гонца. Бедный малый пытался было оправдаться запертыми на ночь вратами замка, ненастной погодой, плохой дорогой и потерянной его скакуном подковой, но клеврет Шательро уже забыл про него. Взбодрённый новостью, Фулартон тут же отправился к регенту и, покуда тот принимал утренний туалет, не преминул безотлагательно поделиться с Шательро вестью, а также своими соображениями касательно того, как перехватить юношу. Как раз во время этого разговора камер-лакей и доложил о прибытии отца Галлуса.
– А вот и наш подручный инок явился, – заявил ординарец. – Как кстати! Полагаю, он-то и поможет нам в сём досадном затруднении.
Ординарец обменялся с регентом несколькими фразами, после чего Фулартон скрылся за портьерой, а Джеймс Гамильтон велел впустить монаха. Когда тот вошёл – с видом смиренного слуги божия, в котором, однако, более читалось подобострастие перед господином земным, – Шательро без всяких преамбул сразу же с нетерпением поинтересовался:
– Ну, как обстоят дела в нашем аббатстве, монах?
– Ваша светлость, благодаря достославным и благочестивым Гамильтонам наша обитель процветает и остаётся надёжным оплотом веры.
– Слуга Божий, не благополучие монастыря меня интересует в сей час – никто не смеет сомневаться, что иноки Пейсли благоденствуют, находясь под покровительством нашего рода, – раздраженно продолжил регент. – Но нас беспокоит судьба одного старого монаха из монастырской братии…
– О, ваша светлость, я разумею, о ком вы изволите говорить, и должен вам поведать, что мы с отцом-настоятелем глубоко скорбим, ибо свеча учёности в Пейсли погасла под дуновением ветра вечности. Он воистину таким был праведником, что вознеслась не только душа его, но Господь забрал заодно с ней и тело, – молвил монах и склонил голову в траурном благоговении.
На лице регента промелькнула довольная улыбка, но он тут же её спрятал. На минуту воцарилась тишина, и можно было подумать, что сановник и монах воздыхают о почившем. В действительности же Фергал тревожился, как бы регенту не пришло в голову спросить, каким таким образом вседержитель вместе с душой умудрился забрать и тело, ибо тогда ему пришлось бы рассказать всю правду, а это бы вызвало лишнее беспокойство и неудовольствие управителя… Но на его счастье Шательро был озабочен совсем другим.
– Каждому воздастся по заслугам, – многозначительно произнёс регент. – Мы… то есть я, желаю поручить тебе дело большой государственной важности, отец Фергал, и от того, как ты с ним справишься, зависит будущность всего нашего королевства.
Бенедиктинец насторожился, но смиренно ответствовал:
– Я счастлив быть полезным вашей светлости любыми моими качествами. Хоть я лишь простой монах, обладающий малыми способностями к высоковажным деяниям, но всё же я всецело готов служить как нашей церкви, направляемой её пастырем архиепископом Сент-Эндрюсом, так и нашему королевству под управлением вашей светлости.
– Клянусь небесами, ты замечательно умеешь говорить, инок! Ежели бы все монахи в наших монастырях и священнослужители в наших церквях радели о процветании шотландского королевства, а не только лишь о своём благополучии, то среди нашего народа не возникла бы зависть к церковникам, а подчас и злоба, и к нам не проникли бы ростки скверной ереси… Однако же, вернёмся к тому важному поручению, кое мы… то есть я доверяю благочестивому монаху из обители Пейсли. Разумеешь ли, Фергал, оно потребует от тебя исключительной преданности и умения держать язык за зубами.
– Разве ваша светлость уже не имели возможность убедиться в моей лояльности?
– Тем не менее, то, что тебе предстоит, потребует ещё большей верности и усердия. Могу ли я довериться тебе и посвятить в государственные секреты?
– Клянусь святым распятием и девой Марией! Я буду хранить поверенную мне тайну, как знахарь бережёт секрет приготовления своих снадобий, – с учтивым поклоном ответил Фергал.
– Ну, что ж, ежели ты успешно справишься с этим делом, то тебя ждёт богатое вознаграждение, – посулил Шательро.
– Мне не нужно другой награды, кроме как милости вашей светлости.
– Я ценю твою иноческую скромность и невзыскательность, Фергал. Однако, про эту добродетель тебе придётся на время забыть.
– Ради исполнения поручения вашей светлости я готов забыть своих отца и мать, – ответил монах, подумав при этом: «Впрочем, я их и так не знал вовсе, хотя имя матери мне забывать негоже, оно-то мне ещё ой как пригодится».
– Ну, что ж, поговорим теперь о деле, – продолжил регент. – У королевской власти есть некие недоброжелатели…
«Это уж точно! И один из них сейчас передо мной», – подумал монах, а вслух вкрадчиво произнёс: – Смею предположить, что знаю некоторых лиц, коих имеет в виду ваша светлость.
– Ха, я гляжу, ты очень сообразителен, и это качество тебе скоро весьма пригодится… Так вот, они своими шпионскими действиями выведали тайные сведения, разглашение коих может принести большой вред всему государству.
«Скорее некоторым влиятельным её сановникам», – ещё одна реплика промелькнула в голове молодого монаха. Но он продолжал почтительно внимать регенту.
И Джеймс Гамильтон, герцог Шательро поведал брату Фергалу в общих словах, что тому предстояло сделать…
– Помни, монах, – добавил регент, – любые средства и способы, кои тебе придётся задействовать во исполнение сего поручения, будут оправданы возвышенностью цели. Я уверен, что Господь Бог в лице моего брата архиепископа простит тебе все согрешения, коими, не исключено, тебе придётся отяготить свою душу. Помни же: то, что ты будешь делать, ты будешь свершать во имя величия и процветания нашей державы.
Фергал стоял перед Шательро, учтиво склонив голову к груди, и рассуждал про себя: «Святошу из себя строит! Вот у кого хорошо фарисейскому искусству поучиться. Что ж, так буду же ему прилежным учеником! Мне это умение теперь весьма понадобится».
– Да, кстати, Фергал, – вспомнив что-то, продолжил регент, – ежели наши предположения верны и тебе в самом деле придётся пересечь границу английского королевства, и в том случае, ежели у тебя возникнут некие затруднения там, на юге, попытайся разыскать Томаса Толбота, одного из сыновей графа Шрусбери. Нам известно, что сей молодой человек – надо заметить, чересчур любознательный и деятельный, – является верным адептом римской церкви и горит огромным желанием восстановить католическое вероисповедание в Англии. Он приближённый вельможа принцессы Марии Тюдор. И ради поддержки со стороны шотландской церкви он готов оказать нам небольшие услуги. Полагаю, его можно будет разыскать при дворе упомянутой мной высокородной леди и использовать фанатическую ревностность сего юноши в наших целях…
– Ваша светлость, хотя мне и не доводилось путешествовать столь далеко на юг как Англия, – молвил Фергал, – но в угоду шотландским повелителям я готов стойко переносить все тяготы и опасности пути.
– Тебе будет легче справиться со всеми трудностями при помощи вот этого, – и регент протянул монаху вышитый цветными шёлковыми нитями кошель, под завязку набитый золотыми монетами. – И возьми ещё этот перстень. Он откроет перед тобой двери моего замка Кэдхоу, а также будет пропуском вплоть до Пограничья. Однако, не вздумай нас обмануть, инок. Иначе тебя может ждать участь, уготовляемая ныне другому.
Фергал умело изобразил испуг на своём лице, перекрестился и сказал дрожащим голосом:
– Клянусь кровью христовой, что до гроба останусь верным слугой вашей светлости.
– Доброго пути тебе, отец Фергал. И начни свой путь с Гамильтона, ибо в этом городе несколько дней назад был замечен злодей. Я тешу себя надеждой, что минует не слишком много времени, как ты снова предстанешь передо мной, дабы востребовать своё вознаграждение за выполненное поручение… А теперь ступай, благочестивый монах, – напоследок молвил регент, однако про себя подумал: «Впрочем, у этого малого слишком непростое и даже, наверное, в чём-то лукавое лицо. По-видимому, он догадывается о большем, нежели ему было сказано, и знает свыше, чем говорит. Пожалуй, будет лучше, ежели не только молодой Бакьюхейд, но и эта бестия Фергал навсегда исчезнут из этих краёв».
Когда Фергал удалился, из-за портьеры появился Фулартон.
– Я надеюсь, мой лорд, что монах правильно уразумел ваши инструкции, хотя и высказанные в общих чертах.
– А ты как думаешь, сэр ординарец, мог ли я открыто перед иноком из себя злодея изображать? Судьба какого-то там баронского сынка меня волнует лишь по той причине, что она связана с судьбой государства… Кстати этот Фергал показался мне смышлёным малым, не лишённым лицемерия. Для подобных деяний как раз такие людишки и нужны. Почему-то мне представляется, что он лучше сообразит, каким способом с поручением справиться, и в одиночку свершит то, что ты не смог сделать с помощью целой армии головорезов.
Регентский ординарец предпочёл промолчать. Да и что он мог возразить против подобного упрёка?
А у окрылённого успехом молодого монаха, когда он покинул покои управителя, на уме были свои мысли, которые также, подобно и регентским, были далеки от доброжелательности:
«Ой-ля-ля! Однако ж, мне ужасно повезло! Отныне я владею регентским дозволением – и даже повелением – расправиться с Ронаном Лангдэйлом… И здорово же у меня получилось на него подозрение регента навести! Но что станется, ежели юнец в Англию удерёт?… Да ну и пусть! Я везде этого молодчика отыщу. И даже то вознаграждение и милости, которые мне регент посулил, не сравнятся с тем, что я заполучу, когда у проклятого барона Бакьюхейда не останется наследника! Видно, Господь Бог, если он и в самом деле сидит на небесах, желает, чтобы я самолично свёл с тобой счёты, дорогой мой Ронан. Эх, хоть и виноват ты лишь в том, что являешься Бакьюхейдовым отродьем, но ничего не поделаешь – детям часто за грехи отцов приходиться расплачиваться… А тебе, ведомо мне, охота по душе, ну так давай же поохотимся, только теперь охотником стану я, а дичью – ты».
Глава XVIII
Овадия Гокроджер
Ронан со своим слугой проехали уже немало, солнце стояло в зените и ничто не говорило о том, по чьей земле, английской или шотландской, стучали копыта их скакунов. Путники перестали попадаться, и не у кого было осведомиться, верный ли путь они держат.
– Смотрите, ваша милость, дорога впереди, похоже, раздваивается, – озадачено сказал Эндри. – Ума не приложу, в какую сторону надо бы свернуть.
– А тебе не кажется, что там, на развилке в тени большого вяза сидит некий человек? Мы подъедем к нему и поинтересуемся, куда ведёт каждая из дорог.
– Ей-ей, и в самом деле кто-то оседлал большую коряжину и восседает на ней как король на троне. Ха-ха, да он мне кого-то напоминает, мастер Ронан.
– Неужели у тебя есть знакомцы в этих краях?
– Не, спознаться мне близко ещё ни с кем не довелось, а вот насмотрелся уже вдоволь. А потому и больно уж сомневаюсь я, что от той личности на коряге мы добьёмся честного ответа.
– Что же заставляет тебя так думать, дружок?
– Да вы разве сами не узнаёте того человека, ваша милость?
– По-моему он похож на простого торговца или разносчика товара, каковых мы уже множество повидали нынче на пути, да и давеча в Лохмейбене. Вон, и короб рядом лежит.
– Эх, мастер Ронан, да это же тот самый плут, коего вчерась на площади взгрели как следует!
– Вот как! Так это вчерашний бедолага. Мне, право слово, было его несколько жаль… Что ж, за неимением другого указателя пути придётся поспрашивать о дороге этого человека.
Путники направили лошадей к человеку, сидевшего на причудливой формы коряге и жадно уплетавшего ломоть хлеба.
– Эй, уважаемый, – крикнул Ронан, – не будешь ли ты так любезен, поведать нам, куда ведёт каждая из этих дорог?
Молодым людям пришлось подождать, покуда давешний страдалец не прожуёт до конца лепёшку, так велик был его голод. И лишь после доброго глотка из своей фляги тот поднял голову. Загорелая и обветренная физиономия пройдохи, как его назвал накануне Эндри, напоминала флюгер на коньке крыши, потому как ежесекундно меняла своё выражение. За те несколько мгновений, пока он молча и оценивающе глядел на путников, осмелившихся потревожить его незамысловатый обед, на простом с виду лице, ещё далеко не старом, попеременно можно было прочесть лёгкую тревогу, капризное недовольство, явственное любопытство, обмозговывание чего-то и, наконец, тень удивления, вероятно, своей смекалистости.
– О, я с удовольствием удовлетворю ваше любопытство, добрые странники, также как и вот эта лепёшка утоляет мой голод, – дружелюбно отвечал незнакомец. – Но… – и он вдруг замялся в нерешительности.
– Но? – повторил Ронан. – Что же смущает тебя, приятель, в вопросе, звучащем на всех перекрёстках мира и на всех языках?
– Я мог бы правильнее ответить на ваш вопрос, благородный юноша, ежели бы знал, э… куда вы держите путь. Потому как в одно и то же место можно добраться разными путями. А кто ещё лучше знает дороги доброй Англии, как не странствующий фокусник Овадия Гокроджер, к вашим услугам!
– Однако же с чего ты взял, любезный, что я рождён не простолюдином, раз называешь меня благородным?
– Ей богу, сэр, я прошёл всё английское королевство с юга до севера, от Корнуолла до Нортумбрии и даже чуть дальше – чёрт меня дёрнул забрести к этим шотландцам! – а также пересёк наш славный островок с востока до запада, от Канала до Ирландского моря, и встретил на своём пути тысячи людей различных рангов и сословий, бедных и богатых, жадных и расточительных. И мне ли не отличить смерда от джентльмена, а слугу от господина, даже если они и одеты словно братья?
– Право слово, неужели тебе знакомы английские дороги до такой степени, как ты о том хвастаешь?
– Можете не сомневаться, сэр! Клянусь бубновым королём, что могу с закрытыми глазами дойти от Ньюкасла до самого Плимута, от Твида до горы святого Михаила.
– Однако, сдаётся мне, сэр фокусник, – по привычке беззастенчиво встрял в разговор Эндри, – что в отличие от английских с шотландскими дорогами вы знакомы не очень-то хорошо, коли они привели вас к таким неприятностям.
– Каким таким неприятностям? О чём ты глаголешь, отрок?
– Да о тех самых, сэр ловкач, из-за каковых вы как истукан на коряжине уселись, прямо как петух на насесте, заместо того, чтоб блаженно о ствол дерева облокотиться.
– Мальчик, ты всегда говоришь такими загадками и морочишь голову честным людям?
– Не, сэр фокусник. Задавать загадки и показывать различные обманные трюки это по вашей части. А мне выпадает лишь ходить на представления. И одно из них я видел давеча в Лохмейбене.
Бродячий артист насторожился, а Ронан не мог спрятать улыбки. Его слуга тем временем продолжал с задором:
– Хотите, я вам всем один фокус покажу?
– Это какой же такой фокус, ты, несмышлёный мальчишка? – насупился тот, кто называл себя именем Овадия Гокроджер.
– Да самый простецкий! Как человек может визжать и скакать от одного лишь дружеского похлопывания по хребту, – ответил Эндри и как ни в чём ни бывало подошёл к фокуснику дабы исполнить своё намерение и притронуться к спине Овадии.
Бродячий артист вскочил на ноги как шальной и закричал неожиданно визгливым голосом:
– Э-эй, не смей прикасаться к моей персоне, нахальный юнец! Иначе вся магия волшебного мастерства покинет меня, – затем, обернувшись к Ронану, взмолился: – Ваша милость, не позволяйте этому фигляру дотрагиваться до меня.
Ронан уже вдоволь насладился разыгравшимся на его глазах представлением, а потому решил сжалиться над их новым знакомцем.
– Сэр трюкач, по правде говоря, мы имели честь наблюдать и не далее как вчера представление с вашим участием. Однако же, давеча ты, приятель, показывал фокусы иного рода и весьма неприглядного характера.
– Ах, вы про это досадное недоразумение, – ответил погрустневшим голосом враз сникший Овадия Гокроджер.
– Как же тебя угораздило попасть в такую переделку?
– Эх, – горько вздохнул фокусник. – Видите ли, сэр, это всё из-за моего чрезмерного любопытства, будь оно не ладно. Пока между двумя державами велись военные действия, я держался подальше от беспокойных пограничных районов, благо в Англии хватало простого люда, для которого моё мастерство было сродни чародейству, за что он и платил свои денежки. Но вскоре после того, как был заключён мир, ко мне явился демон-искуситель в образе торговца галантерейным товаром и прочими женскими побрякушками. Он-то и уговорил меня пойти с ним в Камбрию и дальше на север, дескать, ежели шотландки любят в косы ленты яркие вплетать, то почему бы их мужам не поглазеть на дивные штуки, что я вытворять умею. Да мне и самому было любопытно на новые земли поглядеть и искусство своё показать. Авось и заработать можно будет неплохо, думал я. А как мы оказались по ту сторону пограничья, мой сотоварищ принялся по замкам и богатым домам ходить, свои блёклые ленточки и кривые зеркальца продавать, про меня напрочь забыл, а вскоре и вовсе куда-то пропал. Я же стал на ярмарках и площадях представления устраивать. Только к моему несказанному удивлению, а ещё больше к неприятному огорчению местный народ оказался бедный, скупой и недоверчивый. Старухи мои фокусы дьявольскими проделками обзывали и детишек своих от моих представлений отгоняли, а взрослые меня обманщиком кликали, а раз даже гнилыми яблоками и грушами забросали. Помыкался я в этих землях, проклял всё на свете и горько пожалел, что в такие края подался, где сплошь одни неверующие скептики и прижимистые скряги обитают. Эх, и тёмные же люди эти шотландцы. Показывать мои чудесные фокусы перед ними равно, что бисер перед свиньями метать. Плюнул я на всё и побрёл обратно в весёлую и добрую Англию, где люди по-настоящему умеют веселиться, а не задавать глупые вопросы что да как и пытаться объяснить друг другу, как я свои фокусы делаю…
– А как ж получилось-то, о великий английский фокусник Овадия Гокроджер, – опять влез в разговор неутомимый Эндри, – что у вас расплатиться за простую шотландскую еду вдруг деньжат не нашлось?
– Да потому что все меня в тех краях, каковые я, слава богу, уже покинул, обидеть норовили, редко кто сжалился бы и бросил монетку несчастному фокуснику, и жил я последние дни почти впроголодь. Вот и ты, фигляр юный, надо мной всё насмехаешься. А я-то ведь в иные времена перед знатнейшими английскими вельможами показывал свои феерические трюки, все восторженно смеялись и рукоплескали, карман мой никогда не бывал пуст, а живот не сводили голодные судороги… Будь проклят тот чёртов галантерейщик, что увлёк меня в дикие шотландские земли. Вот ежели встречу его, я ему ещё не такой трюк покажу.
– Так ты не ответил нам, куда ведут эти две дороги, – напомнил Ронан.
– О, юный сэр! Я рассказал вам более того – я поведал, можно сказать, всю историю моей жизни. А вы даже не изволили упомянуть, куда лежит ваш путь, дабы я мог наилучшим образом помочь и задать верный курс вашему кораблю, – возразил Овадия.
– Вряд ли наша история заинтересует тебя, приятель. Она не изобилует столькими странствиями как твоя бродячая жизнь. Но раз ты утверждаешь, что прекрасно знаешь английские дороги, то подскажи, какое из этих двух направлений нам выбрать, чтобы попасть в графство Дербишир.
– Дербишир! О, какое чудесное совпаденьице! Я ведь направляюсь в Йорк, чтоб проведать некоторых моих безбедных родственничков и разжиться деньжатами, а оттуда отправлюсь прямо в Лондон, сей державный город, прибежище всех великих творцов, художников, поэтов и артистов, таковых вот как я. Там-то уж люди искусства никогда голодать не будут.
– А в чём же здесь ты видишь совпадение, милейший?
– Так ведь Дербишир лежит как раз на полпути из моего родного Йорка в Лондон! Ежели вы готовы, добрый сэр, задержаться на пару дней в Йорке, то я с удовольствием буду вашим проводником до самого Дерби или Ноттингема, как вы изволите, – разумеется, за некоторое вознагражденьице.
– Хм, пожалуй, мы не слишком спешим и времени у нас достаточно, – поразмыслив, ответил Ронан и вполголоса спросил у своего слуги: – Как полагаешь, Эндри, не помешает ли взять провожатого по этим чуждым и незнакомым нам землям?
Мальчишка сделал кислую мину и пожал плечами. Овадия Гокроджер ему почему-то не понравился, а отчего он и сам не мог уразуметь. Может статься, презрительное отношение к соплеменникам Эндри и неприязнь к его родине, а может излишняя кичливость и лукавая физиономия, но что-то в трюкаче было не по душе парнишке и вызывало у него безотчётную неприязнь. Подкрепило её и то обстоятельство, что после того, как Ронан договорился с фокусником о плате и прочих условиях временного найма последнего, Эндри периодически должен был теперь идти пешком, уступая свою лошадь время от времени новоявленному провожатому, который не прятал своего удовольствия, залезая на неё, и свою неохоту, с которой он вновь возвращал кобылу прежнему владельцу.
Таким манером остаток дня скитальцы двигались, руководствуясь указаниями Овадии Гокроджера, который и в самом деле, поначалу казалось, довольно-таки неплохо ориентировался на местных дорогах. Однако, он не упускал случая потихоньку осведомиться о дороге у встречных путников или у местных фермеров. Видимо, его хвалёное знание английских дорог было, скорее всего, ограничено путями сообщений между основными городами, а может и того меньше, о том мы сказать не можем. Заночевав на каком-то захудалом постоялом дворе, на следующий день маленький отряд вышел на большую, тянувшуюся с запада на восток дорогу. За полмили до этого Эндри удивлённо воскликнул:
– Смотрите-ка, какая необычная каменная стена проходит по гребню холма! Ни городов рядом, ни другого жилья. Широченная, футов в шесть – пушкой не пробьёшь, а такая приземистая – ребёнок перелезет. Чудно…
– Полагаю, это южная римская стена, – ответил Ронан. – Про неё мне давным-давно отец Филипп рассказывал, что воздвигли её римляне при императоре Адриане, дабы защититься от набегов пиктских племён, населявших тогда Шотландию. Это ныне она так невзрачно выглядит. А вы вообразите мощную стену в двадцать футов высотой, с укреплёнными фортами вдоль всей её длины от Ирландского моря до Немецкого, с грозными, вооружёнными до зубов римскими легионерами в сверкающих металлических панцирях и гребенчатых шлемах, в разноцветных туниках, патрулирующими её поверху и высматривающими, не появился ли с севера, из-за холмов на горизонте враг.
– Да когда это было-то, сэр? – иронично заметил Овадия. – Впрочем, был бы я английским королём, приказал бы вновь её, стену эту, выстроить.
– Это зачем же, Овадия Гокроджер? – спросил мальчишка.
– Да чтобы иные неразумные англичане не могли в северные земли случайно забрести, дабы в неприятности там на свою голову не вляпаться, а главное, чтоб прочие фигляры и насмешники с той стороны по эту, в добрую Англию не могли проникнуть.
– Ей-ей, да что для них какой-то английский заборчик, это как для телёнка кротовина!
– Ну, ты скажешь тоже, маленький нахалёнок! Я ещё не видывал такого трюкача, который смог бы через двадцатифутовую стену перескочить, – не сдавался Овадия.
– Тогда посмотри на него! – и раззадоренный мальчишка выпятил грудь.
– Кто, ты, жалкий шотландский пигмей? Ха-ха-ха! Ты, знаешь ли, удивительно наглый плут.
– Да лучше быть шотландским пигмеем, чем английским боровом!
Подобные разговоры явно были не по нраву Ронану, и он вознамерился решительно прекратить заходившую всё дальше и дальше перепалку между слугами, твёрдо сказав:
– Овадия Гокроджер, ежели тебе не нравится путешествовать в компании шотландцев, каковыми являемся я и мой слуга, то я тебя не вправе держать, ты вольный человек и можешь идти своей дорогой. А ты, Эндри, попридержи-ка свой острый язычок, он тебе ещё, думаю, пригодится в более подходящий момент, и не забывай, что мы здесь чужестранцы и если уж и придётся лаять, то делать это должны будем по-английски. Словом, я не могу позволить одному дьяволу грызться с другим, как говорит старая поговорка.
Фокусник и паж притихли и задумались.
– Ваша милость, – извиняющимся тоном молвил, наконец, Овадия, – простите мои недобрые слова, вызванные всего лишь чувством обиды. Вдобавок, этому мальчишке видимо пришлось по душе глумиться над несчастным факиром. Клянусь дамой треф, не скажу больше ни слова супротив вашей страны и всех шотландцев взятых вместе и по отдельности! Только вот пускай этот юнец пообещает не дразнить меня.
– Овадия, Эндри, – торжественным тоном сказал молодой джентльмен, которому явно по душе была роль миротворца, – я хочу, чтобы вы подали друг другу руки и забыли ваши нелепые раздоры… Ну же…
Мальчишка стоял насупившись и смотрел исподлобья. Овадия, сидевший в это время на лошади, тоже глядел неохотно. Никто не хотел сделать первый шаг.
– Вы, строптивые слуги, я приказываю вам! Эндри, коли ты не хочешь снова вернуться в Крейдок, а ты, Овадия Гокроджер, ежели желаешь остаться моим провожатым, пожмите друг другу руки и немедля. Иначе, с божьей помощью, я продолжу путь один, с презрением вспоминая вас обоих.
Ронан глядел строго и непреклонно, готовый непременно выполнить свою угрозу, если ему не подчинятся.
– Ваша милость, – молвил наконец мальчишка, – ради того, чтоб следовать за вами, я готов смирить мой неукротимый норов… Вот тебе моя шотландская рука, Овадия Гокроджер.
– А вот английская, юный озорник, – ответил фокусник,- однако, ежели ты…
– Всё, всё, всё, ни слова более! – воскликнул молодой Бакьюхейд. – Я вижу впереди большую дорогу, в которую упирается наша тропа. В какую сторону нам сворачивать, Овадия?
– О, юный джентльмен, мы вышли к дороге, которая тянется вдоль остатков римской стены и она выведёт нас прямиком к…, дайте-ка подумать…, по ней можно доехать до Хексэма, ежели вовремя через Тайн переправиться. Но ежели у вас нет большой охоты посещать этот городок, то мы проедем через Экум и затем упрёмся в дорогу, которая тянется на юг до самого Йорка.
– А может быть, заглянем в этот, в Хексэм, а, ваша милость, – поклянчил Эндри. – То, чай первый английский городишка на нашем пути! Ужасно интересно, чем он, к примеру, от Стёрлинга или Лохмейбена отличается.
– А ведомо тебе, чем знаменит сей Хексэм, Овадия? – спросил Ронан.
– Хексэм-то? Фи, городок как городок. Самое большое здание, помнится, это приходская церковь с крышей, выложенной свинцом. Раньше там монастырь был, покуда славный Гарри, отец нашего юного короля, всех монашков не разогнал. А во времена моего прадеда, когда Белая и Красная Розы дрались, здесь большое сражение случилось и ланкастерский цветок, герцог Сомерсет проиграл битву и распрощался со своей головушкой на плахе на рыночной площади этого самого Хексэма.
– Что ж, – подумав, сказал Ронан, – мы, пожалуй, сделаем небольшой крюк и навестим этот городок. Время нам позволяет это сделать.
– Как будет угодно вашей милости, – ответил послушно проводник, на самом деле не имевший ничего против того, чтобы провести лишний досужий денёк за счёт своего нанимателя.
Ближе к концу дня путники миновали мост через реку Тайн и прибыли в Хексэм. Город угрюмо возвышался на холме и встретил странников массивными городскими воротами на середине склона. Позади ворот и городского вала темнели мокрые от дождя крыши домов, над которыми господствовала кровля аббатства с башней.
С утра Ронан отправился рассматривать старинный собор снаружи и изнутри, а Эндри с Овадией развлекали себя праздной болтовней с местными торговцами и их покупателями на рыночной площади. Фокусник, помня давешнее обещание, помалкивал о своих ещё не забытых злоключениях и не высказывал никаких суждений о недавно покинутой им стране и её обитателях. Мальчишка также, не имея повода придраться к сотоварищу и помня про гнев своего хозяина, был приветлив и спокоен…
За ужином наши путешественники снова собрались вместе. Стоит напомнить, что в те далёкие времена слуги зачастую вкушали за одним столом со своими господами.
– Ну, так что же, какие впечатления от английского городка? – молодой джентльмен поинтересовался у Эндри.
– Ну, если сказать по правде, мастер Ронан, то я, это… разочарован, вот, – с недовольным видом заявил Эндри. – У нас в Хилгай толковали, якобы в соседнем королевстве всё что ни взять лучше и добротнее. А я глянул: равно, всё то же самое и есть. Люди такие все усталые, понурые и не выспавшиеся, будто целую неделю строгий пост держали и притом без сна тяжко трудились, да и одеты весьма похоже. А на рыночной площади торгуются, ругаются и за волосы друг друга таскают, ну прямо как на ярмарке в Стёрлинге. Такие же тощие лошадки на площади привязаны, такие же голодные псы по улицам рыщут и на чужаков рычат… Не, не нравятся мне эти края.
– А ты что же, молодец, думал рай здесь встретить? – спросил Овадия. – Всё одно везде: вельможи и сановники пируют и развлекаются, а бедняки горб гнут и если с того пиршества кусок не урвут, то так и будут всю жизнь едва концы с концами сводить… Вы уж простите меня, ваша милость, что я так откровенно говорю.
– В чём-то ты прав, приятель, – сказал Ронан, – но некоторые твои суждения просто наивны и нелогичны. Мне не пришлось ещё повидать столько краёв и людей, как тебе, бродячему артисту, однако же, у меня были отличные наставники – учителя и книги, в коих собрана вся людская мудрость. Полагаю, однако, что если начну тебе приводить доводы, высказывания мудрецов, строить логические выводы, то ты в них начисто запутаешься, как рыба в сетях рыбака.
– Вы, благородный юноша, видать, образованный человек и лучше знаете, как мир обустроен, ну а мне главное, чтоб вечером ждал сытный ужин и тёплая постель, а в кармане всегда денежки звенели. Бряцанье монет в кошельке согревает мою душу гораздо лучше, чем чтение мудрёных книг или же проповеди попов с их витиеватыми фразами и обещаниями загробного рая.
– И всё же и в тебе, Овадия Гокроджер, живёт любопытство к новым познаниям, – рассудил Ронан, – иначе ты бы не забрёл в наши северные края, пусть и с печальными для тебя последствиями… А я вот сегодня настоящее сокровище обнаружил! – восторженно заявил юноша. – И всего лишь за монету в полкроны, которую я в здешнем соборе на пожертвования отдал.
– Ух, ты! – изумился мальчишка с нескрываемым любопытством.
– Полкроны! На пожертвование! – воскликнул артист не без зависти. – Впрочем, откуда здесь сокровища-то? – протянул он. – Разве что вы нашли клад, закопанный последним аббатом. В таком случае я готов помочь вашей милости выкопать его целиком и полностью и перенести в безопасное место, – за некоторое вознагражденьице, разумеется. Вам же известно, что я человек бедный, особенно после моего злопамятного визита в шотландские земли.
– Я поинтересовался у приходского священника историей этого замечательного собора, – продолжал Ронан, не обращая внимания на реплики Овадии. – Он мне любезно намекнул, что ежели я во славу божью пожертвую его храму некоторую сумму денег, то смогу узнать некие тайны, кои хранят в себе стены сего древнего святилища. Это меня весьма заинтриговало и я, недолго думая, выложил полкроны. И не пожалел!
– Ну, верно, вы большие ценности нашли! – завистливо пробормотал артист.
– И огромные! Оказывается, под храмом находятся несколько мрачных склепов, о существовании которых изначально не знал даже священник. Вот что он мне поведал. Несколько месяцев назад к нему пришёл дряхлый старик, и сказал, что когда-то был ризничим в этом аббатстве, до того ещё, как всех монахов разогнали, и что он забыл здесь одну вещицу. Священник был не падок на чужое добро и позволил старику забрать то, что ему якобы принадлежало, хотя и предупредил, что в церкви едва ли сохранились какие-либо вещи от прежних августинцев. Но старик повёл священника в один из трансептов, нагнулся и с превеликим трудом отодвинул одну из плит на полу. Открылся ход в подземелье, о существовании которого в соборе никто и не подозревал. Старик попросил у священника лампу и смело спустился в подземелье. Прошло не менее получаса, прежде чем он снова ублаготворенный появился в проёме пола. В руках у него была маленькая ладанка, которая по его словам, содержала частичку мощей какого-то святого, привезённых в стародавние времена из святой земли. Старик поблагодарил священника и осчастливленный ушёл своей дорогой… Священник поведал об этом открытии местным властям, но их мало заинтересовало обнаружение какого-то старого подвала в бывшем монастырском здании. Очарованный этим рассказом, я попросил у священника дозволения осмотреть это подземелье. Он ответил, что не имеет ничего против. Таким образом, я был первым человеком, кто проник в это подземелье со времён монахов, ну и, конечно, старого ризничего. Я зажёг лампу и отодвинул указанную плиту. Из открывшегося проёма на меня повеяло холодом и дыхнуло затхлостью. Мне сразу же пришло на память моё недавнее укрытие в Крейдоке, но здесь было другое. Там я прятался от преследователей, здесь же я чувствовал себя первооткрывателем…
– Ей-ей, Мастер Ронан, и у меня чувство подобное было, когда я за орлиными яйцами на отвесные утёсы вскарабкивался, докуда никто передо мной не залезал, – сказал Эндри, слушавший рассказ своего господина с открытым ртом.
– Спрятанные сокровища искать это тебе, мальчик, не по скалам за птичьими яйцами лазить, – возразил Овадия.
– Ну, так вот, – продолжил рассказ Ронан, – добрый священник посоветовал мне не спускаться в эту преисподнюю и стал даже себя укорять за то, что мне про подземелье поведал и тем самым разбудил моё любопытство. Безусловно, я не послушал совета боязливого церковнослужителя и увлекаемый неизвестностью полез вниз. В подземелье друг за другом расположились четыре комнаты, которым больше название склеп подходит. Я обошёл все углы, но ничего интересного не обнаружил: там была старая монастырская рухлядь, уже изрядно истлевшие торжественные облачения аббата и прочих монашеских чинов, а также снесённые и спрятанные монастырские реликвии, кресты, распятия, подсвечники и другие принадлежности культа, не представляющие интереса в нынешние времена, разве что для старьёвщика. Но вдруг свет лампы упал на стену, на которой явственно были высечены буквы и слова на латыни, правда, уже сильно тронутые временем. Я присмотрелся внимательней и понял, что это не сакральные тексты из священного писания, оставленные благочестивыми монахами, а инскрипты времён нахождения здесь римлян, что случилось, как известно, около пятнадцати веков тому назад. Я разобрал несколько слов и понял, что речь идёт о некоторых римских императорах и их деяниях. У меня не осталось сомнения, что когда-то эти нынешние склепы были частью римских сооружений. Я попросил у священнослужителя бумагу и письменный прибор и тщательно записал все инскрипты. Полагаю, отец Филипп будет в восторге от такого пополнения своих архивов.
– Пятнадцать веков! Это ж сколько раз с тех пор солнце над землёй вставало? – озадачился мальчишка.
– Фу-ты ну-ты, всего-то лишь какие-то старые надписи на стенах, – разочарованно протянул фокусник. – И стоило из-за подобной чепухи в тёмный монашеский подвал лезть и в придачу золотую монету отдавать!
– Как ты можешь так говорить, Овадия! – воскликнул Ронан. – Разве тебе не интересно, что было в стародавние времена в твоей земле, какие народы здесь проживали и чем занимались те люди?
– С позволения вашей милости, ничуть. Меня более интересуют нынешние обитатели, ибо именно они глазеют на мои трюки и платят денежки за это несравненное удовольствие.
– Эх, Овадия Гокроджер, приземлённый ты человек. Ты ведь различные фокусы людям показываешь, кои в себе тайну таят, по крайней мере, для всех прочих. Их-то ты интригуешь, а самого ничего больше не волнует, кроме жалких монет.
– Осмелюсь поправить вас, юный джентльмен, – не монет, а их числа, стоимости и из какого они металла.
– Посчитал! Посчитал! – вдруг неожиданно закричал Эндри ликующим голосом.
– Что ты посчитал, сорванец? – осведомился Овадия с насмешкой в голосе. – Сколько мух по столу ползает? Ну-ну, так это не мудрёное дело.
– Да нет же! – ответил мальчишка и гордо продолжил: – Сколько раз солнце за пятнадцать веков над землёй поднималось, вот что я посчитал!
– Как, Эндри, неужели ты смог так быстро сделать такие сложные вычисления, и без бумаги, без чернил и прочих вычислительных приспособлений? – удивлённо воскликнул молодой Бакьюхейд.
– Ну, я, правда, не совсем уверен в их правильности, мастер Ронан. Но делал всё, как в той книге написано, которую вы мне три года тому назад подарили, где всё по десять берётся.
– Ну что ж, Пифагор, тогда запомни, что у тебя получилось, и как у нас под рукой перо и чернила окажутся, мы проверим правильность твоих расчётов, – ободряюще сказал Ронан смышлёному слуге.
– Да подумаешь, дни он посчитал! – возразил Овадия. – Велика наука! Кого этим удивишь-то? Да и кто за это счетоводство никому не нужное платить станет?
Но восторженному парнишке сарказм трюкача был нипочём. Ведь он справился с такой трудной задачей!
Не успели наши путешественники и их провожатый закончить трапезу, слегка затянувшуюся вследствие желания поделиться впечатлениями, как вдруг совершенно неожиданно у них над головами раздался громкий возглас:
– Ах, мошенник, вот ты где! Ну, теперь тебе, каналья, от меня не уйти, покуда мы с тобой не рассчитаемся!
Глава XIX
Галантерейщик
В таверну, где сидел Ронан со своими двумя слугами, вошёл некий человек, который, едва бросив взгляд на помещение и увидев фокусника, издал восклицание, которое закончило предыдущую главу и в коем явно было мало доброжелательных нот.
– Тесен наш мирок, Овадия Гокроджер, – угрожающе продолжил вошедший. – Теперь ты, сэр трюкач, никуда от меня не денешься, пока снова свой фокус не покажешь, только ныне уже наоборот: не с исчезновением, а с появлением. В противном случае, клянусь всеми шелками на свете, ты сегодня же окажешься в компании с такими же жуликами и шарлатанами, как и ты сам, ожидающими достойного наказания в местном узилище.
Набросившийся на бедного фокусника с такими угрозами человек был облачён в добротное одеяние, которое носили обычно путешествующие долгое время верхом люди и имевшие мирное занятие торговца или негоцианта. Приятное, располагающее и моложавое лицо его было искажено праведным гневом и одновременно злорадством.
Овадия поначалу опешил от такого наскока, на его физиономии на миг появилась растерянность и испуг. Но он тут же взял себя в руки и чинно ответил:
– Приветствую тебя, о Сэмуэль Харви! Я, право, полагал, что наше знакомство закончилось ещё в Шотландии. И, сказать по чести, я не желаю его возобновления. Ты уж извини меня, приятель. Я же в свою очередь не буду держать на тебя обиду и прощаю тебе все мои злоключения, в кои ты меня вовлёк. Ступай же с богом куда идёшь.
– Что! Да как ты смеешь так говорить? Ну, ты наглец из наглецов, Овадия! – говоривший чуть не задохнулся от возмущения, которое было явно не поддельным. – Я сжалился над бедным трюкачом, за простенькие фокусы которого мало кто готов был даже с фартингом расстаться. Я, видите ли, потащил его с собой в северную страну, где народ, говорят, любит всяческие небылицы, басни и прочую мистику, чтоб он там своим искусством у мнительных шотландцев суеверный восторг вызывал и из их кошельков деньги выколачивал. А он решил фокус мне самому показать! И это-то в благодарность за мою душевную доброту!
Овадия сидел насупившись, всем своим видом показывая, что ему больше не о чем разговаривать с торговцем.
– Ах! Опять фокус с исчезновением показываешь? На сей раз твой язык пропал, значит!… Ну что ж! Сейчас я приведу местного шерифа или бейлифа. Тогда и поглядим, как ты запоёшь, Овадия Гокроджер.
– Простите, сэр, – вмешался в разговор Ронан, – но в данный момент этот человек, которого вы невесть в чём обвиняете, находится у меня в услужении, а потому вы можете изложить вашу жалобу мне и я подумаю, как разрешить возникшее здесь недоразумение.
– Ежели этот плут находится у вас в услужении, молодой человек, то я могу только вам посочувствовать, Мастер э…
– Меня зовут Мастер Лангдэйл, к вашим услугам, сэр, – Ронан решил использовать фамилию своего старинного английского предка.
– А я прозываюсь Сэмуэль Харви, и извольте тоже прибавлять Мастер к моему имени. Я хотя и не принадлежу к сословию благородных джентльменов, но зато являюсь одним из самых уважаемых членов гильдии галантерейщиков славного города Йорка и веду дела Меркурия по всей северной Англии.
– Так извольте поведать, Мастер Харви, какие жалобы у вас на моего слугу, прежде чем набрасываться на несчастного человека, так много претерпевшего в последнее время, сколь мне ведомо, и грозить ему судебной расправой.
– Жалобы?! Чёрт возьми! Этот мошенник украл у меня целый соверен! Вы представляете, какая это ценность в наших-то местах! Это на юге, в Лондоне они золотыми монетами улицы мостят, а уж если фартинг обронят, то даже нагнуться и подобрать ленятся.
– А бывал-то ты в Лондоне, Сэмуэль, – вдруг спросил с иронией фокусник, – коли уж так уверенно про тамошнюю жизнь толкуешь? Везде ведь одно, уж поверь тому, кто всю Англию исходил, а напоследок послушал слов змея-искусителя по имени Харви и подался с ним на север.
– Я тебя силком с собой не тянул, Овадия! – возразил распалённый торговец. – Это две твои подруги, корыстолюбие и празднолюбие, тебя по всему миру водят.
– Ха-ха! – рассмеялся трюкач. – И это молвит какой-то коробейник, который всю жизнь только о барышах и печётся.
– Да как ты смеешь так говорить, чудодей бесталанный! – распетушился Сэмуэль Харви и заявил с честным и гордым видом: – Я уважаемый на всём севере негоциант. Меня даже магистратом Йорка избрать хотели.
– Послушайте, господа задиры, – прервал спорщиков Ронан, – мне, право слово, не интересно слушать ваши чванливые речи. Ежели вам есть, что поведать, Мастер Харви, то говорите уж прямо.
– Так я и толкую, сэр, и давно бы уж всё рассказал, коли этот Овадия Гокроджер изволил бы меня не перебивать и не подвергать сомнению мой авторитет и признанность… среди, так сказать, благороднейших кругов общества.
– Среди здешней знати и прочих богачей, – угрюмо сыронизировал фокусник, – кои простых людишек заставляют спину гнуть до земли самой и обдирают как липку, да среди аршинников подобно тебе самому, которые наживаются и на бедном люде и на богатом.
– Вот видите, Мастер Лангдэйл, – пожаловался галантерейщик. – В него ещё злой бес прекословия вселился.
– Овадия, попридержи-ка свой язык, – повелел Ронан. – Мне, право, кажется, что нет на свете такой сферы бытия, касаемо коей ты был бы полностью счастлив и доволен.
– Как изволите, ваша милость, – вздохнул фокусник. – Ежели вы желаете слушать всякий вздор и чепуху, а то и просто клевету этого типа, то, что ж, я не вправе вам мешать.
– Итак, Мастер Харви, я вас слушаю, – сказал молодой Бакьюхейд. – Поведайте обстоятельно, в чём кроется причина вашей неприязни к моему теперешнему слуге.
– Видите ли, сэр, пару месяцев назад, – начал торговец с искренним выражением на приятном лице, – вздумал я расширить земли, где веду дела, и обратил свой взор на север. Война вроде как прекратилась, ненасытные бароны пограничья утихомирились и стало поспокойней в тех землях. Оставил я приказчика в своей лавке в Йорке, собрал короб с различными изумительными товарами. Были в нём восхитительные пелерины и накидки с золотыми пуговками и петлями, кои так любят нынче благородные леди, дивные зеркальца и серебряные шпильки, попроще и отделанные жемчугом, ароматические флакончики с такими же благовониями, каковыми леди при самом королевском дворе благоухают, милые чепчики и различного вида батистовые кружевные воротнички и множество другого товара, коим прекрасные дамы так любят тешиться. Собрал я весь этот чудесный товар и решил себе спутника в дорогу подыскать: вдвоем всё же веселее да и безопаснее путешествовать. Заприметил я на рыночной площади одного фокусника, который своими простенькими трюками любопытных зевак развлекал, и уговорил его со мной пойти. В пути мы сдружились и, надо признаться, пропустили не одну кружку вина, пока до Дамфрис не добрались. Причём, заметьте, поил его я и торбу его моя лошадь на себе везла. Покуда я осматривался в городке, этот Овадия решил сразу же на площади представление устроить. Не знаю, как уж он там фокусничал, только вечером плакался мне и показывал три крохотные монетки, которые в Шотландии боби называют – всё, что он за день заработал, не считая шишки на лбу от запущенного кем-то в него камня. Как я выяснил у Овадии, он, покуда трюки показывал и похвалялся собой, что он де великий английский маг, и упомянул также, что когда-то при самом дворе английского короля фокусы показывал, за что его памятозлобные шотландцы и забросали в итоге камнями и гнильём всяческим. Тут он во всём стал винить меня. Представляете, сэр? Но разве ж моя в том вина, что мало того, что фокусник из него никудышный, так он ещё публику задирает? А я – честный торговец, с репутацией как у епископа Кентерберийского, состою в гильдии галантерейщиков славного города Йорка и меня по всему северу нашего королевства знают. Но мошенник стал доказывать и уверять, что фокусы показывать умеет он прекрасно, особенно с игральными картами и золотыми монетами. Причём чем больше ценность монеты, тем впечатлительней трюк у него якобы выходит. А я по простоте своей душевной выболтал, что есть у меня один соверен, который я выторговал у молодого барона Кокпула за шкатулку из слонового бивня с секретным замочком, которую он для своей леди купил. Ну и начал Овадия у меня клянчить тот соверен, будто бы он ему нужен на время, чтобы впечатлить публику своим трюком. Я попросил тогда показать сперва этот фокус мне. Плут взял мою монету, целый золотой соверен, завернул в шёлковый платочек, положил на стол и сверху колпаком прикрыл. Затем он сделал несколько пассов руками, одновременно бормоча какие-то шарлатанские слова невразумительные. Ну, и всё!…
– Что всё? – спросил недоуменно Ронан, в то время как Овадия сидел, сложив руки на груди и продолжая ухмыляться.
– А то, что я так больше и не видел никогда этого соверена, ибо этот мошенник поднял колпак и отдал завёрнутый платок мне, чтобы я сам его развернул, что я и не преминул сразу же сделать. Однако, вместо большой золотой монеты со святым Георгием в платке лежала жалкая крохотная боби34 с изображением цветка чертополоха! Уж не знаю, как он это сделал: то ли незаметно монету подменил – хотя я следил за всеми его движениями не отрываясь и готов поклясться, что ни одно шевеление его пальцев от меня не могло укрыться, – то ли он призвал на помощь самого дьявола. Как бы то ни было, а плут сидел ухмыляясь, вот так же как и сейчас, и сказал, что выполнил моё условие и теперь позаимствует на время мою монету. Я честный торговец и не люблю, когда меня пытаются надуть. А потому я потребовал у мошенника показать мне мой соверен. Но он отказался это сделать, сославшись на то, что монета ещё находится под действием магических чар и витает в запредельных сферах. Когда же я спросил, когда получу соверен обратно, этот шарлатан ответил, что на следующий день после захода солнца, а до той поры золото удерживается волшебными чарами в трансцендентной области.
– Где, где? – не понял Ронан, хоть и не уступал в учёности самым блестящим студентам своего времени.
– В трансцендентной области, – повторил неуверенно торговец, ибо, похоже, сам не мог взять в толк, что означает сие словечко.
– Ну и как, Мастер Харви, вернулся ли к вам соверен из запредельных сфер? – поинтересовался Ронан. – Ах, да! Простите, сэр, вы же сказали уже, что более уж ни видели вашей бесценной монеты.
– Совершенно правильно, Мастер Лангдэйл. Я сразу заподозрил что-то неладное и какой-то хитрый трюк в манипуляциях этого Овадии. Но он настолько заморочил мне голову с этими его транс… трансцендентными областями и запредельными сферами, что я растерялся и решил подождать до следующего дня, который выдался для меня полным хлопот и забот в связи с моими купеческими делишками… И что же я нашёл на следующий день, когда вернулся после разъездов по окрестностям Дамфрис? Нет, это просто невообразимо! Ну-ка, скажи ты, Овадия, что я обнаружил, усталый и голодный, вернувшись к вечеру на постоялый двор.
– Да мне откуда ж знать, – подивился фокусник, – коли меня там не было? – и снова принял невозмутимый вид, иронично ухмыляясь.
– Ага! Вот видите, Мастер Лангдэйл! – возликовал Харви. – Мошенник сам признался, что к моему возвращению его уже и след простыл! А вместе с ним исчезла и моя драгоценность. Уж не знаю, витает ли мой соверен в запредельных сферах или тянет карман этого пройдохи, а только я требую от Овадии Гокроджера вернуть мне мою монету тотчас же, иначе я объявлю во всеуслышание, что он совершил обман и кражу, и подам жалобу судебным властям. А украденная сумма, я вам скажу, весьма велика и за неё уж точно мошеннику придётся примерить пеньковый галстук на шею.
Ронан задумался на миг. Да, обвинение было серьёзное, и если Мастер Харви сможет доказать его состоятельность, то бедному фокуснику, увы, не позавидуешь.
– Ну, Овадия Гокроджер, – обратился к нему юноша, – давай послушаем, как сможешь ты оправдаться. Ибо рассказ Мастера Харви и твоя история, которую ты давеча мне поведал, разняться в целом и в деталях. Я не возьму в толк, кому же из вас мне верить.
– Эх, ну да ладно, – вздохнул фокусник, – так уж и быть, поведаю я вам, как было дело наяву. Я и в самом деле разозлился и на Сэмуэля – за то, что он меня в своё авантюрное путешествие завлёк, и на себя – что этому искушению поддался. А ведь галантерейщик-то, он хитрый малый. Потом-то до меня дошло, с какой стати он меня с собой увлёк, да и ты, Сэм, сейчас сам о том прямо сказал, а именно, чтобы оберегать твой короб с побрякушками. Неужели ж не так, а?
– Однобоко ты мыслишь, Овадия, – возразил честный торговец. – Клянусь кадуцеем, мои намерения были к взаимной выгоде нас обоих.
– Ха-ха, – усмехнулся фокусник. – Какая же это взаимная выгода, коли ты свои делишки стал обделывать и, видать, успешно, а я без всяческих надежд заработать остался и к тому же в чужой земле среди неблагосклонного народа?… Вот я и порешил, признаюсь честно, ваша милость, взять взаймы у моего сотоварища некую небольшую сумму и при первой же возможности вернуть её торговцу. А дальше всё было почти, как Сэмуэль и поведал. Правда, насчёт соверена он наврал. Я позаимствовал у него всего-то лишь монетку в пол-ангела, а не в пол-ладони.
– Как пол-ангела! – вскричал возмущённый Харви. – Обманщик несчастный! Это был настоящий английский соверен, ярко сверкавший золотом и ласкавший мой взгляд, покуда ты его не похитил обманным образом, подлый шарлатан!
– Видно, сверкание золота ослепило твои глаза, Сэм… Мастер Лангдэйл, провалиться мне на этом месте, ежели то не была монета в пол-ангела.
– А я говорю, это был соверен! – стоял на своём галантерейщик. – Настоящий английский соверен, в пол-ладони шириной.
– Вот до чего корыстолюбие доводит. Я же говорил вам, ваша милость, что он меня желает оклеветать.
– Ну и ну! – озадаченно промолвил Ронан. – Кому же из вас верить, добрые сказители? Сомневаться в правдивости Овадии Гокроджера у меня есть повод, но поверить на слово вам, Мастер Харви, я тоже не могу… А какие улики и свидетельства вы оба в состоянии привести в свою пользу?
– Да какие тут ещё доказательства нужны? Вы только гляньте на его плутовскую физиономию! – воскликнул торговец. – Да у него на лице написано, что даже дьявол честнее этого трюкача.
– И всё же, Сэмуэль, я честно сознался, что позаимствовал у тебя монету, хоть мог этого и не делать, – привёл свой довод Овадия. – Ведь никто твоё обвинение не сможет подтвердить, окромя меня. Ну, рассуди сам. Зачем мне на себя лжесвидетельствовать? А потому, ваша милость, вам бы лучше мне верить, чем этому барышнику, который даже из своего ротозейства хочет прибыль поиметь.
– Хм, и в самом деле, – рассудил Ронан. – А как вы, уважаемый Мастер Харви, сможете здесь правдивость своих слов доказать? Или что вы предъявите бейлифу против Овадии Гокроджера?
Галантерейщик опешил и растерянно заморгал своими честными глазами.
– Ну, я мог бы, скажем, поклясться над самой Библией.
– Ты бы лучше, Сэм, клялся на Библии, когда надувательские сделки свои совершаешь, – ехидно сказал Овадия.
Ронан некоторое время сидел, размышляя, потом сказал:
– Ну что ж, господа спорщики, раз никто из вас не может доказать правильность своих слов или ошибочность утверждений соперника, то, рассуждая логически, надо найти compromissum. Вы согласны с таким путём?
– Смотря, в чём будет заключаться этот ваш compromissum, Мастер Лангдэйл, и сколько я с этого выгадаю, – неохотно ответил торговец.
– А я не против, ваша милость, – с живостью согласился Овадия, – хотя и понятия не имею, как он ищется этот ваш compromissum.
– Нет ничего проще, – продолжил юноша. – Сколько, вы говорили, Мастер Харви, Овадия позаимствовал у вас денег?
– Не позаимствовал, а наглым образом выманил и украл, – ответил торговец. – Целый золотой соверен!
– Значит, соверен. А ты Овадия утверждаешь, что пол-ангела, не так ли?
– Полностью верно, ваша милость, – согласился фокусник.
– Так вот, господа спорщики, compromissum будет заключаться в том, что сначала я вычислю среднее значение между этими двумя суммами. Один соверен это двадцать шиллингов, что равняется двухсот сорока пенсам. Пол-ангела это пять шиллингов или шестьдесят пенсов. Чтобы получить среднюю величину надо всего-навсего сложить эти два числа и поделить пополам. Ну-ка, Эндри, скажи теперь, сколько получится.
Мальчишка весь разговор сидел молча, с интересом наблюдая, как его учёный господин пытается уладить дело. Он с радостью откликнулся на просьбу Ронана и тут же выпалил:
– Сто пенсов и ещё пять по десять!
– Молодчина, Эндри, – похвалил его хозяин. – Впрочем, для тебя это была совсем лёгкая задачка. Так вот, – Ронан снова обратился к спорщикам, – а теперь я попрошу тебя, Овадия, вернуть Мастеру Харви двенадцать шиллингов и шесть пенсов, что и составляет среднюю величину от оспариваемой суммы.
– Вернуть! Сколько? – изумился фокусник и после некоторых расчётов в уме добавил. – Так ведь то ж будет один ангел, два шиллинга и шестипенсовик! А я-то брал у него всего лишь пол-ангела! Нет, Мастер Лангдэйл, скажу честно, не по душе мне ваше счетоводство.
– Вот ежели бы ты, Овадия, не брал бы в долг деньги, когда их тебе никто и не давал, то всего этого спора и не было бы, – спокойно ответил Ронан.
– Мастер Лангдэйл, как же так получается, – сказал в свою очередь Сэм Харви, что Овадия украл у меня целый золотой английский соверен в пол-ладони шириной, а возвращать будет чуть больше половины от этой суммы? Это какие же у меня будут убытки во всём этом дельце!
– А вам, Мастер Харви, я так скажу, – опять-таки невозмутимо молвил юноша. – Во-первых, у вас был почти дармовой провожатый до Дамфрис, с коим вы как-никак были увереннее за сохранение своих товаров; во-вторых, у вас нет абсолютно никаких улик в том, что Овадия Гокроджер якобы брал у вас какие-либо деньги, и пойди вы с этим обвинением к бейлифу, он навряд ли бы вам поверил; ну, а в-третьих, вы должны быть благодарны судьбе и особенно бывшему вашему сотоварищу за то, что он честно признал факт изъятия у вас денег… А сейчас, Овадия, сделай милость, верни Мастеру Харви двенадцать шиллингов и шесть пенсов и будем считать, что дело улажено, и разойдёмся с миром.
Фокусник, однако, сконфуженно потупил взор и молчал. Все ждали. Тут неожиданно слово взял Эндри:
– Ей-ей, ваша милость, да у него же нет денег! Вы разве запамятовали, какое мы зрелище в Лохмейбене наблюдали.
– А и то верно, дружок, – согласился Ронан и обратился к фокуснику: – Неужели ты все деньги успел потратить, Овадия? Мне думается, на эту сумму в нашей бедной северной стране можно пару месяцев себя богачом чувствовать. А мы тебя встретили, когда ты чуть ли не милостыню просил.
– Эх, Мастер Лангдэйл, как вы изволили себя называть, да разве столько денег на себя потратишь? Мои потребности весьма даже скромные, – ответил Овадия и продолжал с явной неохотой: – Всё-то дело в том, что, не имея надежды заработать достаточно, чтобы Сэму Харви долг вернуть, решил я рискнуть и сыграть на деньги. Ежели б нашёл я игорный дом или таверну, где в карты развлекаются, то выиграл бы непременно. Хоть это и нечестно использовать моё мастерство и ловкость пальцев, да разве ж азартные игры на удачу честны сами по себе? Или судьба тебя обманет, иль ты её… Но картёжников в тех краях мне найти, увы, не удалось, вот и пришлось играть в кости, где всё моё уменье бесполезно. К несчастью судьба видно окончательно от меня отвернулась, ибо все мои денежки, а точнее денежки Сэма, перекочевали в карманы моих противников… Вот в двух словах и вся моя печальная история.
– И что же нам теперь с тобой делать, Овадия? – спросил Ронан. – Уговор дороже денег. А ты должен вернуть сейчас Мастеру Харви двенадцать шиллингов и шесть пенсов, ежели ты хочешь остаться честным человеком и наверняка избежать судебного наказания.
Фокусник, потупившись, молчал.
– Ну ладно, вот как я поступлю, – продолжил Ронан. – Я, пожалуй, отдам Мастеру Харви за тебя эту сумму. А как наступит пора с тобой, Овадия, расплачиваться, я с тебя эти деньги удержу, чтобы всё было по-честному.
– Благодарю вашу милость за благосклонность, что вы ко мне проявляете в эту трагическую минуту. Надеюсь, когда-нибудь и я смогу вам отплатить той же монетой, – ответил фокусник и возвёл очи горе, как будто призывая бога в свидетели.
– Ну, уж нет, Овадия, – добродушно возразил юноша. – Очень-то я сомневаюсь, что от тебя можно что-либо получить без «некоторого вознагражденьица».
На это бродячий артист только пожал плечами. Тем временем Сэмуэль Харви получил свои деньги, пересчитал, повздыхал – то ли искренне, потому как недополучил, то ли притворно, радуясь, что нежданно негаданно обрёл утраченное было богатство, – и навсегда исчез из жизни наших пилигримов и дальнейшего повествования…
Когда Ронан остался наедине со слугой, он спросил весело:
– Ну и как тебе, Эндри, понравилась эта история сегодняшняя, а? Меня она, право, немало позабавила.
– А вот мне что-то не очень отрадно, мастер Ронан. Да мне с самого начала всё здесь как-то не так. И этот Овадия странный с физиономией, на которой выражение безостановочно гуляет, ну прям как дымок из печной трубы: куда ветер, туда и он. Не поймёшь, ей-ей, когда он взаправду говорит, а когда врёт безбожно. Когда плакать надо, так он ухмыляется, а как пора радоваться настаёт, как тёмная туча сидит. И всё ему не так почему-то. А этот Мастер Харви тоже, достойная пара Овадии.
– Это почему же?
– Да хоть они и разными делами занимаются, а мыслишки-то все об одном – побольше бы деньжат добыть. Верно моя матушка говорит, что жадные люди никогда довольными не бывают… И зачем только вы этого Овадию выручили, столько денег за него отдали? Я так посчитал и выходит, что ежели вы даже всю причитающуюся ему плату удержите, она будет меньше двенадцати шиллингов и шести пенсов и вы, ей-ей, останетесь внакладе.
– Что ж, по всему вероятию так и будет, Эндри. Твои расчёты должны быть верны и я в итоге не досчитаюсь несколько жалких монет. Но, видишь ли, я не смог позволить себе оставить человека в несчастье. Может быть, когда-нибудь этот бродячий артист вспомнит проявленную к нему доброту, и его зачерствевшая душа умилится и станет более благодетельной.
– Сказать по правде, ваша милость, что-то уж сильно я в этом сомневаюсь. Ежели собаке кусок в пасть положить, так она может и руку оттяпать.
– И всё-таки, Эндри, не так плохи люди, как ты о них думаешь.
Глава XX
Йорк
На следующий день путники оставили Хексэм и двинулись дальше на юг, ведомые Овадией. Впрочем, с каждым шагом дорога становилась всё шире и отчётливей, так что сбиться с пути было невозможно. Чем дальше продвигались путники, тем менее настороженные и более спокойные и приветливые были лица у людей. Чувствовалось, что близость к пограничью заставляла людей до того быть бдительными и опасливыми.
Дорога до Йорка заняла у компании – учитывая, что постоянно одному человеку, юному груму или фокуснику, приходилось идти пешком, – шесть дней, в течение которых произошло мало что интересного. Ронан с интересом глядел по сторонам. В Дархэме он не преминул зайти в кафедральный собор, величественно возвышавшийся рядом с крепостью в излучине реки Уэр. Там любознательный юноша с интересом узнал старинную легенду про основание Дархэма, связанную со святым Катбертом, о котором Ронан знал ещё в Пейсли, ибо этот святой также почитался и в южной Шотландии. Священнослужитель не преминул рассказать, что мощи святого до недавнего времени хранились в соборе и даже показал склеп, где перед ними преклонялись неисчислимые паломники. Но после того, как гонения на монастыри дошли и до севера Англии, то по приказу короля Генриха гробница святого Катберта должна была быть разрушена как символ идолопоклонничества. Впрочем, когда ярые реформисты прибыли в собор, чтобы исполнить королевскую волю, то обнаружили, что склеп пуст и мощи святого исчезли. То ли остававшиеся ещё в соборе монахи унесли свои реликвии в другое место, то ли это было очередное чудо, множество коих приписывалось этому святому, об этом никто не ведал.
Более до самого Йорка ничего примечательного не произошло и путники благополучно прибыли в этот северный английский город. Больше всех радовался Овадия, ибо здесь он рассчитывал быстро облегчить свои денежные затруднения. Перво-наперво он решил устроить представление на рыночной площади, самом многолюдном месте в городе. Ронан с Эндри с интересом наблюдали, как фокусник напялил на себя чудаковатый колпак, разложил перед собой нехитрые трюкаческие принадлежности и стал созывать публику пронзительным голосом:
Эй, люди добрые и злые,
Башмачники и портные,
И вы, торговцы удалые,
И прочие мастеровые,
А с ними вместе брадобреи
И всей округи ротозеи
Здесь в круг сходитесь поскорее,
Чтоб поглазеть на чудеса,
Не те, что явят небеса,
А что творить умею я,
Которого зовут Овадия.
Я именитый чудодей
Факиров Сирии кровей
Скорее живо все сюда.
Как известно, умение расхваливать свой товар есть мастерство, необходимое абсолютно всем: и торговцам, и артистам, как впрочем, и людям других занятий. Бродячий фокусник знал это прекрасно и за годы странствий, как видно, неплохо поднаторел в этом искусстве, ибо вскоре вокруг него собралась толпа народу, по своему обыкновению жаждавшего зрелищ. Овадия показал сначала несколько простых фокусов, известных во все времена, но всегда продолжавших удивлять наивных зрителей. Из разрезанной пополам верёвки он непонятным образом вновь сделал целую. На небольшой палочке он удивительным способом вращал носовой платок. Он показывал уже знакомый нам трюк с превращением одних монет в другие. Под его волшебным колпаком фартинги превращались в пенсы и шиллинги и наоборот. Неописуемый восторг публики вызвало трансформация золотой кроны, предоставленной фокуснику одним зажиточным лавочником, в шестипенсовик. Торговец, было, испугался за свои деньги, но Овадия протянул руку к его шапке и выудил из неё его крону. Множество трюков артист показал и с игральными картами. В этом деле Овадия был просто виртуоз. Колода карт веером перелетала у него из одной руки в другую. Он с лёгкостью угадывал карты, загаданные зрителями, вытаскивая их из колоды. А сама колода, на полдюйма поддерживаемая одной рукой, странным образом зависала в воздухе. Не один ещё фокус показал наш трюкач, в то время как фартинги, полупенсы и даже два или три пенса падали ему на расстеленный платок. И ещё множество рук было уже в карманах и за пазухой, ждущих лишь конца представления, чтобы кинуть фокуснику монету.
А напоследок Овадия решил произвести на зрителей ещё больший эффект и заявил, что обладает магическим слухом и может по голосу угадать любого человека, как бы тот ни пытался его исказить.
– А теперь, славное общество, я отвернусь, – произнёс фокусник. – А вы тем временем выберите человека среди вас и пусть он произнесёт такое изречение: «Деньги – вот религия мудреца», как сказал кто-то из древних философов. Вот ведь умные были люди! Так вот, а опосля я подойду к каждому из вас, и тот мне что-нибудь скажет. И я осмелюсь утверждать, что отгадаю того человека, который произнесёт эти великие слова, как бы он ни исковеркал свой голос.
Но на беду Овадии среди присутствовавших был местный юродивый, который частенько дурачился, пытаясь говорить не шевеля губами. Суеверные жители считали простоватого чревовещателя блаженненьким, не обижали дурачка и даже помогали с едой и кой-какой одежонкой. Лишне говорить, что как только фокусник отвернулся, почти единодушно зрители выбрали юродивого и велели ему не шевеля губами произнести «Деньги – вот вера мудреца», что тот послушно и исполнил. После этого все зрители поменялись местами и стали ехидно ждать, угадает ли бахвалившийся фокусник говорившего.
Овадия повернулся и один за другим стал обходить собравшихся и каждый ему что-нибудь говорил, в основном что-то глупое и безобразное, при этом делая потешные гримасы и стараясь как можно больше исковеркать своё произношение, уже и так отвратительное из-за отсутствующих зубов. Фокусник внимательно прислушивался к говорившим, пытаясь по тембру и окраске голосищ и голосочков определить нужного индивидуума. Так черёд дошёл и до юродивого. А простачок, не разумея толком, чего от него хотят, выпалил ту же самую фразу, которую и чревовещал только что, однако уже обычным своим растерянным голоском. Овадия поглядел с жалостью на простака, который в отличие от остальных даже не мог притвориться и прикинуться дурачком, потому как он таковым и был, и… пошёл дальше, обманутый чревовещателем, малоумным и наивным. И в тот же миг со всех сторон раздался свист и насмешливые выкрики. Восторг от ранее показанных фокусником трюков был разом забыт, а вместо него толпа разразилась издёвками и насмешками. Настолько было переменчиво настроение скопища зевак. Да и как было не покуражиться над хвастливым артистом? Руки так и остались в карманах и за пазухой, и незадачливый фокусник вынужден был поскорее свернуть принадлежности своего ремесла и под улюлюканье и свист собравшихся убраться восвояси, сгорбившись и вобрав голову в плечи, как бы опасаясь быть закиданным камнями и гнилыми овощами, что, видимо, не раз случалось в его предыдущих странствиях…
– Дёрнул же меня чёрт по голосу угадывать, – обескуражено жаловался Овадия чуть позже Ронану. – Так ведь никогда такого не было, чтобы я ошибался, ибо слух у меня отменный! Как такое произошло, никак в толк не возьму. Меньше трёх пенсов собрал. Это ж надо! Нигде мне так мало не удавалось зарабатывать, разве что в той нищей земле шотландской.
Когда же фокусник узнал, что его одурачил какой-то местный простачок, он только разозлился и в бессильной ярости метал гром и молнии, ругался на чём свет стоит и скрежетал зубами. Но делу помочь он уже мог, а денег у него как не было так и не было. И пока его господин и Эндри беззаботно отдыхали и рассматривали город, Овадия решил навестить одного своего родственника по имени Гершам Уордвэл. В отличии от Овадии, ведшего странствующий образ жизни и уповающего на ловкость рук и страсть людей к зрелищам, Мастер Гершам Уордвел был именитым купцом города Йорка, вёл торговые дела с заграницей и пользовался всеобщим почётом и уважением, несмотря на то, что был евреем, пусть и крещённым.
Проживал этот почтенный горожанин в красивом двухэтажном доме неподалёку от Йоркского кафедрального собора, весьма большого и величественного здания. Бродячий фокусник почистил свою одежду и отправился к Гершаму Уордвэлу. Он застал купца в отделанном красным деревом кабинете, по стенам которого висели роскошные гобелены, расшитые библейскими сценами. В массивных серебряных канделябрах горели толстые свечи, источая ароматические запахи. Сам хозяин восседал в резном дубовом кресле в окружении клерка и счетовода. Внушительных размеров стол был завален бумагами. На нём также лежали письменные принадлежности и абака35. Толстая книга с деловыми записями была распахнута на середине. Лицо негоцианта было серьёзно и озабочено, густые чёрные брови сдвинуты почти к самой горбатой переносице.
– Желаю здравствовать, Мастер Уордвел! – сразу с порога произнёс фокусник.
– О, кого же я вижу в моём доме! – казалось, радостно воскликнул купец, хотя выражение лица его по-прежнему оставалось архисерьёзным. – Как протекают твои странствия и что привело тебя в наши края, уважаемый Овадия Гокроджер?
Гершам Уордвел подошёл к родственнику и крепко по-деловому пожал тому руку. Овадия смущённо посмотрел по сторонам, купец понял и увёл его в соседнюю комнату, где им никто не мог бы помешать. Фокусник, как то и положено у хороших родственников после долгой разлуки, поинтересовался у негоцианта про благоденствие его семьи.
– Слава святому Илии, все здоровы, – отвечал купец, – и жена моя, и детки. А ты всё ходишь по белу свету и дурацкие свои фокусы показываешь? И не боишься недоброжелательства людишек, которое они по своему невежеству и глупой заносчивости к нашему народу питают?
– Да так уж мне на роду написано, любезный Гершам, по миру скитаться и кочевать, как народ моисеев сорок лет по пустыне странствовал. А в том обличии настоящего бритона, что я искусно принял, меня за сына израилева никто и не признает.
– Эх, Овадия! Легкомысленный ты человек, однако. Уж давно бы осел где-нибудь, занялся бы ремеслом или лучше торговлей, что больше нашему племени подобает, завёл бы семью, детишек растил. Всё же лучше, чем по земле неприкаянным бродить.
– Боже упаси, Гершам! Чтобы Овадия превратился в какого-то башмачника или лавочника! Нет у меня к этому призвания! – чуть ли не взвизгнул фокусник. – Да и скучно это – на одном месте сидеть и орудовать молотком или иглой, иль в лавке барыши подсчитывать. Я, конечно, денежки люблю, да и кто их не любит-то. Но я ведь больше артист, праздники устраивать весёлые – вот это по мне. Моя сущность – это хитрые трюки показывать, простоватых людишек дурачить и обманывать разными способами.
– Смотри, Овадия, как бы не дообманывался ты когда-нибудь. И даже святой пророк Моисей тебя не защитит, предостерегающее произнёс купец. – Если уж обманывать, то делать это надо честно!
– А это, уж, как повезёт, дорогой Гершам. Последнее время, надо признаться, неудача за мной по пятам следует, то как собака за лодыжку укусит, то гнилым яблоком на голову упадёт, то демона-искусителя на дороге поставит, который меня с пути истинного отвернёт, а ныне какой-то юродивый своей глупой простотой всё моё представление из хитрых фокусов испортил. Хочу я снова на юг податься, в столицу, где богатеньких олухов хватает. Там-то уж дела у меня отлично пойдут. Только вот, чтоб добраться туда, да реквизиты свои пообновить и одежку поприличней справить, мне нужно немного денег – обнищал я здесь на севере. Нынче вознамерился я, было, на рыночной площади потрясающее представленьице устроить. И в самом деле, мои феерические трюки и фокусы вызвали такой восторг публики, что я уже видел, как на мне сверкает новый камзол, а ноги украшают трико из чёрного шёлка и ботинки с серебряными застёжками. Только дело хорошо шло до тех пор, покуда какой-то дурачок полоумный всё враз не испортил. Последняя надежда у меня теперь на тебя, почтенный Гершам, осталась. Вот ежели ты бы дал мне на время сумму, какую не жалко, я свои дела поправлю и при первой же возможности долг возверну. Бог же велел нам друг другу помогать.
Негоциант хмуро, неодобрительно глядел на своего бедного родственника.
– Я гляжу, про бога-то ты вспоминаешь, когда тебе это выгодно.
– Да я о нём постоянно думаю, досточтимый Гершам. И всё время с ним разговариваю, прошу у него благостей всевозможных, чтобы погода в пути у меня хорошая была, и чтоб карманы полны монет были, и чтобы голодным спать никогда не лёг.
– Пожалуй, по твоему виду не скажешь, Овадия, что слышит он твои молитвы. Да и сам ты признался, что отвернулась от тебя удача. Впрочем, я и не припомню, чтобы фортуна к тебе когда-либо благоволила… Э, нет, не тем делом ты занимаешься, не тем…
– И всё же, добрый мой Гершам, неужели ты не протянешь мне, уважающему и любящему тебя родственнику руку помощи в этот нелёгкий час? – почти взмолился Овадия.
Купец посмотрел на своего родича сверлящим взглядом, после чего его лицо враз изменилось, став крайне печальным, и он ответил необычно жалостливым тоном, никак не вязавшемуся с его прежним поведением:
– О-ох, горе бедному Гершаму. Скажу тебе начистоту, любезный Овадия, тяжелы сейчас мои дела. Ума и мудрости мне не хватило. Все свои капиталы скромные я вложил в одно предприятие, которое большой куш обещало. Говорят же в этой стране «Не клади все яйца в одну корзину», а я был ослеплён той выгодой, что из этого дела получил бы. Как последний глупец поступил! А теперь вот голову ломаю, как из трудностей выбраться.
– И какое же такое прибыльное дело, дорогой Гершам, в которое ты вложился, а нынче жалеешь об этом? – участливо спросил Овадия, не желая оставлять надежду получить помощь от богатого родственника, хотя уже чувствовал к чему всё идёт.
– Свинцовая руда – вот, что меня могло вознести, а теперь я опасаюсь, как бы на дно не потянуло, – мрачно произнёс негоциант. – И будет Гершам Уордвел беднее последнего нищего на паперти Йоркского собора.
– Да как же тебя, великодушный Гершам, такого зажиточного купца да какая-то субстанция земная может погубить?
– Как капитана ко дну тонущий корабль увлекает, так и plumbum этот может оказаться привязанным к моим ногам тяжеловесным камнем. Хорошо ещё, что дед мой в христианскую веру перешёл, а то добрые английские купцы, увидев погибающего еврея, не то что соломинку бросят, а напротив, ещё сильней бурю вымаливать станут! Правда, и ныне мало у меня доброжелателей, ибо многих зависть гложет и спать не даёт.
– Неужели, в самом деле, всё так нехорошо, любезный Гершам?
Негоциант снова повздыхал, поохал, пытаясь создать впечатление самого несчастного на свете человека, посмотрел, какое это возымело действие на родича, и продолжил:
– Да хуже некуда! Видишь ли, Овадия, всю жизнь я торгую различными товарами: везу сюда пеньку и лес с берегов норвежских, вино из солнечной Франции и лён из Фландрии, а туда заместо возил зерно и кожу. Все меня знают как надёжного купца и партнёра в торговых делах, уважают и хотят со мной негоцию вести. Так вот, некоторое время тому назад кингстонские купцы узнали, что в тех землях высоко ценится minera plumbeus или свинцовая руда, из которой их ремесленники много различных вещей делают. А у нас на севере королевства эту субстанцию, как известно, на каждом шагу можно из земли выкапывать. Мы с йоркскими и кингстонскими купцами создали предприятие и снарядили шесть больших кораблей в Антверпен, Бордо и германские земли, скупили весь свинец, который за год здесь из земли доставали и в печах плавили, и загрузили им корабли. Четыре сотни фотеров получилось, что составляет почти четыре тысячи добрых фунтов стерлингов! И около трети всего это мои денежки! Всё моё состояние! и даже больше, потому как в долг ещё взял.
– Так, ты должно быть, богатейший купец в Йорке, достославный Гекшам, и у тебя хороший барыш должен выйти из этого дела! – воскликнул Овадия. – Не могу взять в толк, почему же ты печалишься.
– Барыш, говоришь! Да вот, как бы не так,- тяжело вздохнул негоциант. – Я распродал все запасы зерна и кожи, не стал посылать корабли за вином и льном, и все капиталы, что были, всё своё состояние и заёмные деньги, вложил в это предприятие свинцовое в надежде двойную и даже тройную прибыль получить с этого дела. Но видать, правители наши не желают, дабы Йоркшир, а с ним весь английский север процветал, потому как лорд-казначей своим указом запретил вывозить свинец из нашего королевства – якобы он больше в самой Англии потребен. И вот теперь все мои деньги заморожены как рыбёшки подо льдом в Аусе в самую суровую зиму. А мне остаётся лишь ломать голову, как выкручиваться: то ли ждать, пока правительство подобреет к нам, йоркширским купцам, то ли корабли отправлять в Лондон и там свинец по низкой цене отдавать. Ох, трудное и волнительно это дело – быть негоциантом. И очень рискованное: не ведаешь до конца, когда тебя прибыль хорошая ждёт, а когда убытки страшные подкарауливают и разорение. Клянусь честным именем йоркского купца, я был бы рад тебе помочь, любезный Овадия, хотя ты и не прислушиваешься к разумным советам родственника. Однако в сей горестный день я в состоянии лишь предложить тебе присоединиться к нашей бедной семье за скромным ужином. Пока ещё, слава богу, мы не голодаем. Но что случится завтра и смогу ли я прокормить моих детей, о том я не ведаю и опасаюсь всего самого плохого. О-ох, несчастный Гершам Уордвел!
По всему чувствовалось, что честный негоциант явно был не намерен расставаться с деньгами в этот трудный свой час – ни для кого бы то ни было. Второй раз за день надежды фокусника не оправдались, а череда его неудач и бедствий, похоже, не хотела заканчиваться.
На следующее утро трое наших путешественников покинули Йорк, предоставивший некоторый отдых и развлечение Ронану и его молодому слуге и оказавшийся столь негостеприимным для их проводника Овадии Гокроджера. Во время тех нескольких дней, что они добирались до Ноттингема, фокусник был странно молчаливо, что никак не вязалось с его обычной словоохотливостью. Овадия не упустил случая устроить представление на площади небольшого городка Донкастер, куда путники прибыли к вечеру второго дня. Однако и время для фокусов было не совсем подходящее, и городок был донельзя крохотный, так что заработок трюкача не превысил его дохода в Йорке, что, естественно, не улучшило настроения незадачливого Овадии. С каждым шагом на юг он осознавал, что приближается расставание с его временным хозяином, Мастером Лангдэйлом, после которого он не получит скорее всего ничего, потому как его жалованье за несколько недель службы не превысит суммы в двенадцать шиллингов и шесть пенсов, которую молодой джентльмен отдал Сэмуэлю Харви и грозился удержать из его жалования. Фокусник даже пошёл на маленькую хитрость, дабы протянуть свою службу на лишний день-другой. Для этого после Донкастера он повернул не вправо на Дерби, а свернул на дорогу, ведшую в Линкольн и оттуда в Ноттингем, что по подсчётам трюкача удлиняло путь на сорок или даже пятьдесят миль. А это лишних два дня бесплатного довольствия и ночлега.
Глава XXI
Ноттингем
В Ноттингем Ронан со своими слугами прибыли под вечер, намереваясь уже на следующий день достичь цели своего путешествия – поместья Рисли. Все мысли молодого человека были теперь о предстоящей встрече с сэром Уилаби и том приёме, который шотландцу окажут в английском имении. Найдёт ли он ныне понимание и благосклонность в ответ на доброту его отца, оказанную им Хью Уилаби много лет назад, или же будет пренебрежительно принят как бедный чужестранец, ищущий укрытия?
Вечерняя трапеза прошла молчаливо. Ронан, как мы уже сказали, был занят своими беспокойными мыслями. Эндри понимал, что сейчас не лучшее время для веселья и балагурства. А Овадия и так вот уже несколько дней был угрюм и неразговорчив. После ужина все разошлись спать. Каморку, предназначенную для слуги и примыкавшую к комнате, где спал Ронан, занял мальчишка. А Овадия отправился спать в отдельную комнату…
Наутро Ронан и Эндри были сильно удивлены, не застав фокусника в обеденной комнате гостиницы. Паренёк сбегал наверх и возвратился с известием, что комната, занимаемая Овадией, пуста, нет ни фокусника, ни его вещей.
– Хм, весьма странно, – произнёс Ронан. – Что бы это значило? Может статься, наш факир решил спозаранку устроить представление на рыночной площади. Помнится, он был слишком уж озабочен своим незавидным финансовым положением. Ну что ж, придётся завтракать без него.
Покончив с закуской, Ронан велел Эндри седлать коней, а сам отправился к хозяину гостиницы, чтобы расплатиться. Именно за этим занятием его застал возвратившийся слуга. На лице мальчишки играла ехидная улыбка.
– Я же говорил, ваша милость, что не нравится мне этот Овадия!
– Да сдался он тебе, Эндри, – ответил Ронан. – Ежели он куда-то ушёл по своим делам и тотчас не появится, то пусть пеняет на себя. По моим расчётам тут до места, в которое мы направляемся, осталось всего-то полдня пути… Без всякого сомнения, теперь мы и без него дорогу найдём. Овадия к тому же рискует потерять свою оплату… Ты оседлал лошадей? Так быстро?
– Пока ещё нет, мастер Ронан. Но полагаю, теперь я смогу это сделать в два раза быстрее.
– Это почему же, скажи на милость?
– Ей-ей, да потому что вскопать одну межу легче, чем две, а оседлать одного коня быстрее, чем двух.
– Одного? – удивился Ронан.
– Вот именно, ваша милость. Одного Идальго! Потому как моя кобыла уже оседлана.
– Ого! Кто же это тебе помог? Должно быть, Овадия. Вот видишь! А ты его недолюбливаешь и в чём-то подозреваешь!
– Да нет же, мастер Ронан, я его уже не подозреваю, потому что я просто уверен, что это он оседлал мою кобылу, которую мы уже не найдём точно так же, как не нашли с утра и самого Овадию Гокроджера.
– Как ты сказал?! Я правильно понимаю, мой верный Эндри, что вместе с ним исчезла и твоя лошадь?
– Это так же верно, ваша милость, что сейчас осеннее утро и мы с вами находимся в городе Ноттингеме. Похоже, мастер Ронан, что этот английский пройдоха умеет проделывать фокусы с исчезновением не только золотых монет, но и более крупных предметов, таких как, например, лошади.
– Эй, скажи-ка любезный, – обратился Ронан к хозяину гостиницы, – ты случаем не знаешь, куда подевалась рыжая кобыла моего юного слуги?
– Ну, об этом, молодой джентльмен, вы лучше поспрашивайте другого вашего прислужника, с которым вы прибыли давеча, – ответил хозяин гостиницы, приземистый и крепкий малый с лоснящимся лицом и сальными волосами. – Он ещё затемно разбудил меня в тот самый момент, когда я видел такой чудесный сон, как будто меня пригласили на пир к самому королю Эдварду. Эх, и какие там были яства!… Не будь этот тип с физиономией как сливовое желе вашим слугой, ух и отведал бы он моей дубинки за то, что прервал такое райское наслаждение… Так вот, он сказал, что ему надобно срочно отъехать по вашему распоряжению, и просил меня открыть ему конюшню. Он оседлал рыжую и уехал на ней. Мне право удивительно, что вы запамятовали о вашем же поручении, молодой человек.
– Что ж, Эндри, – сказал Ронан, снова обращаясь к пареньку, – видимо, придётся тебе проделать оставшийся путь на своих двоих. Я же должен честно признаться, что чересчур доверился Овадии и не прислушался к твоим предостережениям. Ничего не попишешь, пусть это будет мне хорошим уроком на будущее. Однако, мне почему-то кажется, что такие уж «фокусы» нашему чудодею добром не обернутся. Ну, да Бог с ним…
Через полчаса Ронан Лангдэйл – так он теперь себя звал, чтобы эта камбрийская фамилия могла оправдать его северный акцент, к тому же это и в самом деле было исконное имя его рода, – так вот, через полчаса Ронан и Эндри были на рыночной площади Ноттингема, ведя на поводу Идальго, погрустневшего как по причине исчезновения его рыжей подруги, так и из-за двойного багажа, который ему теперь пришлось принять на свои бока. Наши странники хотели выведать, не оставил ли ненароком здесь следов Овадия Гокроджер, а также разузнать, какой дорогой добраться до Рисли. Первое их намерение успехом не увенчалось, ибо никакого фокусника здесь в тот день и в помине не было, а уж тем более тщетно было выспрашивать в столь многолюдном месте про рыжую кобылу. Со второй задачей они справились без труда, ибо первый же человек, к которому обратился Ронан – а это был лоточник, торговавший тканями, сорочками и всяким платьем, – подсказал молодым людям, как добраться до селения Рисли, где находился особняк, интересовавший путников. Зная, что путь близится к концу, Ронан ещё и из чувства благодарности приобрёл у торговца фламандскую рубашку для себя и льняную сорочку для своего юного спутника. Не торгуясь, шотландец заплатил коробейнику целую крону, хотя товар едва дотягивал до трёх шиллингов. Эндри неодобрительно глянул на своего расточительного хозяина и укоризненно вздохнул. А довольный продавец аккуратно положил серебряную монету в висевший на широком поясе кошель, посмотрел удивлённо на удалявшихся покупателей и, поздравив себя с удачным деньком – поскольку удалось втридорога продать рубашки, – с ещё большим усердием принялся расхваливать свой товар…
Пройдя около четырёх или пяти миль – ибо Ронан тоже шёл пешком, щадя загруженного Идальго, – путники оказались у конечной цели своего путешествия.
Рисли было типичное английское селение того времени. Вдоль просёлочной дороги стояли окружённые небольшими садиками несколько домов, в которых обитали, по-видимому, наиболее почтенные жители сельской общины. Все домики были аккуратно побелены, а ухоженные палисадники за плетёной оградой говорили о благоденствии их хозяев. За рядом этих деревенских зданий раскинулись обширные поля, на которых там и здесь виднелись фермерские дома. Пашни в это время года были уже наполовину перепаханы, а на огороженных пастбищах откормленные стада подъедали остатки начавшей уже чахнуть растительности.
С краю деревни из-за густых крон виднелись крыши и трубы большого здания, к которому вела аллея старинных дубов. Около дороги, как раз напротив уходившей вбок аллеи возвышалась церковь, судя по виду, весьма старая. Позади неё виднелись деревянные кресты погоста, а с другого боку ближе к дороге приютился небольшой, но аккуратный домик приходского священника, который в это время как раз и копался в своём садике, видимо, не надеясь целиком на пожертвования местной паствы или же просто из любви к садоводству. Он уже давно заприметил приближавшихся путников и с любопытством на них поглядывал, хотя и не поднимая головы и не отрываясь от своей работы. Ронану не трудно было догадаться по аккуратно подстриженной бороде и чёрной фетровой шляпе, что возившийся в саду человек был местным священнослужителем.
– Приветствую вас, преподобный отец! – поздоровался подошедший к изгороди Ронан. – Добрый нынче денёк выдался.
– Может и добрый, а может, и нет, – пробурчал в ответ служитель церкви, делая недовольный вид, что его отрывают от дела, хотя на самом деле ему ужасно хотелось поболтать с незнакомцами. – Для меня он добрый – глядите, какой урожай Бог послал! А для леди Джейн, к примеру, его таким едва ли можно назвать… А вы, молодые люди, позволю себе спросить, откуда к нам пожаловали? Прежде я вас в наших местах не видел, да и говор у вас на местный не похож. А я в этих окрестностях каждого знаю, ибо всё в моей приходской книге записываю: кто родился – дай боже им стать добрыми христианами, только лишь бы не папистами, кто женился – да живут они в мире и согласии, а кто ушёл в мир иной – упокой, Господи, их души и мир праху их.
– Мы прибыли с севера, из Шотландии, и направляемся в особняк Рисли к благородному сэру Хью Уилаби. И я хотел увериться у вас, преподобный отец, что мы не ошиблись дорогой.
– Раз то прекрасное здание в конце аллеи и есть особняк Рисли-Холл, владеемый старинным родом Уилаби, то значит, Господь привёл вас по верной тропе земной. Впрочем, я также желаю, и желаю от всего сердца, чтобы Всевышний указал вам и праведный путь в царствие небесное, ибо слыхал я, что у вас в Шотландии до сих пор покорно смиряются под игом папской церкви, служат мессы и поклоняются идолам, что есть не иначе, как служение Ваалу и Астартам.
Молодой Лангдэйл опасался вступать в богословские дискуссии в чужой стране, тем более что он не был ярым адептом той или иной религии, хотя и воспитывался долгое время в монастыре. Как мы уже говорили ранее, у Ронана отсутствовала тяга к теологии, и в нём не замечалось интереса к вопросам церкви, хотя он и считал себя католиком (да и как иначе, если и отец его, и все предки были строги в вопросах религии и придерживались вековечных церковных догм?) А потому он решил уклониться от этой скользкой темы и поинтересовался:
– А не ведомо ли вам, преподобный отец, пребывает ли нынче сэр Хью дома, и позвольте ещё спросить, кто такая леди Джейн, которую вы упомянули и для которой, по вашим словам, сегодня не радостный день?
– Так вы ничего не знаете про наши дела?! – воскликнул тамошний пастырь. – Ах, ну конечно! Вы же прибыли к нам издалека, из земель филистимских. Тогда мне, как первому человеку, приветствующему вас в этом селении и, скажу без лишней скромности, достаточно сведущему в прошлом этих мест и родословной их владетелей, долженствует поведать вам краткую историю сиих мест и их достойных хозяев.
Разговорчивый священник прислонил лопату к грушёвому дереву, отряхнул руки и подошёл к плетёному забору, у которого с написанным на лице любопытством (что не ускользнуло от проницательного взгляда пастыря) стоял Ронан.
– Испокон веков эти земли принадлежали знатному роду Уилаби, – начал свою речь его преподобие, радуясь тому, что нашёл слушателя, с которым можно поделиться своими глубокими познаниями. – Я ещё помню доблестного Генри Уилаби, отца сэра Хью. Он был воином с храбрым сердцем и посвящён в рыцари самим Генрихом Седьмым, что случилось, если мне не изменяет память, после того как англичане разбили ирландскую армию неподалёку отсюда. За храбрость и верность сэра Генри чтили все Тюдоры: и Генрих Седьмой, и отец нашего теперешнего монарха, Генрих Восьмой. А после смерти сэра Генри, этого доблестного мужа, все земли перешли по наследству к старшему его сыну Джону, который, однако, ненамного пережил своего родителя. И все владения отошли ко второму сыну, Эдварду Уилаби. Но тот оказался благороднейшим человеком и, оставив себе большое поместье Вуллатон, что в шести милях отсюда, а также Мидлтон в Уорвикшире, великодушно передал Рисли младшему брату Хью. Сэр Генри Уилаби на протяжении своей жизни был четырежды женат, и Эдвард являлся сыном от первого брака. А потому он был гораздо старше Хью, который приходится сыном от третьей жены, и ныне уж лет десять минуло, как Эдвард Уилаби преставился, мир праху его. И в это мгновенье, должно быть, душа его взирает с небес на плоды его земных милостей. Ибо своему брату он сделал немало благодеяний: не только передал ему одно из поместий, но и, можно сказать, открыл путь к славе и почёту, представив того к королевскому двору, где сам-то сэр Эдвард был некоторое время стюардом. После смерти Эдварда Уилаби у него остался сын Генри, племянник нашего сэра Хью. Видный был юноша, весь в деда – доблестный рыцарь и честнейший человек. Он женился на Анне Грей и породнил обе фамилии: Грей и Уилаби. А Грей, к вашему сведению, семья в Англии весьма могущественная, ибо в них течёт королевская кровь. Говорят, что племянница этой самой Анны Грей, девица Джейн может даже трон унаследовать, ежели, не попусти Господь, что с молодым королём и его сёстрами случится… Очень был дружен сэр Хью со своим племянником, будто Ионафан с Давидом. Генри по примеру своего дяди склонился к тому, чтобы своё имя прославить ратными делами. Видно, в этой семье в крови заложена тяга к подвигам и воинскому делу. И мог бы в рыцарской доблести племянник с дядей поспорить, да только попустил Господь, чтобы три года тому назад случились волнения в Норфолке. И на подавление мятежников, возглавляемых нечестивым Кетом, король послал благородного Джона Дадли, графа Уорвика, который ныне стал герцогом Нортумберлендским. А этот знатный вельможа и видный полководец немало благоволил Генри Уилаби, в коем он нашёл не только верного сторонника, но и храбрейшего воина. Стало быть, король и послал графа Уорвика для наведения порядка в Норфолке. И главная битва между бунтовщиками и королевской армией состоялась неподалёку от Нориджа. Хотя численный перевес и был на стороне мятежников, да к тому же в суматохе они сумели даже захватить королевские пушки, однако к чести Дадли выучка и дисциплина его армии и доблесть окружавших его рыцарей принесли ему победу. Правда, сам граф Уорвик, надо признать, едва избежал гибели, но удар меча, предназначавшийся Дадли, самоотверженно принял на себя благородный Генри Уилаби. Вместе с другими павшими джентльменами из войска Дадли он был погребён в церкви святого Симона в Норидже. По правде говоря, ненавижу я все войны и смертоубийства. По моему скромному разумению, лишь одна цель может их оправдать – борьба за истинную веру… Смиренно надеюсь, что у вас ещё не болят уши от моего рассказа, молодой человек?
– Вовсе нет, преподобный отец, – ответил Ронан. – Должен признаться, что вы даже мне чем-то напоминаете наставника моих юных лет, доброго капеллана отца Филиппа, который также увлечён собиранием исторических сведений, манускриптов и артефактов прошедших лет. К тому же мне не может быть безынтересным всё, что связано с сэром Хью Уилаби, у которого я надеюсь найти покровительство, по крайней мере, на ближайшее время. Ведь, насколько мне ведомо, он был избавлен от больших неприятностей благодаря моему отцу, барону Бакьюхейда, и я весьма надеюсь на помощь сэра Хью.
– Очень хорошо, – довольно молвил пастырь. – Пожалуй, это единственный случай из всей его воинской карьеры, про который сэр Хью упомянул мне. Значит, вы есть сын того самого благородного шотландского рыцаря, который спас хозяина Рисли-Холл от страшной смерти под топорами варваров! Позвольте же спросить, как ваше имя, молодой человек.
– Ронан Лангдэйл, к вашим услугам. Школяр и изгнанник со своей родины.
– Кстати, позвольте мне также представиться: Доктор Чаптерфилд! Да, да, не удивляйтесь Мастер Лангдэйл, что в сельском священнике вы находите учёного человека, ибо я имел честь обучаться в Оксфорде и удостоился там степени доктор Divinitatis36. Но в то смутное время, когда головы священнослужителей с такой же лёгкостью летели с плахи как и головы пэров и графов, продвижению по церковной иерархии я предпочёл тихую жизнь сельского пастыря… С вашего позволения позволю себе продолжить рассказ про семейство Уилаби. Итак, на чём же я остановился?
– Вы повествовали про гибель Генри Уилаби, – напомнил Ронан.
– Ах, да. Так вот, после горестной вести о гибели мужа леди Анна, будучи от природы слаба здоровьем, занемогла ещё пуще, и через некоторое время Господь призвал её к себе и она тихо угасла, оставив сиротами двух мальчиков и девочку. Когда сэр Хью вернулся с войны, вдова его племянника была ещё жива, но тлеющая в ней искра жизни становилась все слабей и слабей. Хью Уилаби часто бывал в то время в Вуллатоне, иногда со своей супругой леди Джейн, пока она ещё была в состоянии садиться на лошадь – ибо леди Джейн ожидала ребёночка. Особенно хозяин Рисли привязался к старшему из мальчиков, мастеру Томасу, в котором он просто души не чаял. Когда же леди Анны не стало, сэр Хью хотел было взять опекунство над сыном своего погибшего племянника. Однако более могущественные и богатые родственники закрепили опеку над наследником Вуллатона за собой. Это были дядя Томаса по материнской линии герцог Саффолк и его супруга герцогиня, которые и приобрели опекунство над наследником Вуллатона. Эх, бедный отрок… Мне почему-то думается, что Саффолкам важна не столько судьба Томаса, сколько возможность извлечь из этого некие личные выгоды… Двум другим сиротам, Фрэнсису и Маргарет, надо полагать, повезло больше: их опекуном стал давний друг семьи Уилаби – сэр Ноллис, имеющий прекрасные связи при дворе и, что самое главное, стойкий ревнитель протестантской веры. Полагаю, он должным образом устроит судьбу сирот…
– А могу ли я поинтересоваться с вашего позволения, доктор Чаптерфилд, не рассказывал ли сэр Уилаби о своём воинском служении? – спросил Ронан, будучи по молодости лет нетерпелив и желая снова вернуть разговор к хозяину Рисли, потому как, по правде говоря, ему уже начало надоедать слушать про многочисленных представителей этого плодовитого семейства.
– А что же касается боевых лет сэра Хью, то много мне выведать у него не удалось, за исключением разве что нескольких случаев, ибо по каким-то причинам он не любит рассказывать про то время. Знаю только, что участвовал он в войне с Шотландией и, по слухам, покрыл себя в боях большой славой. Ведь и рыцарское звание он получил за свои ратные подвиги, в отличие от некоторых знатных дворян, кои всю жизнь только тем и занимаются, что при дворе сплетни смакуют и интриги плетут.
– И что же, сэр Хью после возвращения с войны так и проживает в своём имении?
– Ну уж нет, юноша, не такой у него характер, чтобы бездеятельно дома пребывать. Какими-то путями он выведал, что в Лондоне богатые негоцианты собираются снарядить корабли для плавания на Восток по северным водам и что им нужен командор. Вот он и жаждет свои услуги дерзкому предприятию тому предложить, дабы своё имя, и так уже покрытое глорией, ещё более прославить и Англию возвеличить… Подумать только! Через северные моря! Там где лютые холода и, поди, людей-то нет, ибо жить там, по моему разумению, невозможно… И ныне, значит, сэр Хью почти всё время проводит в Лондоне, изредка лишь в Рисли наведываясь леди Джейн и маленькую Дороти навестить. Эх, оставил их сэр Хью на попечение этого повесы Джорджа. А тому-то до них и дела особого нет, ему бы лишь поохотиться на славу, да весёлую пирушку с друзьями закрутить…
– А кто такой Джордж, осмелюсь спросить?
– О, это сын сэра Хью от первой жены, леди Маргарет, – упокой Господи её душу! – и наследник поместья. Так-то человек он хороший, не злобливый, подчас чересчур добрый даже, но уж больно слабохарактерный и ветреный. Вы себя с ним повыдержаннее держите, молодой человек, и не дайте ему завлечь вас в дьявольские сети увеселительных забав. Душу-то в чистоте хранить надо.
– Кажется, теперь я разумею ваши слова, уважаемый доктор Чаптерфилд, – сказал Ронан, – почему для супруги сэра Хью леди Джейн нынче не радостный день. Она, должно быть, не желает снова расставаться с мужем подобно Пенелопе, проведшей многие годы в одиночестве, пока Одиссей скитался по свету. Не так ли?
– А как бы вы чувствовали, Мастер Лангдэйл, на месте бедной женщины, супруг которой провёл девять лет на шотландской войне и дома носа не показывал, а ныне вновь собирается покинуть своё родовое гнездовье, чтобы пуститься в ещё более опасное предприятие?
– Ну, мне думается, такова доля большинства жён – доля, с которой им надобно смиряться, – легковесно рассудил Ронан. – Помнится, мой родитель тоже отсутствовал дома почти всё время, проводя его в военных походах. А моя бедная матушка переносила его долгие отлучки со смиренным терпением, а всю свою любовь и нежность отдавала мне, её единственному сыну. Однако она постоянно думала о своём муже, поскольку мальчиком я часто заходил вечером в её опочивальню и заставал матушку коленопреклонённой перед святым распятием, шепчущую молитвы.
– Тем не менее, сэр, – сказал, нахмурившись, священник, – советую вам во время пребывания в Рисли-Холл щадить супружеские чувства хозяйки дома и не усугублять её горестей.
Ронан смутился и даже покраснел, уловив укоризненный тон в словах священника.
– Я вовсе не хотел кого-то обижать, доктор Чаптерфилд, – извиняющимся тоном произнёс юноша. – И прошу вас простить мою неопытность в житейских вопросах. Ибо моя матушка умерла, когда я был совсем ребёнком, и лишённый материнской ласки, в дальнейшем среди моих учителей не было никого, кто рассказывал бы мне об отношениях людей между собой, особенно мужчин и женщин. Я познал искусство драться на всех видах оружия, выучился нескольким языкам и многим наукам. Но, клянусь землёй и небом, я…
– Не божись, – перебил его пастырь, будучи, судя по его речам, страстным адептом реформизма, – и не клянись небом – престолом господа Бога, ни землёй – подножием его. Пусть твоё «да» будет – да ! и твоё «нет» будет нет !
– Я хотел лишь сказать, – продолжил Ронан, – что я такой же профан в жизненных делах, как конюх в ювелирном искусстве.
– Определённо так, молодой человек. Мне кажется, несмотря на вашу открытость и приветливость, вам недостаёт такта и почтительных манер. А посему вот вам мой совет: прежде чем в благородном обществе высказывать своё мнение, дважды… нет, трижды! подумайте, как оно будет воспринято, – молвил пастырь, хотя и наставительно, но уже более мягким тоном.
После того, как собеседники обменялись ещё несколькими фразами, они расстались уже хорошими знакомыми, ибо его преподобие был весьма доволен как тем, что его так внимательно и почтительно выслушали, так и тем, что довелось дать ценные наставления неопытному юноше, а Ронан, любопытный и дружелюбный по натуре, не прочь был сойтись поближе с таким всеведущим человеком, каким выказал себя доктор Чаптерфилд, и рад был узнать так много про Хью Уилаби…
– Мне показалось, что вы пустили корни у ограды, ваша милость, и стали одним из деревьев того садика, – сказал Эндри, когда они отошли от церкви и направились по дубовой аллее к особняку.
– Ну-ну, не ропщи, дружок, – ответил Ронан своему слуге. – Ты не можешь себе вообразить, каким словоохотливым оказался преподобный отец. Он поведал мне более, чем сказано во всём Бытие, и я сомневаюсь даже, что мне удалось запомнить все подробности его бесконечно долгого рассказа, как невозможно удержать в памяти всю родословную от Авраама до Моисея. Впрочем, по ходу дела приветливый пастырь одарил меня несколькими добрыми советами, которыми я обязательно не премину воспользоваться.
Вскоре аллея кончилась и взору путников открылся сам особняк.
Глава XXII
Conventus

На время нам придётся оставить молодых шотландцев, благополучно прибывших к своей цели, и перенестись в Лондон, где в этот день проходило одно знаменательное событие, которое, как потом выяснилось, во многом предопределило судьбу нашего героя…
В большом зале одной из лондонских купеческих гильдий стоял гул голосов и царило радостное оживление. По углам на витых канделябрах весело горели свечи, источая лёгкий аромат. Обитые дубом стены радовали глаз написанными на них красочными эмблемами и гербами с изображением кораблей с развевающимися флагами и надутыми ветром парусами, вздымающихся волн, девизами и изречениями на латыни. Высокий потолок залы был расписан фееричной сценой с Меркурием, убивающим великана Аргуса.
Во главе собрания на небольшом возвышении в массивном кресле, чем-то напоминавшим монарший трон, слегка согнувшись и держа, словно скипетр, перед собой трость с набалдашником слоновой кости, сидел старик в старомодном камзоле из генуэзского вельвета на шнуровке и малиновой шапочке с галунами. На смуглом сухощавом лице, испещрённом глубокими морщинами, удивительно выделялись чёрные, горящие ликующим огнём глаза, а седая борода скрывала игравшую на губах торжественную улыбку. Казалось, он ждёт, пока уляжется шум, чтобы начать речь. Но на самом деле далеко были мысли его в эту минуту…
Имя этому человеку было Себастьян Кабот – по крайней мере, так его звали в этой стране, далёкой от его родины, но давшей ему возможность испытать удачу и воплотить в жизнь свои дерзкие мечты. В этот миг он мысленно возвращался ко всей прожитой жизни. Он вспоминал свои детские годы, проведённые в Венеции, где его отец Джованни состоял в купеческой гильдии, ходил на кораблях и торговал по всему Средиземному морю. Уже в ту пору Себастьяно начал мечтать о морских плаваниях, желая во всём походить на своего смелого и энергичного родителя. Ещё мальчишкой он вместе с братом был увезён в испанскую Валенсию, ибо удача отвернулась от негоцианта Джованни Кабото и, преследуемый кредиторами, он поспешно перебрался на испанский берег, где принялся за строительство домов, мостов и гаваней. Но тяга к далёким плаваниям, к неизведанным землям продолжала бередить душу бывшему венецианскому купцу, и Джованни Кабото, вдохновлённый плаванием Колумба, тоже загорелся желанием пуститься в путешествие через Атлантику. Это устремление привело итальянца в Англию, где он нашёл богатых покровителей в лице осевших там соотечественников и зажиточных английских купцов, а вскоре и самого английского короля Генриха Седьмого, и сумел заразить их своим пламенным энтузиазмом. В мае 1497 года от рождества Христова вместе с отцом-капитаном молодой Себастьяно вышел из порта Бристоля на небольшой караке под названием «Мэтью». По правде говоря, они шли наудачу, хотя среди мореплавателей, учёных-картографов и астрономов той поры бытовало, пусть ещё и не доказанное, предположение о шарообразности земли. А раз так, то плывя на запад можно было рано или поздно приплыть в Китай и Индию, которые лежали, по всей видимости, существенно дальше тех островов, которые были открыты Колумбом.
Кабот вспоминал в этот миг, как вместе с отцом более полувека назад пересёк он Атлантический океан, увидел берега неизвестной суши и ступил на эту таинственную землю, которой они дали название Ньюфаундленд37. Больше месяца они проплавали вдоль того побережья38 и назвали ту землю Новой Англией. Капитан Джованни Кабото не привёз английскому монарху богатой добычи, и получил от него за свои труды жалкие десять фунтов стерлингов. Несомненно, если бы он привёз не карты берегов открытых им земель, а восточные пряности и специи, его ждало бы куда более щедрое вознаграждение. Но, всё-таки, итальянский мореплаватель продолжал пользоваться всеобщим почётом и уважением при английском дворе и оставался в милости у короля. Через год Джованни Кабото снова вышел в море, уже с пятью кораблями, на одном из которых плыл и его сын Себастьяно. Суда были гружены различными товарами для торговли с туземцами и провиантом, которого предусмотрительные купцы взяли с собой вперёд на целый год. Однако в Англию они возвратились лишь через два года. И, увы, далеко не всем из них суждено было вновь ступить на родную землю: некоторых путешественников поглотила безжалостная морская пучина, кто-то из мореплавателей умер от жестоких болезней, другие же пали жертвой кровожадных туземцев. В их числе оказался и отец Себастьяно, венецианец Джованни Кабото, который так и не узнал, существует ли западный морской путь в Индию и Китай.
«Сейчас-то нам ведомо, что в Китай и к Пряным островам можно добраться, идя на запад и обогнув с юга американский континент, – размышлял старый моряк. – Испанцы доказали это весьма убедительно, обойдя нашу землю с запада на восток. Но в ту пору ни у кого не было уверенности, что Земля и в самом деле является шаром. Впрочем, мой отец все равно верил, что в Китай можно добраться, идя с востока на запад. Но, увы, ему так и не суждено было отыскать пролив сквозь эту землю, которую мы назвали Ньюфаундленд и которая, по всему вероятию, есть часть большого материка, называемого ныне Америкой».
Старый человек вспоминал, как через десять лет после гибели отца возмужавшему его сыну Себастьяно Кабото доверили возглавить плавание английского корабля, и мореплаватель вознамерился достичь Китая, который должен был лежать по его расчётам за теми самыми землями, которые открыл его отец. Себастьяно хотел первым найти сквозной проход, пролив или обогнуть ту сушу, дабы дойти до китайских берегов, богатых пряностями и специями. Себастьян Кабот вспоминал радостное ожидание, которое он испытывал, плывя вдоль этого побережья, проведя свой корабль в огромное море и пытаясь найти пролив далее на запад, туда, где по расчётам лежали манящие земли волшебного Китая и Пряные Острова. О, как мечтал он открыть северный проход из Европы в Китай! И как горько он был разочарован, когда осознал, что выход из этого большого моря только один – обратно на восток39. Запасы провианта были на исходе, команда роптала и Кабото не оставалось ничего другого как повернуть назад, так и не добившись своей цели.
По возвращении Себастьяна в Англию молодой король Генрих Восьмой назначил его своим картографом и вскоре в этом качестве Кабото оказался в северной Испании, куда английский король направил войска на помощь своему зятю, королю испанскому Фердинанду. Встретившись с Кабото, король Испании предложил Себастьяно стать капитаном своего флота и заняться подготовкой плавания к Ньюфаундленду. Мореплаватель без сожаления покинул английское королевство и перебрался в Испанию, лелея мечту обнаружить, наконец-то, Северный Путь в Китай. Но смерть Фердинанда положила конец так и не начавшейся экспедиции. Кабото снова вернулся в Англию и вскоре на двух кораблях вместе с английским вице-адмиралом сэром Томасом Пертом отплыл к берегам Бразилии. Но английский лорд, малодушно испугавшись выстрелов испанских пушек с острова Испаньола40, приказал возвращаться в Англию.
Мореплаватель опять перебрался в Испании. Находясь на службе этой страны, Кабото, тем не менее, не оставлял свою мечту обнаружить северо-западный путь в Китай, и даже вёл тайные переговоры с венецианскими правителями об организации экспедиции с этой целью. К сожалению, его соотечественники, венецианские купцы, славившиеся богатством и могуществом, так и не отважились рискнуть своим капиталами. А потому Кабото не оставалось ничего другого, как принять предложение возглавить флотилию из четырёх испанских кораблей для плавания по следам Магеллана к Молуккским островам и их колонизации. Это путешествие выдалось для него чересчур авантюрным. На своём пути он повстречал корабли предыдущей испанской экспедиции и, соблазнённый рассказами о несметных богатствах инков, оставил изначальные планы и ринулся исследовать это побережье, основывать форты и делать вылазки вглубь материка. Несколько лет тщетно были потрачены на поиски сокровищ. А в конечном итоге, встретив враждебный приём от аборигенов, Кабото вынужден был возвратиться с пустыми руками. А ведь он мог повторить подвиг Магеллана, обогни он Америку с юга! Сейчас старый моряк с сожалением думал о своей роковой ошибке, когда ослеплённый жаждой наживы, направил корабли не вокруг южной оконечности американского континента, а в погоне за сокровищами устремился к его восточным берегам.
Нечего и говорить, что испанцы были разочарованы плаванием Кабото, тем, что он не выполнил первоначальные, ставившиеся перед флотилией цели и самовольно изменил её курс. За своеволие, неповиновение и гибель плывших с ним офицеров ему присудили огромные штрафы и вознамерились отправить в изгнание, в североафриканские владения испанской короны. К счастью Себастьяно Кабото вскоре из Германии вернулся император Священной Римской Империи, Карл Пятый. Мореплаватель представил ему подробные описания исследованных им земель и настолько сумел убедить императора в полезности своих открытий, что Кабото было дозволено остаться в Испании и снова стать главным штурманом её флота. Но, увы, то была по большей части придворная должность, и в море он уже не выходил.
Однако мечта о Северном Пути не давала ему покоя. Однажды английские друзья прислали Себастьяно Кабото интересную брошюру, автором которой значился некий бристольский негоциант по имени Роберт Торн. Мореплавателю показалось знакомым это имя. Он вспомнил, что один купец из Бристоля с такой же фамилией принимал участие в его первом плавании с отцом к берегам Новой Англии. Но тот был уже немолодым человеком. Возможно, этот Мастер Роберт Торн был его родственник, кто знает. В брошюрке автор выдвигал дерзкую идею о том, что если плыть на север, миновать земной полюс и направиться к линии экватора, то можно прибыть к Китаю и Пряным островам.
«Святая дева Мария, а ведь это блестящая мысль! – подумалось тогда Кабото. – Только вот плавание через полюс мне представляется весьма сомнительным. По словам моряков, побывавших в северных водах, зачастую море там покрыто сплошь льдом или плавают громадные его куски, для кораблей смертельно опасные… Но так ведь можно пойти не прямиком на север, а обогнуть норвежские берега и идти на восток, и рано или поздно очутиться там, где находится Китай и лежат Пряные острова! И если нам не удалось обнаружить северо-западный путь, то наверняка существует северный маршрут в восточном направлении!»
Не раз после этого Кабото пытаться уговорить англичан на организацию новой экспедиции, но уже не на запад, нет, – а на восток! Он был убеждён, что можно обогнуть Европу с северной стороны и по Северному океану вдоль дикой неизведанной земли дойти до китайских берегов! Это дало бы англичанам отличную возможность напрямую вести торговлю с Пряными Островами, Китаем и Индией, а его, Себастьяно Кабото, прославило бы как мореплавателя и первооткрывателя. К тому времени уже были известны пути в восточные земли: через пролив Магеллана или же южную оконечность Африки. Но все эти маршруты уже контролировались испанцами и португальцами, главенствовавшими тогда на море. А в Англии в это время правил Генрих Восьмой – король, не желавший раздражать своими экспедициями ни тех, ни других. У английского короля хватало проблем и дома, хотя бы с непокорной Шотландией. Но сразу после смерти этого монарха в 1547 году Кабот оказался вновь в столице Альбиона. С помощью друзей он стал искать поддержки у молодого короля Эдварда Шестого, а фактически у регента и высших королевских сановников, на что ушёл не один год. Но, в конце концов, Каботу удалось добиться благоволения короля на организацию плавания двух небольших английских кораблей для открытия Северо-восточного пути. Однако же, эта идея неожиданно стала столь популярной среди богатых английских негоциантов и знати, что было принято решение об учреждении торговой компании. И вот в 1551 году было образовано предприятие под названием «Купцы-предприниматели Англии для открытия земель, стран, островов и владений »41, которое получило поддержку из королевской казны и высокое покровительство августейшего монарха. Управлять компанией был назначен он, Себастьяно Кабото.
О, как сладки были эти мгновенья для мореплавателя! Сердце снова трепетало в его груди как в молодости. Одно печалило старика – не ему вести корабли к далёким берегам, слишком немощным стало его тело. Так пусть же другие капитаны осуществят его мечту! А уж он в том окажет им всякую помощь своими знаниями, умениями и опытом мореплавания.
Как единый миг в голове старого мореплавателя пронеслась вся его жизнь, полная радостей и печалей, опасностей и открытий, надежд и разочарований. И вот теперь он был здесь, перед этими людьми, разделявшими его чаяния, его друзьями, компаньонами и соратниками. Старик поднялся.
– Высокочтимые джентльмены, славные негоцианты и все участники сего великого предприятия! – прозвучал хрипловатый голос Кабота. Он обвёл взглядом собравшихся, которых было около сотни и восседавших на скамьях вдоль стен зала.
В самом центре за своим столиком сидел писарь, обложенный перьями, чернильницами и стопами бумаги и готовый запечатлеть судьбоносные для всех присутствующих решения (ибо уже тогда купцами понималась важность ведения протоколов своих собраний). На первых к управителю местах, слева и справа от него сидели самые важные в компании люди, составлявшие её руководство.
Вот сэр Эндрю Джад, один из богатейших, если не самый богатый, негоциантов Лондона. Он уже в возрасте, хотя и несколько моложе Кабота, и горностаевое манто согревает его плечи. На серьёзном лице не заметно и тени тщеславия и самодовольства. А ведь ему есть чем гордиться, ибо своим трудолюбием и упорством он превратился из простого подмастерья скорняка в высокоуважаемого члена гильдий Лондона и Кале. Настолько велико было уважение к этому человеку, что он удостоился быть избранным мэром Кале и ещё совсем недавно занимал должность лорда-мэра английской столицы, и за радение на благо королевства на этом поприще был удостоен королём рыцарского звания. И именно сэр Эндрю Джад вложил больше всех капитала в подготовку сего плаванья, став главным её компаньоном и деловым советником Себастьяна Кабота.
Рядом с этим достойнейшим негоциантом восседает его нынешний преемник в должности лондонского мэра, сэр Джордж Барнс. Чуть поодаль от них расположился Вильям Джерард, также видный купец, ныне занимающий должность лондонского шерифа. Судя по его рассудительности и деловой хватке, Кабот не сомневался, что Джерарду не избежать в один прекрасный день быть выбранным на должность лондонского мэра. А вон тот напыщенный джентльмен с тонким бледным лицом со стоящим за спиной слугой – это граф Пемброук, придворный вельможа.
«А вот графа Бедфорда не видать, – подумал Кабот, – вероятно, он очень занят и прислал вместо себя кого-то из доверенных. Впрочем, нет и маркиза Винчестера, а то я бы не был самым старым из здесь присутствующих… А как трудно мне было объединить этих, таких разных людей единой целью! Всё-таки у каждого из них был свой резон взойти на борт нашего смелого и рискованного предприятия. И ко всякому мне нужно было отыскать подход, упражняясь в красноречии и убеждая присоединиться к нашему благому делу. Ведь большинство из них первым делом надеется получить прибыль от выгодной торговли с Востоком, обойдя вездесущих португальцев и испанцев; а иные, по большей части дворяне и вельможи, преследуют политические цели, участвуя своими капиталами в предприятии под покровительством его величества; и лишь, пожалуй, два или три человека руководствуются молодым задором, любопытством и мечтой прославить свою страну. К последним уж точно можно причислить вон того молодого человека, сидящего в дальнем конце, Генри Сидни. Будь у него поболее гордости и честолюбия, он, как один из директоров компании, мог бы занять место недалеко от меня: никто не осмелился бы перечить лучшему другу короля и к тому же зятю первого королевского министра, Джона Дадли. С каким воодушевлением, и даже азартом Генри воспринял моё предложение об устройстве плавания! Ведь кто как не он вселил в сердце своего венценосного друга дух первооткрывательства и жажду покорения морских просторов. Что и говорить, я слишком многим обязан молодому Сидни – ведь он так горячо поддерживал мои планы пред лицом короля Эдварда и смог убедить герцога Нортумберлендского стать нашим компаньоном».
Чуть дальше расположились другие, менее знатные участники предприятия. По большей части то были видные лондонские негоцианты, которых легко можно было определить по богатой, отделанной мехом одежде, висевшим на груди золотым цепям и украшавшим пальцы массивным перстням. Большинство из них вложили в компанию свой капитал и стали её партнёрами, другие же были теми отважными смельчаками, готовыми рискнуть и самим пуститься в плавание вместе со своими товарами…
Оглядев всех присутствующих, будто желая ещё более сплотить их своим твёрдым взглядом, невысоким и торжественным голосом венецианец продолжил свою речь. С большим воодушевлением он поприветствовал собравшихся и вкратце напомнил им основные вехи подготовки невиданного доселе кораблеплавания, которое, по его глубокому убеждению должно было привести к величайшим открытиям в истории мореплавания и географии и затмить плавание Колумба и прочих испанцев и португальцев. Осознавая, на что особенно уповают души купцов, Себастьян Кабот не преминул упомянуть и о ждущей участников сего предприятия крупной прибыли и огромном богатстве, ибо английские купцы впредь смогут покупать восточные специи не у португальцев, а впрямую сами привозить из Китая, Индии и Пряных Островов.
Затем Кабот сообщил, что постройка заложенных на верфи в Редклифе трёх кораблей идёт по графику и в начале будущей весны, с Божьей помощью, суда будут спущены на воду, чтобы не позднее мая поднять паруса и отправиться в дальний путь. Далее председательствующий добавил, что после Рождества компании предстоит выбрать купцов и приказчиков, фурьеров и фуражиров для обеспечения будущего плавания всем необходимым провиантом, одеждой и прочим снаряжением.
– Теперь же позвольте мне перейти к самому главному, – сказал старый моряк. – Ибо нынче нам пришёл черёд выбрать и утвердить тех, кто поведёт наши суда по Mare Germanicum 42 и Oceanus Septentrionalis 43, а также дать имена нашим кораблям. Мы с почтенными директорами уже имели возможность обговорить сии предметы, и теперь осмелимся вынести на ваш суд несколько пропозиций. Не изволите ли вы начать, Мастер Джерард?
Тут из первых мест поднялся коренастый человек, облачённый в добротный камзол из тёмно-зелёного бархата, но без тех прикрас в виде лент и разрезов, которыми любили щегольнуть придворные вельможи. Лицо его подкупало своей открытостью и дружелюбием, и в то же время в нём читались острый ум и рассудительность, а волевой подбородок свидетельствовал не столько об упрямстве, сколько об упорстве и твёрдых жизненных принципах. Звали этого человека Вильям Джерард и был он преуспевающим лондонским купцом, которого недавно корпорация Сити избрала одним из его шерифов (забегая вперёд, скажем, что в дальнейшем это обстоятельство в некоторой степени сослужил службу нашему герою).
Мастер Джерард встал и повёл свою речь твёрдым и слегка возвышенным голосом. После благодарности Каботу за оказанную честь и выражения чувства глубокого уважения к собранию он сказал, что не требуется лишний раз напоминать, кто дал их компании привилегию проложить северный путь в Китай и чьему покровительству они все всецело обязаны этим шансом возвеличить страну и приумножить её и свои богатства. После этого почтенный негоциант сделал паузу и продолжил:
– Мы не пожалели потратить некоторое время над обдумыванием различных названий, и нам видится, что для самого большого нашего корабля наилучшем именем станет… «Эдвард Бонавентура»44, кое будет дано ему в честь нашего венценосного покровителя!
По залу прокатилась волна одобрительных восклицаний: «Прекрасное название!», «Правильно, Мастер Джерард!», «Слава королю!» и тому подобные радостные изречения. В воздух полетели шапки и шляпы, послышалось радостное хлопанье ладошами. Солидные купцы и вельможи оставили церемонность и веселились как простые люди на улице.
Кабот поднял обе руки, призывая всех к тишине. Когда шум понемногу улёгся, он выразил благодарность Мастеру Джерарду и попросил писаря засвидетельствовать в бумагах название первого судна, ибо судя по радостному гулу собрания, оно всех устраивало. Затем Себастьян Кабот перешёл к оставшимся кораблям и заявил, что, по общему мнению директоров компании, их именам долженствует отражать дух их предприятия, надежду и веру в непременный успех оного великого дела. Кабот напомнил про бытовавшее у моряков во все времена поверье: как назвать корабль – так он и будет плавать, после чего старый мореход тут же вынес на обсуждение собрания две лучшие, по его словам, пропозиции: «Бона Конфиденция»45 и «Бона Эсперанца»46.
На миг в зале воцарилась тишина и слышался лишь скрип пера, заносившего это предложение в протокол. Никто, кроме разве что нескольких посвящённых, не ожидал столь скорого предложения названий судам. Но через мгновение послышалось дружное одобрительное хлопанье ладош. После этого председательствующий ещё раз повторил названия всех трёх кораблей и в соответствии с правилами спросил, есть ли у кого возражения. Однако названия судам были столь удачно выбраны, что ни у кого и мысли не появилось выразить несогласие. Все были счастливы и довольны.
Но, наверное, счастливей всех в этот радостный миг чувствовал себя Себастьян Кабот. Он был так близок к долгожданной удаче. Восторженные чувства переполняли старого моряка, и он едва находил в себе силы вести собрание. Кабот лишь промолвил, что сии названия кораблей, по его мнению, как нельзя лучше подходят к их предприятию, отражают его дух, их неугасимый оптимизм и веру в успех. И в заключение речи он поздравил всех компаньонов с наречением кораблей сими вдохновенными именами и пожелал, дабы они звучали сладкой музыкой для всех присутствующих.
Несколько минут прошли в радостном обсуждении собравшимися названий, данных ещё строящимся кораблям компании. Всем они пришлись вполне по душе. После этого вести собрание и говорить от имени почтенных директоров и управителя компании взялся Мастер Вильям Джерард.
Подошло время решать, кто же возглавит плавание. Наперво надлежало выбрать человека, который поведёт корабли через холодные воды северных морей, главного кормчего торговой флотилии. После непродолжительной дискуссии было решено, что на самом большом корабле, «Эдвард Бонавентура» должен главенствовать опытнейший моряк, хорошо знакомый с морскими капризами, а самое главное – с навигацией.
Один из директоров компании, вышеупомянутый сэр Генри Сидни, статный молодой человек с благородным лицом и живыми глазами, предложил в качестве кандидата на должность главного кормчего плавания Мастера Ричарда Ченслера. Он долго и со всем красноречием, присущим придворному вельможе, повествовал о доблестях этого опытнейшего моряка, его участиях в предыдущих плаваниях и убеждал собравшихся, что мастерство вождения судов по морским просторам, образованность, знание географии, навигации и сообразительность делают из него прекрасного навигатора для готовящегося похода по неизведанному маршруту. Сидни привёл рекомендации командора Роджера Боденхэма, в тяжелейшем и опаснейшем плавании которого в Ливадию пару лет назад принимал участие Ричард Ченслер.
Когда Сидни закончил и с уверенным видом оглядывал собрание, кто-то из неугомонных купцов, решив, вероятно, покичиться своей осведомлённостью, ехидно поинтересовался, правда ли, что Мастер Ченслер уже долгое время обитает под кровом дома сэра Генри и находится у него в услужении?
– Что ж, это верно, почтенные компаньоны, что Ченслер ныне разделяет мой кров и стол. Но он не слуга мой, выполняющий повеления, а мой друг, который разделяет мои чаяния и которым я вправе гордиться. Пусть в его жилах не течёт благородная кровь, – хотя цвет у неё такой же, как и у королей и герцогов, – но именно такие люди – отважные, храбрые и, что не менее важно, образованные и умные, преумножат величие Англии на морских просторах. Я мог день ото дня наблюдать, как Ричард подобно губке впитывает знания, коими делился с ним учёнейший сэр Джон Чекэ, учитель и наставник его величества. В мои намерения входило лишь благоразумно направить процесс обучения и подготовки Мастера Ченслера. А вскоре, как намереваемся мы с достоуважаемым синьором Кабото, знаменитый учёный Джон Ди, славный своими достижениями в математике, астрономии, картографии, навигации и прочих науках, поможет нашей компании ещё лучше подготовить старших её офицеров. Впрочем, уже сегодня я не побоюсь взять на себя смелость утверждать, что совокупность уже имеющихся у Мастера Ченслера знаний о море, математике и астрономии, предыдущий опыт в навигации и мореплавании прочат ему огромное будущее. Он прославит английский флот и приведёт к удаче нашу компанию!
Но тот же саркастический голос спросил, осознаёт ли сэр Генри, что ему предстоит расставание со своим, как он его называет, другом на достаточно большой срок, а возможно даже и годы.
– Что ж, я действительно готов надолго расстаться с Ченслером, но вовсе не из-за того, что мне безразлична его судьба, или потому что сегодня я несу бремя расходов на его содержание и обучение. Нет, скорее напротив! Вам он знаком по рассказам – моим, капитана Боденхэма, мне же – по опыту; вам – по праздным разговорам и досужим пересудам, мне – по ежедневным испытаниям его жизнью. Не имеет смысла скрывать, что я преднамеренно готовил Мастера Ченслера к этому великому плаванию. И я твёрдо верю, что он – первый среди тех, кто сможет принести успех нашему предприятию и славу английской короне! И уж поверьте, ради этой великой цели и ради самого Ричарда я готов принести в жертву мои личные чувства – дружбу и привязанность к этому человеку.
Снова слово взял Кабот:
– Мне думается, почтенные члены нашей доблестной компании, что характеристики, кои сэр Генри даёт своему подопечному, а также имеющиеся у нас свидетельства о предыдущих плаваниях Мастера Ченслера, дают нам все основания остановить выбор на этом моряке. Мне же остаётся откровенно добавить, что я знал о намерениях сэра Генри и подготовке им этого моряка, и я одобрял и поощрял их. Ежели у кого-то из вас есть ещё кандидатуры, достойные обсуждения и нашего внимания и могущие потягаться с отличными качествами Мастера Ричарда Ченслера, будьте любезны, сообщить о том собранию.
Директора, купцы оживлённо заговорили между собой. Пауза затянулась на четверть часа, но никто так и не рискнул предложить какого-либо другого кандидата. Видимо, преимущества Ченслера были очень уж очевидны и Генри Сидни принял поздравления с назначением его протеже главным штурманом экспедиции.
Следующим предстояло утвердить командора всей экспедиции. Чтобы читателю было понятно, как формировались английские торговые плавания в шестнадцатом веке, мы должны сделать краткое отступление от рассказа о ходе совещания…
В те времена владелец корабля, как правило, поручал своё судно и весь его груз под управление командира плавания, который нёс полную ответственность за благополучное и безопасное путешествие, за сохранность имущества судовладельца и за получение им прибыли от торговых сделок с перевозимыми на корабле товарами. На судне также был капитан, который отвечал за готовность корабля и способность экипажа к морскому плаванию. В вояжи на небольшие расстояния капитаны обходились своими силами, а в портах и гаванях им помогали местные лоцманы. В далёких же странствиях наподобие того, о подготовке которого идёт речь, в плавание назначали кормчего или, как их тогда называли, пилота. Именно он отвечал за навигацию по бесконечным просторам морей и океанов и за то, чтобы привести корабль к тем далёким берегам и портам, являвшимся целями плавания. А потому он по праву считался человеком не менее значимым, чем капитан и подчинялся лишь командору плавания…
Снова слово взял Себастьян Кабот:
– Высокоуважаемые члены компании! Путь наших кораблей лежит мимо далёких и неизведанных земель, куда ещё не ступала нога ни англичанина и француза, ни голландца и немца. А в тех водах ещё не появлялись суда ни с английским вымпелом на флагштоке, ни со стягом какого другого европейского государства. Мы едва ли осмелимся предположить, какие встречи ждут там наших мореплавателей, что за люди обитают в тех северных землях, вдоль которых будет пролегать путь наших кораблей. Как старый и опытный моряк, я возьму на себя смелость утверждать, что лишь твёрдая дисциплина, трезвый ум, упорство и выносливость в состоянии принести успех сему первопроходческому плаванию. Пилот нашей флотилии Мастер Ричард Ченслер – знающий своё дело мореход, который проложит путь кораблям через неизвестные воды. Начальником же, адмиралом всей экспедиции я предлагаю назначить человека, умеющего управляться с людьми в самых сложных и опасных ситуациях на море, на земле и… в огне. Сей человек должен был бы зарекомендовать себя в отважном и самоотверженном служении на благо своей отчизне; от него требуется обладание трезвым умом, рассудительностью, а также большими навыками командования, с тем чтобы подчинить твёрдой дисциплине и повиновению команды судов; и, конечно же, он должен гореть пылким желанием принести пользу своей стране и пославшим его людям, дабы взять на себя многотрудную задачу верховного руководительства далёким морским походом в неведомые доселе земли… По правде говоря, выбрать такого человека среди легиона желающих стать командором нашего плавания задача была не из лёгких. После долгих поисков, переписки и множества встреч я остановил свой выбор на самом, как мне кажется, достойнейшем из претендентов. Я имею честь в этот благословенный день рекомендовать собранию сего человека, представителя знатной английской фамилии, покрывшего себя славой в доблестном служении английской короне и удостоенного рыцарского звания за свои воинские заслуги. Со множеством ран, истекающий кровью и покинутый соотечественниками он дрался до последней капли крови и был пленён с мечом в руках. Его мужество в поведении и твёрдость в руководстве не дозволили неистовым шотландцам перебороть изнурённый гарнизон и захватить английскую крепость. Сэр Хью Уилаби!
С дальней скамьи, где сидел и Генри Сидни, поднялся человек, по своей наружности разительно отличавшийся от прочих участников собрания. Могучая, можно сказать, богатырская фигура выдавала в нём воина. Одеяние его не выделялось утончённостью и богатством отделки, но было строгим и выдержанным, хотя и сшитым из отличных тканей и добротных кож. На вид ему можно было дать от сорока пяти до пятидесяти лет. Плотно сжатые губы, спокойный, смелый и уверенный взгляд свидетельствовали о бесстрашии и привычке командовать. Лицо его, испещрённое небольшими шрамами, широкое и скуластое, нельзя было назвать красивым по классическим понятиям, однако густые чёрные волосы и залихватские, по военному подстриженные усы, прямой нос и тёмные глаза, в глубине которых пряталась весёлая искорка дерзновения и вызова, придавали ему живости и колорита. В общем, внешность сэра Хью Уилаби вполне соответствовала беглому наброску, при помощи которого Кабот пытался изобразить его характер и представить заслуги.
– Высокородные джентльмены, высокочтимые негоцианты и все компаньоны сего славного предприятия, я с радостью приветствую вас и в тоже время не скрываю гордости за то, что удостоился чести притязать на должность командора этого великого плавания, – громким, но приятным голосом произнёс сэр Хью. – Клянусь честью рода Уилаби, я не из тех, кто любит бахвалиться победами и воспевать свои подвиги. Где-то я слышал такую фразу: inter anna silent musae47. Так и вместо красивых слов пусть говорят мои дела. Ни один благоразумный правитель не отправит свою армию в поход, не будучи уверенным в достоинствах её генерала. А потому я предвижу множество вопросов к человеку, дерзающему возглавить такое смелое путешествие, и готов со всей искренностью на них ответить.
Сам вид этого человека, его лаконичная речь, уверенность в себе уже вызывали доверие у собравшихся. Тем не менее, наверное, не менее часа участники компании дотошно расспрашивали этого воина о его жизненном пути, убеждениях и верованиях, имущественном состоянии, семье и друзьях. Как, зачем, почему, кто, когда, сколько, где – десятки раз звучали эти слова в вопросах к Уилаби, ведь компания должна была знать, кому вверяет своё имущество, и кто приведёт её к процветанию.
Когда, казалось, все были удовлетворены полученными ответами, а незаданных вопросов более не осталось, кто-то вдруг поинтересовался:
– Сэр, а знакомы ли вы с морским делом?
В зале вдруг повисла мёртвая тишина. Все в этот миг разом подумали: как странно, что никто не задал этого важного вопроса раньше, ведь он мог бы быть решающим. Кабот закрыл глаза. Он так желал, чтобы сей бравый командир возглавил плавание. Старый мореплаватель давно уже проникся симпатией к этому человеку. Когда пришло время искать командора плавания, Хью Уилаби сам пришёл к Каботу и изъявил желание возглавить морской поход. Поначалу управитель компании отказал ему, ссылаясь на его неопытность в мореходстве. Но на протяжении двух месяцев Уилаби ежедневно настойчиво навещал старого мореплавателя. У него он познакомился с Сидни, Джерардом и другими директорами, большинству из которых он пришёлся по душе. А вскоре упрямая настойчивость и горячее желание Уилаби победили и Кабота. К тому же поиски других командоров для грядущего плавания оказались бесплодными: в каждом из прочих претендентов Кабот находил тот или иной изъян, могущий быть пагубным для руководства флотилией. И если сейчас компаньоны не утвердят командора, то это может затянуть подготовку всего плавания, чего очень опасался Себастьян Кабот. Всё же он был уже стар, а так хотелось увидеть воплощение в жизнь своей давней мечты, которая как Полярная звезда вела его через всю его долгую жизнь.
Однако ни один мускул не дрогнул в лице Хью Уилаби при этом убийственном вопросе. Благородный воин ответил со всей своей прямотой и откровенностью, что всё его знакомство с морем ограничено плаваниями в Лейт и Бервик для участия в военных действиях в Шотландии, а также через Канал в Кале, дабы доставить принцессу Анну Клевскую ко двору её будущего супруга, короля Генриха. А поскольку в этих плаваниях он принимал участие лишь как беззаботный путешественник, то Уилаби честно признал, что разбирается в искусстве кораблевождения не более чем пахарь – в составлении диспозиции.
– Но, клянусь моим рыцарским званием, я готов всецело доверяться Мастеру Ченслеру во всех вопросах навигации кораблей! – добавил отважный воин. – Именно он – кормчий флотилии!
Простота и искренность ответа вызвали среди собравшихся одобрительный шёпот. Кабот облегчённо вздохнул и открыл глаза. Ещё пара малозначащих вопросов и сэр Хью Уилаби был назначен командором плавания.
Затем участники компании также утвердили капитанов всех трёх судов. Ими стали Вильям Джефферсон на «Бона Эсперанца», Стивен Бэрроу на «Эдвард Бонавентура» и Корнелиас Дарфурт на «Бона Конфиденция». С целью лучшей управляемости флотилией решено было, что кормчему Ричарду Ченслеру долженствует расположиться на крупнейшем корабле – галеоне «Эдвард Бонавентура», а командору сэру Хью Уилаби – на втором по величине корабле «Бона Эсперанца». После столь важных назначений собравшиеся принялись за обсуждение прочих, хоть и менее важных, но неисчислимых вопросов, связанных с подготовкой к плаванию и которые вряд ли будут интересны читателю.
Так в середине осени 1552 года протекала отчасти будничная и в чём-то торжественная встреча директоров и участников компании с таким длинным названием «Купцы-предприниматели Англии для открытия земель, стран, островов и владений ». Здесь мы и закончим эту главу, чтобы вновь вернуться к нашим пилигримам.
Часть 4 Рисли. Уилаби
Глава XXIII
Особняк Рисли-Холл
Если читатель удосужиться проезжать через Рисли, его внимание обязательно привлечёт большое старинное здание, стоящее в окружении величественных деревьев. Это и есть Рисли-Холл. Хотя здание, которое увидели наши путники, было чуть иным: стоявший здесь особняк шестнадцатого века был сильно повреждён пожаром и отстроен заново в восемнадцатом столетии. Однако, зодчие постарались воссоздать первоначальный облик здания, а поэтому мы полагаем, что особняк, каким он предстал перед нашими героями в 1552 году, не очень сильно отличался от теперешнего его вида, что позволяет нам дать его краткое описание.
Итак, особняк Рисли представлял собой большое величественное здание, которое показалось Ронану настоящим дворцом. Он непроизвольно сравнил увитые плющом до самой крыши стены, замысловатые фигуры балюстрады балкона, вычурные оконные ставни, резные карнизы с незатейливостью отделки и строгостью архитектуры своего маленького замка далеко на севере меж высоких шотландских холмов. Это было то же самое, как сравнивать разукрашенную царскую галеру с развевающимися вымпелами, предназначенную для демонстрации величия её повелителя, с небольшой юркой ладьёй с высоким парусом и несколькими пушками по бокам, чтобы разить неприятельские корабли и увёртываться от их огня. Особняк окружала низкая каменная ограда, которая не стала бы помехой даже для ребёнка. Ворота были небрежно распахнуты и открывали вид на зелёную лужайку перед домом. Высокие окна первого этажа были заделаны изнутри решёткой, однако, то ли из экономии, то ли вследствие беспечности, на втором и третьем уровнях окна были не зарешечены и представляли лёгкий способ проникновения в дом для злоумышленника, обладавшего достаточной ловкостью тела. Над парадным входом нависал массивный, вырезанный из камня фамильный герб с двойными гирляндами, эмблематическими цветками, короной и рыцарским шлемом, и с выбитым сверху девизом «Verite sans peur», что означало «Правда без страха», а охраняли дверь внушительные изваяния двух львов с гордым взглядом и величественной гривой. Из нескольких больших каменных труб, располагавшихся вдоль конька всей покрытой червонного цвета черепицей крыши с крутыми откосами, приветливо струился дымок.
– Завидный домик, ей-ей, – высказался Эндри. – Однако ж ночью любой бродяга может в него забраться. Там где беспечно стерегут, воришки завсегда найдутся…
Впрочем, едва они вошли в ворота, к ним тут же приблизился слуга в ливрее и настороженно, хотя и учтиво поинтересовался целью их визита в особняк, а из будки позади ворот вышел заспанный привратник – угрожающего вида детина с алебардой, вслед за ним появились два огромных грозно рычащих мастиффа. Но стоило Ронану упомянуть имя Хью Уилаби и сказать, что у него письмо к хозяину дома от его старого друга, как на лице слуги появилась почтительная улыбка. Он велел отвести лошадь в конюшню, а сам проводил Ронана и его слугу в дом и оставил их в большом зале с украшенным резными узорами потолком и высокими окнами с разноцветными стёклами, сообщив, что леди скоро спуститься.
В течение нескольких минут ожидания Ронан с интересом разглядывал большие портреты, украшавшие отделанные дубовыми панелями стены. На одних, более старых, судя по потемневшим от времени рамам, были изображены рыцари в доспехах, но с обнажённой головой, их гордый взгляд был полон вызова и отваги. С других портретов взирали торжественные лица персон в менее воинственном облачении и с тенью задумчивости на челе. Однако Ронан, что не удивительно для молодого человека его возраста, более провёл времени перед изображениями прелестных дам в красивых пышных одеждах. Он так засмотрелся на портреты, что не заметил, как в залу тихо вошла леди Джейн Уилаби, и лишь энергичное подёргивание Эндри за полу его плаща заставило юношу обернуться.
Перед ним стояла уже не первой молодости женщина, печальное лицо которой ещё несло остатки увядающей красоты; золотистые волосы были аккуратно убраны под сиреневую накидку, тёмно-синее бархатное платье, хотя и богато украшенное серебряной отделкой, было подчёркнуто строгим по своему покрою.
– Мадам, прошу прощения, что я так увлёкся созерцанием этих великолепных портретов и забыл про всё на свете. Я счастлив приветствовать повелительницу Рисли-Холла, супругу отважного сэра Хью леди Джейн Уилаби, – неуклюже поклонившись, сказал Ронан чересчур торжественным и высокопарным тоном, чего он сам тут же и смутился.
– Увы, юноша, – мягким голосом, оттенённым грустными нотками, ответила леди Джейн, – как мне хотелось бы, чтобы повелителем этих просторных владений был сам Хью Уилаби… Итак, какие же обстоятельства привели вас в этот дом? Верно ли то, что у вас есть письмо к моему мужу, как утверждает дворецкий?
– Действительно так, мадам. Меня зовут Ронан Лангдэйл и я сын барона Бакьюхейда, к вашим услугам, мадам. Я хотел бы вручить письмо сэру Хью и переговорить с ним по весьма важному делу, касающемуся меня и моего родителя, сэра Роберта Лангдэйла.
– Сэра Роберта Лангдэйла? – задумчиво переспросила леди Джейн, пытаясь что-то вспомнить. – Ах, надеюсь, мой рассудок ещё не помутился от печальных дум и не обманывает меня, но мне мнится, будто мой супруг как-то упоминал это имя в связи с его участием в военных действиях в Шотландии, и упоминал его, как мне смутно помнится, с чувством благодарности.
– Я воистину польщён, леди Уилаби, что ваш благородный супруг не забыл о той незначительной услуге, оказанной ему моим отцом много лет тому назад.
– О, молодой человек, мой муж Хью человек весьма благодарный и никогда не забывает об изъявленных ему благодеяниях, – с лёгкой улыбкой и чувством гордости сказала хозяйка дома… и тут же добавила с тенью упрёка: – и порой даже в ущерб нашему семейному благоденствию, ибо для него честь и долг стоят превыше покоя близких людей.
– Надеюсь, мадам, что маленькая просьба моего родителя не принесёт излишнего беспокойства вашему дому… Но, ежели вы сочтёте её неуместной, то, клянусь святым Андреем, я готов буду тотчас покинуть ваш кров!
– Вы говорите как благородный человек, Ронан Лангдэйл. Хотя мне и не ведомо, что за просьба содержится в вашем послании, но смею полагать, что она вряд ли сможет причинить ещё большие волнения этой семье, – сказала леди Джейн со вздохом. – Ничто не в состоянии превзойти те тревоги, кои как вековые призраки много лет витали под этими сводами и которые, увы, готовы вновь вернуться и обрести здесь пристанище.
Хотя Ронан и догадывался из разговора с доктором Чаптерфилдом об истоках печали леди Уилаби, а именно о её нежелании отпускать супруга в авантюрное путешествие, но осторожности ради, помня наставления пастыря, предпочёл не касаться этой щекотливой темы, хотя его доброе сердце очень хотело бы выказать сочувствие бедной женщине.
– С вашего позволения, леди Уилаби, могу ли я спросить, когда смогу удостоиться чести свидеться с сэром Хью, который, как слышал я, в настоящее время отсутствует?
– Отсутствует… увы… не только в настоящее, но и во все времена: и в прошлом и в будущем, – промолвила леди Джейн, затем посмотрела на Ронана с нежной грустью, заставила себя улыбнуться и ответила: – Простите, юноша, если я позволила проявиться моему унылому духу и показалась негостеприимной к нашему дорогому гостю. Я ожидаю приезда моего супруга через несколько дней… и умоляю вас, когда вы его увидите, не говорите ему про мою меланхолию, с которой я вас встретила… Вы же можете пользоваться гостеприимством Рисли-Холла и оставаться в нашем просторном доме так долго, как вам вздумается. Полагаю, Джордж не даст вам возможности скучать.
Последние слова были произнесены леди Уилаби с лёгким пренебрежением, по которому можно было понять, что отношения мачехи и пасынка были не так уж и безоблачны.
Ронану с Эндрю отвели добротную комнату со спальней, специально предназначенную для гостей. Молодые шотландцы туда и удалились, чтобы привести себя в порядок после долгой дороги. Эндри вскоре убежал на конюшню глянуть, хорошо ли позаботились об Идальго, в то время как Ронан предался раздумью, созерцая из окна пустынный и неухоженный парк позади дома. Однако не прошло и получаса, как по коридору раздались громкие шаги и дверь с шумом распахнулась.
– Где же наш юный шотландец? Дайте мне взглянуть на Ронана Лангдэйла, сына отважного барона Бакьюхейда! – воскликнул вошедший и, рассматривая Ронана, продолжал с развязной непринуждённостью: – Хм, а он не похож на северянина, как я их себе представлял. Где же эта копна рыжих волос, суровое, обветренное лицо и свирепый взгляд в глазах? Да на нём нет ни кольчуги, ни кирасы, ни меча с которыми, говорят, шотландские дворяне не расстаются даже в постели… Я бы сказал, что он больше напоминает моего друга Джона Керзона из Кедлестон-Холла. Ясный и чуть наивный взгляд как у оксфордского школяра с одной стороны, а с другой – гордая прямая осанка и бравая стать, выдающие благородного человека, умеющего постоять за свою честь и рыцарские идеалы. Ах, да! Я так бесцеремонно рассматриваю нашего гостя и сужу о нём, а сам и не представился: Джордж Уилаби к вашим услугам!
Ронан, ошеломлённый таким неожиданным вторжением, пришёл, наконец, в себя и смог рассмотреть сына Хью Уилаби, который во время своей речи успел крепко пожать руку гостя, похлопать его дружески по плечу, затем с радостным видом усесться на покрытый витиеватой резьбой стул и вытянуть ноги, на которых ещё были сапоги для верховой езды. На вид Джорджу было лет около двадцати пяти, одного с Ронаном роста и с такими же тёмными волосами, телосложения он был плотного, но в движении лёгок. С лица младшего Уилаби не сходила доброжелательная улыбка, а глаза горели озорным огоньком. Казалось, он был само радушие и веселье. Ухоженное, пышущее здоровьем лицо, аккуратно подстриженная крохотная бородка и щегольской покрой одежды говорили о беззаботной жизни, желании покрасоваться и весёлом времяпровождении в хороших компаниях. Очевидно, что по характеру он был полной противоположностью леди Уилаби, что, возможно, и объясняло причину их разногласий…
– Рад вас приветствовать, сэр, – скромно ответил шотландец на пылкую речь Джорджа. – Надеюсь, я не доставлю вам большого беспокойства. В ожидании прибытия сэра Хью, которому я должен вручить письмо от моего отца, леди Джейн милостиво позволила мне погостить в вашем дворце.
– Дворце! Ха-ха-ха! – расхохотался младший Уилаби искренним смехом. – Да наш неказистый домик такой же дворец, как церковь Всех Святых, где служит преподобный Чаптерфилд, – собор святого Павла. Впрочем, не будь так щепетилен и скромен. Ты, дорогой Ронан, напротив, скрасишь наше деревенское бытие, по крайней мере, моё, ибо леди Джейн развеселить в последнее время не смогла бы и армия шутов и комедиантов, собранная со всей доброй Англии.
– Я и в самом деле заметил, что леди Уилаби выглядит весьма грустной, – согласился Ронан.
– И заражает меланхолией всех в этом доме подобно эпидемии чумы – клянусь всеми снадобьями и микстурами на свете! – которая свирепствовала в этих краях, когда я был в твоих годах. Разве ж плохо, что мой отец возглавит далёкое плавание за семь морей, что прославит наше имя в веках? Этой леди надобно гордиться и восхищаться таким супругом, подобно тому, как я восторгаюсь и упиваюсь славой моего родителя! Эх, дорогой Ронан, не понять нам этих женщин. Мне кажется, они как курицы – всего-то и заботятся, что об уютном насесте. Не поверишь, как мне осточертели эти чопорные и бестолковые девицы из окрестных поместий, мнящие себя недотрогами и воздыхающие лишь об одном – как бы поскорее выскочить замуж, что, по правде говоря, порой приятней провести время в какой-нибудь таверне в Дерби или Ноттингеме в компании с милыми и уступчивыми простолюдинками. Кстати, самое уютное и приятное местечко в окрестностях, скажу я, это старинная таверна под манящим названием «Извечный путь в Иерусалим», что у подножия Ноттингемского замка. И по этой «извечной дороге» вино льётся как река Иордан, потешники весело пляшут, менестрели играют на цитоле и ребеке и поют баллады про Робина Гуда, а красивые девушки не противятся поцелуям. Смею надеяться, ты составишь мне завтра компанию в посещении этого райского местечка?
– Право слово, сэр, – начал было Ронан, - ...
– Эй, дружище, – перебил его молодой Уилаби, – оставь эти условности нашего сословия и зови меня просто Джордж, как брат зовёт брата, а друг друга.
– Признаться честно, Джордж, – продолжил юный шотландец, – да не в обиду вам будут мои слова, но я не приучен к весёлым компаниям и обильным возлияниям, и к тому же полмесяца в седле и на холодных постоялых дворах изрядно меня измотали, и с вашего позволения я предпочёл бы тихий отдых в Рисли-Холл в ожидании прибытия сэра Хью Уилаби.
– Эгей, приятель, да ты, похоже, не привык к радостям жизни. А она, брат мой, скоротечна, словно свеча: вечером зажжёшь, а к утру один огарок останется.
– Не буду спорить, Джордж. Однако, я не могу позволить себе думать о мирских утехах до той поры, пока не исчезнет забота о моей будущности и не развеются все сомнения.
– Так ведь, в развлечениях все заботы и забываются как слова молитвы после окончания церковной службы, ха-ха-ха! А разве тревоги не растворяются в вине будто соль в горячей похлёбке?
– Позволю заметить, – возразил Ронан – что ежели молитва живёт не только на губах, но и в сердце, то слова её не забудутся, а вкус соли не исчезает, а передаётся еде.
– Подумать только, ты ведь рассуждаешь, дорогой Лангдэйл, будто благочестивый церковник или высокомудрый философ, а не как юноша с бурлящей в венах кровью, горящий желанием испробовать все радости и удовольствия бытия. Ежели б я не знал, что передо мной сын бравого лорда Бакьюхейда, я бы, верно, подумал, что ты готовишься к постригу, – с некоторой досадой произнёс Джордж.
В этот щекотливый момент, когда Ронан, с одной стороны, боялся обидеть своего гостеприимного хозяина, а с другой – не хотел присоединяться к его разгульям, к счастью, появился Эндри, который бойко и весело доложил своему господину, что Идальго рассёдлан, вычищен и помещён в стойло с полными яслями и, заметив тень озабоченности и смущения на лице своего хозяина, добавил как бы между прочим:
– Ей-ей, ваша милость, сдаётся мне, однако ж, что Идальго вскорости кукарекать станет.
– Ты, что, совсем спятил, милый мой? – удивился Ронан. – Где же это ты видал, чтобы конь птицей стал кричать? Разве что в сказках да небылицах что детям малым рассказывают. Но раз уж ты пажом при мне состоишь, то не пристало тебе нелепицы говорить.
– Эх, мастер Ронан, да ежели вы только видали, каким взглядом Идальго смотрел на кобылиц в местной конюшне, то быстро бы уразумели, что он не сегодня-завтра главным петухом в курятнике станет, – весело ответил Эндри с озорной улыбкой на лице.
Джордж тем временем с восторгом взирал на парнишку.
– Эй, Ронан, дружище, а твой ординарец или паж, как ты толкуешь, отличный малый – весёлый как утренний жаворонок, клянусь небом и адом, куда мы непременно попадём, если не застрянем в чистилище. Впрочем, знаешь ли, преподобный Чаптерфилд отвергает напрочь существование такового места, с чем я решительно не могу согласиться. Ибо, представь только, насколько удобно существование подобного заведеньица! Выходит, всю жизнь позволительно совершать маленькие грешки, оставаясь притом истым христианином и зная, что в чистилище все согрешения с тебя рано или поздно смоются, как осенние дожди и ветра обдирают пожухлую листву с деревьев в нашем парке.
– Я повстречал доктора Чаптерфилда у церкви и он показался мне чересчур категоричным в своих суждениях, – Ронан рад был переменить ход беседы.
– Ох уж, этот учёный пастор! Он, видишь ли, в своё бытие оксфордским студентом набрался реформистских помыслов среди университетской братии. Но, поверь мне, преподобный пастырь хоть и проповедует доброту и человеколюбие, а сам ненавидит папистов пуще сарацин, будто они не люди вовсе. Впрочем, этакое религиозное рвение и общеизвестная приверженность к реформаторству нашего викария избавили церковь Всех Святых от разграбления в ту пору, когда король Гарри разгонял монастыри. Мы с доктором Чаттерфилдом48, говоря начистоту, плохо ладим, ибо он не упускает случая попрекнуть меня каким-либо из смертных грехов, а то всеми вместе взятыми. Однако ж, клянусь душой, я на старика не в обиде. Он хоть и мнит себя пророком истой веры, но дальше проповеди дело у него не заходит, потому как разумеет, на чей земле его божий храм стоит, и кто его приход содержит. Да и нам, Уилаби долженствует быть только благодарными учёному мужу, который взялся составить наше фамильное древо. К тому же он часами просиживает с моей мачехой, пытаясь, поддержать её рассудок в добром здравии, что я сделать, как ты разумеешь, бессилен. Даже если он склонит её к своей протестантской вере, то что ж с того? Впрочем, довольно философствовать о серьёзных темах, которые словно ржа, разъедающая сверкающую сталь клинка, разжижают весёлое настроение и приводят к упадку духа. Лучше уж я поприветствую тебя, спев беспечальную песню.
Джордж отдал приказание и слуга принёс цитоль, которая напомнила бы читателю чем-то гитару наших дней. Уилаби взял инструмент, провёл пальцами по струнам и запел весьма приятным бархатистым голосом. По тому, как он искусно владел инструментом и как благозвучно пел, можно было заключить, что Джордж давно и часто предавался такого рода развлечению. Как потом сказал исполнитель, эта песня была написана самим королём Гарри. Известно, что этого монарха отличала образованность и любовь к искусству (хотя охоч он был и до прочих монарших развлечений, не столь невинных). Стоит заметить, что сочинение песен той эпохи редко соответствовало стихотворным правилам наших дней, главным же являлось мастерство исполнителя и мелодия. В общем, в переводе песня могла бы звучать примерно так:
Компанию, компанию,
Весёлую компанию
Любить всегда я буду,
Доколе я живу.
Ропщите все, кто хочет,
Лишь отрицать не смейте,
Наш бог благословенен
За жизнь, что я веду
В весёлых развлечениях.
В охоте, песнях, танцах
Душа моя и сердце
В простых земных утехах
Черпаю я блаженство.
Так кто же мне помеха?
Присущи юным шалости
Весёлые иль злые,
Но всё же развлечение
В компаниях нескучных –
Остротами игривыми
Стрелять и защищаться.
Безделье это всех
Пороков госпожа.
Кто возразить посмеет,
Что игры бойкие и смех
Не лучшие из всех утех?
Компания честная – добродетель,
Пороки, вам спасение искать.
Компания добра или плоха,
Тут всякий волен выбирать.
И лучшее настанет,
А худшее оставит,
Так я полагаю;
Добродетель применяй,
А пороки избегай,
Так я поступаю.
После этой весёлой песенки долго ещё шёл разговор между молодыми людьми. Джордж нашёл в госте новое для себя развлечение, до которых он, судя по всему, был весьма охоч. Быстро поняв всю неопытность Ронана в светских делах, он пытался его «просветить», не переставая расписывать все прелести жизни. Иногда он не чурался и подтрунивать над неискушённостью Ронана, но его дружелюбные насмешки, которые человек более гордый и надменный чем наш герой принял бы за оскорбления, воспринимались шотландцем лишь как добрые шутки. Такая наивность и благодушие гостя немало подкупали Джорджа, и он откровенно поведал новому другу про свои непростые отношения с леди Джейн, посетовал на наскучившую жизнь в поместье и желании поселиться, хотя бы на время, в Лондоне и несколько «развлечься», чему препятствовал наказ отца в его отсутствие взять заботу об усадьбе и леди Уилаби с маленькой Дороти. В свою очередь Ронан доверчиво и со многими подробностями рассказал про свои злоключения, про обучение в монастыре, про возвращение домой, исчезновение своего наставника Лазариуса и преследовании могущественными Гамильтонами. Узрев склонность шотландца к наукам и книгам, Джордж объявил, что в доме есть неплохая библиотека и что Ронан может свободно рыться в её недрах. А наутро почти друзья – а иначе нельзя было назвать установившиеся между новыми приятелями открытые и доверительные отношения, несмотря на некоторые различия в возрасте, склонностях и воззрениях, – договорились устроить охоту в местном лесу, изобиловавшем всяким мелким зверьём.
Так, в тишине и спокойствии прошли несколько дней. Охота в это время стала любимым времяпровождением Джорджа, которому так и не удалось увлечь своего гостя более весёлыми и разгульными развлечениями. Младший Уилаби и Ронан разъезжали бок обок по окрестным лесам и лугам в сопровождении ловчих и йоменов, улюлюканьем и криками поднимавших из пожухшей травы зверя, за которым тут же пускалась свора гончих и наши всадники. Так же радушный хозяин не упустил случая похвастаться своими кречетами. Надо сказать, что Ронан показал завидное мастерство в науке охоты, чем снискал немалое уважение старшего товарища, и которое в некоторой степени искупало увиливание юного шотландца от весёлых пирушек, на которые его зазывал хозяин. Джордж, в свою очередь, проявил отменное музыкальное мастерство; кроме цитоли он неплохо владел лютней и виолой, а также превосходно пел, чем доставил шотландскому гостю немалое этим удовольствие.
Леди Джейн тем временем вела достаточно уединённый образ жизни, проводя многие часы в окружении своих прислужниц и нянек, ухаживавших за малюткой Дороти. Иногда из её покоев слышались печальные звуки арфы или лютни. Ронан редко её встречал, кроме как за трапезой, но не раз наблюдал из окна, как на рассвете леди в полном одиночестве прогуливалась по пустынному осеннему парку, усыпанному опавшими листьями.
Почти ежедневно молодой Лангдэйл встречал доктора Чаптерфилда, который бросал на него многозначительные взгляды и проходил в покои хозяйки дома. Однажды добрый пастырь пригласил юношу к себе, намекнув, что он мог бы ещё дальше углубиться в генеалогию рода Уилаби и поведать не одну достопамятную историю из жития этой фамилии. Но взявший гостя под свою опеку Джордж непременно находил повод, чтобы не допустить этих бесед, опасаясь влияния нравоучительных речей пастора на юного шотландца. А потому общение Ронана с его преподобием ограничивалось обеденными трапезами, к которым по установившейся в особняке традиции преподобный Чаптерфилд мог свободно присоединяться и чем он редко когда отказывал себе в удовольствии воспользоваться. Излишне говорить, что учёный священнослужитель испытывал куда бо льшую симпатию к образованному и сдержанному шотландцу, нежели к начитавшемуся увеселительных романов и беззаботному Джорджу. Однако, его преподобие никак не мог оторвать любопытного юношу от времяпровождения, навязываемого тому чересчур гостеприимным хозяином.
Иногда, впрочем, Ронану удавалось избавиться от назойливой опеки младшего Уилаби, и тогда он с удовольствием предавался чтению книг, которыми была наполнена библиотека в особняке. Чувствовалось, что книги собирались здесь давно и бессистемно, безо всякой особой цели. На полках стояли потрёпанные фолианты астрологов с изложением зависимости будущих событий от положения небесных светил, популярные в те времена рыцарские романы с описанием заколдованных замков, прекрасных дев, ради которых бесстрашные рыцари ломали мечи и скрещивали копья на турнирах, романтические поэмы на итальянском и французском языках, монументальные исторические хроники, богословские трактаты. В общем, в большом готическом зале Ронан обнаружил огромную коллекцию разнообразнейших книг, из которых он выбрал выглядевший относительно новым том со странным названием Утопия . Юноша прочитал книгу буквально за три дня или, правильнее сказать, три ночи. Читатель будет, наверно, несколько разочарован, когда узнает, что не искушённый в царивших тогда социальных мировоззрениях, не познавший ранее работ прогрессивных мыслителей своего времени Ронан воспринял книгу всёго лишь как рассказ о путешествии на далёкий остров, где всё устройство жизни отличалось от того, что было вокруг…
Как опытный мэтр печётся о просвещении своих питомцев, так и Ронан не забыл о своём верном слуге, обучение которого он давно поощрял и сам тому способствовал. А потому и для Эндри нашлось увлекательное чтиво, хотя оно и представляло собой самую тонкую (и к тому же самую потрёпанную) книжку, какую только смог сыскать для него Ронан на пыльных полках. То был небольшой роман с написанным по-французски названием – «Le Morte D’Arthur», в котором повествовалось о рыцарских подвигах короля Артура и рыцаря Ланселота, о волшебнике Мерлине и прекрасной Гиневре. Читая эту занимательную книжку, смекалистый мальчишка успешно припоминал навыки в грамоте, которой он ещё в прежние времена в Крейдоке выучился понемногу у своего хозяина. Но непоседливый Эндри был не в состоянии выдержать за чтением более часа. За первые два-три дня он успел выведать, высмотреть и вынюхать всё в доме. Проворный и наблюдательный паренёк перезнакомился со всеми слугами в «замке без стены», как он называл особняк Рисли, а по вечерам пересказывал мастеру Ронану ходившие меж челяди слухи, относящиеся к хозяевам поместья, дополняя всё это своими потешными замечаниями. Впрочем, в словах слуги для Ронана не было ничего нового, чего бы он ни заметил сам либо не узнал у откровенного Джорджа или разговорчивого доктора Чаптерфилда. Зато весёлый и юркий шотландский парнишка быстро стал всеобщим любимцем в доме. Он беззастенчиво шнырял по всему особняку, избегая лишь господских покоев, не упускал случая подсобить кому-либо из челядинцев, будь то повар или конюх, или завести озорную беседу с молоденькой девочкой-прислужницей. Всей челяди полюбился шустрый худощавый паренёк, разговаривавший со смешным выговором, отчего его шутки казались ещё более потешными. Глядя на своего слугу, Ронан с доброй иронией напомнил Эндри о его былой неприязни к англичанам, на что мальчишка ответил, что всякое стадо состоит не только из свирепых быков, но и безобидных тёлок, и что ежели вожак стаи не рычит, так и остальные собаки молчат. Словом, закончил Эндри, эти англичане не так уж и сильно от нас отличаются, разве что лучше откормлены и мычат протяжнее.
При разговорах с Джорджем Ронан не раз пытался выведать у того, каков он из себя, сэр Хью Уилаби, таков ли как описывал его барон Бакъюхейда. Но когда разговор заходил об его отце, Джордж становился непривычно сдержан, из чего Лангдэйл заключил, что кутила и сибарит сын всё же испытывал некую боязливую почтительность к грозному родителю. Со слов своего друга Ронан верно догадался, что твёрдость и решительность лежали в основе характера сэра Хью, который хотя и испытывал должные чувства к своей семье, но был не настолько сентиментален, чтобы отказываться из-за неё от своих возвышенных идей и честолюбивых намерений. По словам младшего Уилаби, его отец, рыцарь по титулу и военачальник по призванию, вознамерился теперь стать командором по должности и повелителем на море, чему он, Джордж был бесконечно рад, ибо морские подвиги добавятся к ратной доблести и ещё более прославят род Уилаби. Впрочем, Ронан был уже не столь наивен, чтобы не понять, что Джордж хотел бы избавиться, по крайней мере, на некоторое время от тяготившей его последние пару лет опеки родителя и стать полновластным хозяином собственной жизни, прелести которой он так красочно расписывал ранее своему гостю…
Прошла уже почти неделя после прибытия Ронана Лангдэйла в Рисли, а Хью Уилаби всё не приезжал и не присылал известий. Леди Джейн стала питать надежду, что у её мужа возникли некие трудности в назначении его командором плавания. Может быть, нашёлся другой человек, не уступающий Уилаби в мужестве и отваге, и опытный в отличие от Хью в морском деле, и тогда, даст Бог, хозяину Рисли-Холл придётся остаться дома.
У Джорджа по понятным причинам такая возможность вызывала тревогу. Он уже видел себя полновластным владельцем родового поместья и хозяином своего времени на несколько ближайших лет, ибо прекрасно отдавал себе отчёт о возможной продолжительности морского плаванья на другой конец света. Джордж полагал, что мог бы на некоторое время оставить управителя в поместье, а сам поселиться в заманчивом Лондоне, куда его давно уже зазывал Джон Керзон, у которого там был прекрасный дом. Неужели все его грёзы о бескручинной жизни, светских увеселениях, весёлых пирушках с друзьями, медвежьих боях и прочих столичных развлечениях останутся лишь мечтами, и он вынужден будет тратить подходящую к концу молодость на заботу о маленькой сестре и вечно печальной мачехе?
А вот доктор Чаптерфилд ждал приезда своего покровителя с радостным волнением, ибо ему не терпелось преподнести владельцу поместья начертанное им генеалогическое древо фамилии Уилаби, начиная от самого сэра Ричарда де Уилаби и заканчивая малышкой Дороти и её племянниками, детьми славного Генри Уилаби.
Лишь Ронан оставался спокоен и терпеливо дожидался сэра Хью, от которого он вправе был чаять протекции и участия в своей судьбе. Юноша уже сам стал строить возможные планы своего обустройства в Англии. Не будучи тщеславным, он подумывал о том, чтобы при содействии доктора Чаптерфилда устроиться в колледж в Оксфорде, где, благодаря своим обширным познаниям в науках и языках он мог бы получить должность тьютора. Не исключал Ронан и возможности стать учителем в богатой дворянской семье, где он мог бы преподавать не только науки и языки, но и физические упражнения вкупе с военным искусством. Одного лишь не желал юноша – оставаться рядом с Джорджем Уилаби, который хоть и был честным и добрым приятелем, но вёл, по мнению Ронана, чересчур уж беспечную и разгульную жизнь, понапрасну тратя свои молодые годы. Ронан питал надежду, что ему не придётся много лет жить в этой стране. Напротив, он мыслил, что вскоре положение дел в Шотландии переменится, и преследующий его не ведомо за что Шательро потеряет своё регенство и станет неопасен. Тогда он и сможет вернуться на родину. А пока юноша хотел посоветоваться с сэром Хью, в ком он по наитию, пока лишь по рассказам других людей чувствовал человека, который мог бы стать ему добрым советчиком и надёжным покровителем. Одно лишь смущало Ронана – то, что через некоторое время Хью Уилаби, этот отважный в прошлом воин, а ныне дерзновенно жаждущий новых открытий командор надолго уплывёт в восточные страны, и юноше придётся остаться без его протекции на продолжительное время, если не навсегда. «А почему бы не … – в голове Ронана словно комета промелькнула дерзкая мысль. – Но нет, это невозможно! Я видел-то море лишь издали, да и плавал только на утлой лодчонке по нашему крохотному озерцу, гладь которого и волновала-то всего лишь лёгкая рябь. А здесь – огромные корабли с наполненными ветром парусами, высокими бортами и реющими на мачтах стягами, летящие по огромным крутым волнам навстречу неизведанным землям». Ронан вздохнул и тут же отбросил эту безрассудную идею.
Когда человека посещает вдруг безумная мечта, это сродни возникновению юношеской любви, которая приходит невзначай и сразу зажигает сердце. И если зёрна любви падают на благодатную почву верной души и преданного сердца, то они всходят вначале маленькими ростками симпатии и робкой привязанности, которые постепенно превращаются в стройные побеги необоримого влечения с распускающимися бутонами возвышенных чувств, и следом они вырастают в крепкие дерева непреходящей истинной любви. Так и с мечтой, которая рождается сначала из дерзновенного помысла, и если идея эта сладостна индивидууму и гармонирует с его склонностями, пусть даже и неосознанными, то иллюзорные грёзы из мечтаний перевоплощаются в ярчайшее устремление. Похожее случилось и с Ронаном Лангдэйлом, который поначалу отмахнулся от посетившей его мысли, показавшейся ему чересчур уж нелепой. Но когда он оставался наедине, грёзы о дальних путешествиях вновь и вновь непроизвольно всплывали в мыслях юноши. Ему мерещились исчезающие за горизонтом паруса, бесконечное небо над необозримыми океанскими просторами, неведомые берега с крутыми утёсами, стонущие от ветра мачты, крики чаек. Даже Эндри заметил, как в последние дни стал задумчив его хозяин, а иногда, уходя в себя, его взор мечтательно устремлялся вдаль, а глаза лихорадочно блестели. Мальчишка не мог взять в толк, с чем связана вдруг такая перемена в его господине, и лишь интересовался, здоров ли тот. Ронан, будто пойманный врасплох за чем-то неприличным, смущался, спускался с небес на землю, стряхивал с себя назойливое наваждение и снова принимал свой обычный вид. Но раз за разом, день за днём неотступные грёзы возвращались вновь и вновь, а картины далёких странствий рисовались юноше в новых, ещё более ярких и притягательных красках. Более трезвые рассуждения, однако, говорили Ронану, что ему, получившему прекрасное образование наследнику шотландского баронства, не пристало думать о плавании в компании простых английских моряков и наравне с ними выполнять черновые обязанности, ведь претендовать на более высокое положение на корабле ему не позволяла его полнейшая неосведомлённость в морском деле. Но вновь перед глазами юноши вставала манящая даль морских просторов, а тайны неизведанных земель притягивали, словно там было спрятано что-то сакральное и важное для всей его жизни. Словом, в душе Ронана здравый смысл и трезвый рассудок боролись с безумными соблазнами. И хотя наш мечтатель и сознавал всю тщетность и нереальность своих грёз, но ему было не так уж и легко сопротивляться таким сладостным думам.
С такими различными чувствами, настроениями и чаяниями обитатели особняка Рисли-Холл ожидали прибытия домой сэра Хью Уилаби.
Глава XXIV
Сэр Хью Уилаби
Однажды рано утром Эндри, ходивший по привычке проведать Идальго, с хитрым видом доложил своему хозяину, что в конюшне за ночь странным образом прибавилось постояльцев.
– И, тебе, должно быть, ведомо, кто приехал на этих лошадях, – сказал Ронан. – Я не поверю, что ты уже всё не разузнал у прислуги.
– Ей-ей, а надобно ли было мне кого-то расспрашивать, ваша милость, когда на гвозде висит прекрасное седло с латунными планками на высокой луке, а рядом сумки из инкрустированной кожи, а на них вышит герб наподобие того, что над главным входом на каменной плите выгравирован?
Ронану стало понятно, что прибыл тот, кого все так ждали – кто-то с надеждой, кто-то с радостью, а кто-то с опаской.
Читатель уже кратко знаком с внешностью Хью Уилаби. Однако перед Ронаном, когда они встретились в главном зале особняка, он предстал несколько в другом виде.
Хотя и нельзя было не отдать должное могучей комплекции рыцаря, но небрежно наброшенная бордовая мантия на меху, непокрытая голова, покрасневшие от бессонной ночи глаза, рассеянный взгляд, поникшие черты лица свидетельствовали об усталости и не самом лучшем расположении духа сэра Хью. Тем не менее, он нашёл в себе силы радостно поприветствовать Ронана, извинившись перед ним за то, что не смог встретить сына барона Бакьюхейда во всём рыцарском величии и блеске. Видно было, что прошедшей ночью у бравого рыцаря состоялось непростое объяснение с леди Джейн, которое оставило его в смятённых чувствах.
Сэр Хью внимательно прочитал письмо барона Бакьюхейда, расспросил Ронана о жизни его родителя, после чего послал за Джорджем, дабы тот взял заботу о Ронане, чем тот, в общем-то, и занимался все последние дни, а сам удалился в свои покои.
Джордж был в тот день не так весел, словоохотлив и развязан как обычно. Однако нельзя было и сказать, что он чем-то огорчён. Вся его бравурность скрылась за принятым им на себя торжественным видом, так что он более напоминал королевского герольда, готовящегося объявить о важном событии при дворе. Он снова посетовал на свою мачеху, которая никак ни смирится с участием его отца в рискованном путешествии, которое он, Джордж только приветствовал бы всем сердцем. Во время их общения, он намекнул приятелю, что его родитель, похоже, добился заветной цели стать командором, но, ежели оно так и есть, то возвестит об этом завтра.
В тот день Ронан больше не видел Хью Уилаби. Зато на следующее утро было объявлено о торжественном обеде, где кроме членов семьи непременно желалось присутствие Ронана Лангдэйла и доктора Чаптерфилда. Когда все собрались, юноша сразу обратил внимание, как странным образом изменился облик четы Уилаби.
Сэр Хью был одет в чёрный вельветовый камзол с серебряными застёжками. Сильные ноги плотно обтягивали бежевые чулки. Такого же цвета короткие панталоны, подбитые серебряной парчой, придавали мощи его статной фигуре. На чёрном бархатном поясе с серебряными пряжками висел кинжал с инкрустированной рукояткой. Под стать торжественному одеянию было и выражение лица сэра Хью. На нём уже не было тех признаков усталости и упадка духа, которые Ронан заметил накануне. Наоборот, оно дышало радостью и жизнелюбием, а глаза горели торжественным огоньком.
Леди Джейн также выглядела великолепно. На ней было платье из атласа имбирного цвета, отделанное двумя рядами широких кружев из золота и серебра. Её золотистые волосы украшала шляпка из тёмно-красной тафты, декорированная скорпионами из венецианского золота. Но хотя лицо леди было спокойным и, можно даже сказать, радостным, но где-то далеко в глубине её глаз скрывалась тоска и тревога. Кроме этой едва заметной тени беспокойства, ничто, однако, не выдавало в хозяйке поместья ту печальную и одинокую женщину, встретившую Ронана в первый день.
После обмена обычными приветствиями и любезностями сэр Хью велел наполнить кубки вином и, обведя всех глазами, не вставая, начал свою речь, пытаясь придать некую торжественность своим словам:
– Джейн, благоверная моя супруга, терпеливо переносящая все тяготы и волнения жены воина и вечного путника, и ты, Джордж Уилаби, сын мой и наследник, а также вы, благочестивый отец Чаптерфилд, верный друг, пастырь и герольдмейстер нашего рода, ну и, конечно же, наш юный гость Ронан Лангдэйл, сын благородного барона Бакьюхейда, коему я обязан жизнью, настало время объявить вам, что я удостоился чести быть назначенным командором флотилии из трёх английский кораблей, которая возьмёт курс на северо-восток с намерением достичь далёкого Китая и Пряных островов. Плавание сие, как и всякие путешествия на другой конец земли, будет верно долгим. Но у меня нет сомнений, что с божьей помощью и под покровительством святого Георгия мы возвратимся целыми и невредимыми. Вам, леди Уилаби следует набраться терпения на несколько месяцев и растить нашу маленькую дочь в добром здравии. Тебе, Джордж предстоит управлять нашим родовым имением и заботиться о благосостоянии моей жены и дочери. А вы, преподобный отец, надеюсь, не откажете в духовном утешении леди Джейн и благочестивом наставничестве моих дочери, когда она подрастёт, и сына (при этих словах пастор и Джордж недовольно переглянулись). А с тобой, мой юный шотландский друг нам ещё предстоит держать военный совет.
Как ни пытался сэр Хью поддерживать помпезный тон, приличествующий случаю, но речь его, особенно в конце более напоминала команды, которые полководец раздаёт своим подчинённым перед началом боя. После этого кто-то осушил кубок за благополучное завершение сего начинания, кто-то лишь пригубил вино, но все казались довольными и жизнерадостными. И хотя у каждого и были свои причины для беспокойства, никто не подавал и виду, что не рад всеобщему торжеству. Нарумяненные щёки леди Джейн скрывали её бледность. Джордж как всегда беспечно улыбался. Доктор Чаптерфилд читал молитву и благословлял трапезу. А Ронан почтительно внимал словам священника.
Торжественный обед проходил в соответствии с обычаями того времени. Дворцовые кулинары постарались на славу и на стол были поданы самые изысканные яства. Вокруг стола церемонно стояли слуги с рушниками и кадками с водой, готовые удовлетворить любую прихоть хозяев и гостей. После первой атаки на блюда между трапезничающими завязался непринуждённый разговор. Поначалу все расспрашивали новоизбранного командора о готовящемся плавании. Причём преуспевали здесь Джордж с Ронаном. Но если первого волновало, прежде всего, как долго будут снаряжаться суда, сколько недель или месяцев плыть до Китая и прочие вопросы, имевшие целью выведать вероятный срок отсутствия родителя, то юного шотландца интересовало, по каким морям и мимо каких земель будет лежать путь кораблей, и что за люди там обитают и какие звери водятся, и как они, эти корабли, выглядят, и набраны ли уже их команды. Понятное дело, удовлетворить любопытство молодых людей сэр Хью мог лишь в общих чертах, ибо в науке мореплавания и картографии наш доблестный рыцарь был сведущ так же, как английский епископ в мусульманском намазе. Мы полагаем, что не имеет смысла передавать все подробности той давней беседы, проходившей в узком семейном кругу, к которому можно было отнести и доктора Чаптерфилда, духовника леди Уилаби и фамильного герольдмейстера, и даже Ронана как наследника старинного друга сэра Хью и хорошего приятеля его сына. Скажем лишь, что обед прошёл чинно и спокойно…
Вечером Хью Уилаби зашёл в комнату к юному шотландцу, чтобы продолжить давешний разговор. Он ещё раз прочитал вслух письмо барона Бакьюхейда и спросил Ронана:
– Ну а теперь, мой юный друг, поведай-ка мне, что же заставило тебя покинуть родные места и искать пристанища на чужбине, а то сэр Роберт не изволил изложить все обстоятельства в письме, видимо, не доверяя бумаге, на что были, надо полагать, веские причины.
Ронан без утайки, честно и искренне рассказал всё, что с ним приключилось за последнее время, о чём читатель имеет уже представление.
– И вот нынче, сэр, я совершенно одинокий путник – не считая моего верного слуги, мальчишки по имении Эндри, – вынужден скитаться по свету в поисках убежища. Я даже не могу поехать на континент, куда, по словам моего батюшки, длинным рукам шотландского регента легче дотянуться, нежели в соседнее английское королевство. Поэтому-то мой родитель и отправил меня к своему другу, каковым он вас всегда считал, в надежде на ваш добрый совет и способствование в моём временном обустройстве в Англии.
Такими словами завершил Ронан свой рассказ, после чего Уилаби крепко и надолго задумался… Его молчание становилось всё более долгим и тягостным, так что юноша стал уже беспокоиться, действительно ли английский командор и именитый воин жаждет покровительствовать молодому шотландцу не такого уж и знатного рода, или же он просто ищет способ вежливо отстраниться от участия в судьбе Ронана.
– Сэр Хью, ежели вас тяготит просьба моего батюшки, – прервал молчание Ронан, – то я уже обдумал некие пути моего дальнейшего бытия и уверен, что смогу самостоятельно найти применение моим силам и знаниям.
– Посмотрите только, каков скорый малый! – воскликнул Уилаби. – Да неужели ты полагаешь, юноша, что я откажу в помощи сыну человека, которому я обязан жизнью? И как только такое пришло тебе в голову! Клянусь святым Георгием, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы ты благоденствовал, пока находишься вдали от родины.
– Простите меня, сэр Хью, – смущённо молвил Ронан, – за сомнения, на которые на меня навеяло всего лишь ваше продолжительное безмолвие.
– Видишь ли, мой юный друг, я размышлял о том, что не смогу достаточно долгое время оказывать тебе покровительство, ибо тебе стало ведомо нынче, что через несколько месяцев я отправляюсь в дальний путь. Это дело уже решённое. А потому надобно прежде этого найти для тебя занятие, достойное твоей образованности и не роняющее чести человека, в жилах которого течёт благородная кровь. Ты, впрочем, мог бы остаться в поместье и жить в своё удовольствие, ежели пожелаешь. Полагаю, что Джордж в этом случае будет только рад, потому как он неизменно жалуется на скукоту и косность сельской жизни и постоянно ищет развлечений и хорошей компании. Однако же я не уверен, что жизнь рядом с моим сыном будет по нраву юноше твоих склонностей и познаний. Он благовоспитанный человек, но лишённый дерзновения духа и безрассудной отваги, а потому и не пошедший по стопам своих предков. Увы, в этом мне надо винить лишь себя, потому как сам я много лет провёл на войне, а воспитание сына опрометчиво доверил его мачехе да отцу Чаптерфилду. Вот он и вырос чересчур избалованным и слабохарактерным, ибо моя жена не сподобилась проявить твёрдость в воспитании, а благочестивый пастор, не глядя на то, что восхваляет подвиги нашего рода, терпеть не может деяний Марса, хотя за свою веру и сам готов взять меч в руки. Одним словом, по моему разумению, не пристало такому даровитому юноше бездарно тратить время в Рисли. Или же тебе, может статься, по сердцу такая беспечная и ленивая жизнь, какую ведёт Джордж?
– Помилуй бог, чтоб мне вести такой праздный образ жизни, какой, похоже, устраивает вашего сына! Не в обиду вам будет сказано, сэр, – воскликнул Ронан, может быть, не совсем учтиво, но вполне искренне, давая понять тем самым о своём нежелании долго оставаться в Рисли-Холл.
– Вот уж, право, верный сын своего отца! Он смахивает на одного из тех боевых петушков, которые бьются на ярмарках, – сказал как бы сам себе Уилаби и продолжил, обращаясь к Ронану: – Ну что ж, юноша, через пару дней я отбываю в Лондон, чтобы готовить наше плавание, и предлагаю тебе сопровождать меня.
– Сопровождать вас?! – вскричал, не веря своим ушам, Ронан. – В морском плавании!
– Да нет же, глупый мальчишка, – по-доброму усмехнулся Уилаби наивности юноши. – Сопровождать меня в Лондон, где есть уйма возможностей для умных и даровитых людей, каковым тебя можно было бы считать, ежели в твоей голове не возникали бы такие неразумные домыслы. В плавании! Эх, куда загнул!… Нет, вовсе не для этого я желаю взять тебя в английский Вавилон, а для того, дабы ты нашёл более увлекательное и достойное применение своим способностям и талантам. В столице много учёных разного калибра, с которыми тебе было бы полезно и интересно сойтись поближе. Видишь ли, среди лондонских аристократов в подражании королю Генриху, а ныне и его сыну королю Эдварду стало модным покровительствовать музам просвещения и опекать учёных мужей, кои благодаря этому достигают таких высот при дворе, что тебе и не снилось. Взять хотя бы Джона Чеке, который из простого сына университетского педеля, благодаря природному таланту, упорству в учении и гибкости ума, стал главным королевским учителем, членом парламента и получил рыцарство, в конце концов. Или вот мэтр Джон Ди: молод как мой праздный сын, но умён как Птолемей. Вот таким именитым учёным и желал бы я тебя представить потому, как я уразумел из твоего рассказа, юноша, что ты вправе похвастаться глубокими познаниями, как в точных науках, так и во всяких языках, не так ли?
– Ну, сказать по правде, не такие уж они и глубокие, – скромно ответил Ронан. – Рядом с теми учёным мужами, коих вы упомянули, я буду выглядеть словно утлая лодчонка у борта трёхмачтового корабля… Сэр Уилаби, а как велики команды судов, которые выйдут в море под вашим началом?
– Хм… – удивился вопросу командор. – Капитаны, штурманы, кормчие, боцманы, квартирмейстеры, пушечные мастера, матросы… Надобно ещё добавить отряд негоциантов, пастора, плотников, коков. В общем, в памяти всех не удержишь… По моему разумению, для трёх кораблей наберётся на целый центурион… Ну, так что ты мыслишь о моей пропозиции познакомить тебя с учёнейшими лондонскими мужами?
– Мысль эта, право слово, для меня заманчива, сэр Хью… А когда корабли будут полностью снаряжены?
– Вот зима пройдёт, наберём команды, спустим суда на воду, загрузим провиантом, товарами и с божьей помощью в путь, – ответил Уилаби, ещё более удивляясь про себя непонятной настойчивости, с которой Ронан возвращал беседу к путешествию, вместо того чтобы беспокоиться о свое судьбе.
– С вашего позволения, сэр, а кто будет подбирать команды?
– Капитаны, да боцманы, понятное дело, ибо они в морском деле лучше меня смыслят, – вымолвил озадаченный такой пытливостью командор. – А тебе что до того, молодой человек?
– О, всего лишь простое любопытство, сэр, – сказал юноша. – Должен признаться, что меня всегда тянуло ко всему таинственному и непостижимому. Мне нравилось путешествовать по густым лесам и диким ущельям Стёрлингшира и Ментейта, вскарабкиваться на высокие горные кряжи, укутанные облаками… И нынче, когда я помыслю о предстоящем вам странствии, когда подумаю об ожидающих вас открытиях и находках, в моей душе вновь разгорается эта давняя страсть к неизведанному и тяга к загадкам бытия.
– Так разве же, овладевая науками и проводя эмпирии, познавая законы природы и постигая непостижимое, неужели тебе не удастся удовлетворить свою тягу к открытиям?
– Я так полагаю, что, наверное, смогу. Однако, это другое… – вздохнул Ронан.
– Мой тебе совет, юноша: не тешь себя глупыми мечтами и напрасными надеждами. Ты, похоже, не отдаёшь себе отчёта обо всех тяготах корабельной жизни. Впрочем, я и сам мало в них сведущ, но по рассказам синьора Кабота – а это бывалый моряк, уж поверь мне, – мореплавателям грозят тысячи бедствий и несчастий, не говоря уж о том, что корабль может запросто разбиться о рифы и затонуть как ореховая скорлупа вместе со всей командой.
– Но вас же, сэр Уилаби, не отпугнули эти трудности и вы отважились возглавить плавание, – возразил Ронан.
– Сказать по чести, мой мальчик, я мало себе представлял, с чем мне предстоит столкнуться в море, когда пришёл к синьору Кабото. Весьма вероятно, что знай я раньше обо всех тяготах дальнего плавания, про которые я узнал впоследствии от Кабото и других капитанов, мне и в голову не пришло бы отправиться в море. Но раз приняв решение, я уже не мог отказаться от своего намерения и проявить недостойное рыцарского звания малодушие.
– Вот видите, сэр, на вашу решимость не могли повлиять никакие грядущие опасности. Так почему же вы полагаете, что сын вашего друга убоится тернистости пути и коварства стихии?
– Ты, похоже, осмеливаешься меня в чём-то упрекать, Ронан Лангдэйл?… Человека, пекущегося о твоей будущности, за которую я чувствую себя в ответе перед сэром Робертом. Клянусь душой, ты чертовски неблагодарный мальчишка!
– Прошу прощения, сэр, – ответил юноша, – но неужели путь первопроходца менее почётен и благороден, нежели тьютор в семье герцога или графа, да даже и самого короля? Я уверен, что барон Бакьюхейда одобрил бы такой выбор своего сына.
– Но смирился бы он с мыслью, что сын шотландского дворянина многие месяцы будет ютиться в смрадном кубрике рядом с людьми плебейского сословия, есть с ними из одного жбана жидкую похлёбку, бок о бок с рядовыми матросами выполнять всю черновую работу на судне, что его ладони станут чёрными и заскорузлыми с поломанными ногтями, а кожа лица грубой и обветренной? Что ж, я вижу, ты потупил взор.
– Если бы мой батюшка был рядом, – как бы вслух размышлял Ронан, – я смог бы убедить его в достойности моих помыслов. Ибо самим Богом ниспосылаются нам испытания, тягости и унижения, лишь пройдя через которые, человек будет достоин высшей награды. А к чему нужно пустое тщеславие? Зачем добиваться почестей и богатства, которые есть всего лишь суета и тлен?
– Хм, мне Джордж намекал на твои странности, приписывая это долгому монастырскому воспитанию. Я, право слово, не совсем верил ему, но теперь убеждаюсь в его правоте. Разве нет у тебя честолюбивых помыслов? – увещевал Уилаби. – Благодаря предлагаемому тебе знакомству с придворными учёными и твоим познаниям, ты мог бы неплохо устроиться при английском дворе, а со временем вернуться на родину и стать первым среди шотландских школяров, книжников и учёных или направиться на континент, где ещё больше возможностей для мужей науки.
– Вашими устами, сэр, говорит сама Метида, богиня мудрости, покровительствовавшая Евклиду и Гиппократу, а ваши речи подобны речам Соломона, у которого разума было больше чем у всех сынов востока. Но часто случается, когда самые веские доводы разума не могут перебороть пылкие порывы сердца, как ураганный ветер не может вырвать пробивающийся к свету росток.
– А твоими устами говорит неразумный юноша, – сердито возразил командор, – который вбил себе в голову романтические мечтания, подобно рыцарю в старину, который ради благосклонной улыбки прекрасной дамы готов был безрассудно с одним мечом ринуться против отряда кавалеристов и красиво погибнуть, лишь бы вызвать слезинку у своей пассии, вместо того, чтобы стать под стяг своего государя и на ратном поле приносить пользу своему отечеству. Одним словом, я более не желаю с тобой спорить, настырный юнец. Ты упрям как все шотландцы. Покуда мы доберёмся до Лондона, у меня, надеюсь, хватит доводов вразумить и охладить твоё пылающее сердце, даже если придётся вылить на него все воды Трента, а то и Темзы в придачу.
В таком духе завершилась в тот день беседа Ронана с Уилаби. Юноша был доволен, что ему хватило смелости высказать свои потаённые мечты такому грозному командиру и отважному воину как Хью Уилаби. И пусть он не получил открытого одобрения своим чаяниям со стороны командора, а услышал лишь возражения и отповеди, но не было в них и категорического отказа и насмешки. А в последних словах сэра Хью слышался скорее намёк на продолжение разговора, чем звук навечно захлопывающейся двери. Со своей стороны Уилаби поразила упрямая настойчивость, с которой юный шотландец отстаивал свои неразумные стремления. А потому он, хоть и остался при своём твёрдом убеждении в безрассудности Ронана, которая, по всей видимости, была плодом его юношеской мечтательности, но решил ещё раз присмотреться к юноше.
Решено было затем, что Эндри останется на некоторое время в Рисли-Холл, пока его хозяин не наладит свою жизнь в английской столице. Хотя в тайне души Ронан надеялся на иной поворот в своей судьбе и полагал, что в этом случае паж был бы уже ему не нужен, а из Рисли молодому слуге легче будет вернуться на родину. По-любому Эндри предстояло провести несколько месяцев в Рисли-Холл. Тем более в усадьбе мальчишка всем полюбился, а Джордж в нём просто души не чаял – так ему по сердцу был весёлый балагур и острослов. Хотя у самого Эндри такая перспектива чрезвычайной радости не вызвала, скорее наоборот: так ему не хотелось оставлять мастера Ронана без своего попечения.
– Ей-ей, а кто ж будет, ваша милость, шнурки на камзоле вам затягивать и одежду чистить? – обиженно вопрошал недовольный паж. – А что я вашему батюшке скажу, ежели вы там в какую историю вляпаетесь? Ведь он мне поручил ни на шаг от вас не отставать и всячески оберегать, словно я ваш ангел-хранитель… Эх, да и Лондон я не увижу, а занятно было бы взглянуть на этот городишко, ей богу.
– Ты зря беспокоишься, верный мой слуга, – отвечал Ронан. – В английской столице я буду жить в доме кузена сэра Хью, Мастера Габриеля Уилаби. Он знатный негоциант среди лондонского купечества и богат как турецкий султан, а в доме у него прислуги больше, чем в нашем Хилгай народу. Компании разгульные и бражные, как тебе ведомо, я избегаю, и потому тревожиться за меня не стоит. А может статься, что как только моя будущность определится, я тебя к себе и вызову. А городишко этот, как ты толкуешь, чем может быть лучше наших Глазго или Старины Рики49, ежели разве что чуть побольше?
– И всё-таки, неспокойно у меня на душе, ваша милость. Поди, в чём-то я виноват. Как будто не могу какую-то опасность от вас отвратить.
– Тебе не в чем себя корить, Эндри. Да и какая опасность может грозить мирному чужестранцу, который в силах, между прочим, за себя постоять в случае необходимости, и у которого к тому же есть такие покровители как сэр Уилаби? Скоро жди от меня известий, и если вдруг мне понадобится твоя помощь, я тебе дам знать. А пока что умерь-ка свой весёлый норов, а то у всей прислуги в замке скоро животы от смеха полопаются.
Надо сказать, что Эндри даже не догадывался о романтических чаяниях своего господина, которые тот высказал лишь Хью Уилаби и тщательно скрывал от своего слуги, опасаясь его острого язычка. А иначе у мальчишки было бы гораздо больше поводов для беспокойства за безрассудного мастера Ронана.
На следующий день произошло ещё одно примечательное событие. За завтраком Уилаби, вспомнив, как Ронан рассказывал о своих воинских занятиях, предложил тому скрестить мечи, чтобы удостовериться, как сильна рука юноши и насколько хорошо он обращается с оружием. Молодой шотландец был польщён такой честью и с радостью принял предложение, ибо он был уверен в своём мастерстве владения мечом и был не прочь испытать его в дружеской битве с прославленным воином.
Через час они встретились в парке позади особняка. Кроме необходимых в качестве оруженосцев слуг посмотреть на турнир пришли Джордж и, конечно, Эндри. Младший Уилаби, в отличие от своего родителя, не любил воинское дело – единственно, в чём он сходился с преподобным Чаптерфилдом, – Марсу предпочитая муз, Артемиду, Эроса и Бахуса. А поэтому на подобное развлечение он смотрел снисходительно и наблюдал за ним только лишь ради уважения к родителю. А юного слугу Ронана переполняло чувство гордости за своего господина, с которым пожелал сразиться знатный английский рыцарь. С важным видом Эндри стоял рядом с Джорджем и смотрел, как облачённые на всякий случай в кольчугу и кожаные шлемы противники, размяв руки и ноги, встали друг против друга. У каждого из соперников из оружия был только меч.
– Настал твой смертный час! К оружию! – раззадоривая юношу воскликнул Уилаби.
Мечи обнажились и поединок начался. Ронан сразу убедился, что в искусстве сражения на мечах он уступает сопернику. Сэр Хью в совершенстве владел всеми приёмами владения мечом: традиционными, подвластными всем и даже новичкам, и также тайнами стокатта, пунто-реверсо и прочими приёмами, известными лишь мастерам фехтования. Но, как мы знаем, молодой шотландец тоже не был неофитом в искусстве владения оружием, хоть и сражался чуть на старинный лад. Помимо упорства и выдержки бойца, его отличали прекрасная подвижность и гибкость тела, что давало ему некоторое преимущество перед уже немолодым рыцарем. В первые минуты Ронан присматривался к манере соперника, держал меч накоротке и избегал выпадов, ограничиваясь защитой, в то время как Уилаби методично наступал по всем правилам боя на мечах, ища слабые места в обороне шотландца.
Джордж созерцал битву с лёгкой равнодушной улыбкой на холёном лице. Эндри же, наоборот, оживлённо бегал вокруг площадки, на которой шёл поединок, и азартно выкрикивал: «Слева берегитесь, мастер Ронан!», «А теперь справа!» и «Атакуйте же! Он отступает!». Ронан вынужден был остановиться и прикрикнуть на мальчишку, чтобы тот немедленно замолк, иначе его прогонят прочь.
Затем бой возобновился, причём стиль ведения битвы Ронаном несколько изменился: видимо, почувствовав своё преимущество в скорости, он стал всё чаще и чаще делать выпады и нападать на Уилаби со всех сторон. Командор же, наоборот, сменил тактику и преимущественно защищался, причём делал это весьма умело. Однако, по прошествии ещё нескольких минут, в течении которых молодой воин всё более распалялся и атаковал, а рыцарь только защищался и казалось, что делал это всё с бо льшим трудом и что ещё немного и Ронан нанесёт удар противнику, – так вот, про прошествии времени, достаточного, чтобы разгорячённый азартом Эндри сделал шесть или семь кругов вокруг площадки, Уилаби вдруг сделал резкий выпад вперёд. Уже не ожидавший такой прыти от казавшегося усталым соперника Ронан всё же отбил удар, но получилось так, что сделал это наотмашь и чересчур сильно, в результате чего потерял равновесие и вынужден был сделать шаг вперёд и в сторону, чтобы не упасть. Тут же юноша почувствовал толчок тяжёлым мечом в свою грудь. Если бы командор не держал меч плашмя и ударил бы со всей силы, удар мог бы быть фатальным. Но так как это был только товарищеский бой или то, что в наши дни называется спаррингом, то никакого физического вреда Ронан не получил. На этом бой закончился с очевидной победой Уилаби.
«Уж лучше бы мне умереть на месте от холодной стали, чем попасться так по-глупому!» – подумал Ронан, досадуя на самого себя. Он стоял, обескуражено потупив взор и тяжело дыша, в то время как краска стыда заливала его лицо.
Уилаби бросил меч слуге, снял стальные перчатки, подошёл к Ронану, похлопал того по плечу и, на удивление со спокойным, а не сбитым как у юноши дыханием, сказал ободряюще:
– Молодец, Лангдэйл! Узнаю крепкую руку сэра Роберта в его сыне. Однако в воинском искусстве надо тренировать не только силу и выносливость, но разум и смекалку. У хорошего воина сила и величие должны быть как у льва, а ум и хитрость как у охотника за этим львом. Если в бою ты и дерёшься мужественно как Геракл, то мыслишь пока прямо-таки как глупая косуля. Ну-ну, не обижайся. Разве зазорно проиграть бой опытнейшему рыцарю?
Вскоре эмоции юноши улеглись, как это бывает у людей с пылким характером в его неискушённом возрасте, когда настроение напоминает морскую волну: при наималейшем разочаровании пыл страстей может неожиданно смениться на угрюмую меланхолию, и напротив, стоит солнечному лучику коснуться унылой души, как она снова воспаряет в небеса. Так и Ронан, согретый ободряющим тоном Уилаби, улыбнулся, поблагодарил рыцаря за преподанный ему урок и покинул парк, с удовлетворением осознавая как хороший ученик, что продвинулся ещё дальше в освоении науки…
Наконец наступило время прощания. Как расставался сэр Хью с леди Джейн, никто не знал, ибо они простились в супружеских покоях. Но, похоже было, что расставание супругов прошло без излишних упрёков и проявлений чрезмерной печали со стороны леди Джейн – быть может, потому, что она покорилась участи снова расстаться с мужем на долгий срок, или же из-за туманного обещания сэра Хью до отплытия ещё раз навестить свою семью. Ронан с Эндри обговорили всё накануне, и мальчишка смирился с участью провести, как он полагал, непродолжительное время вдали от своего господина. Провожать родителя вышел Джордж, который также горячо попрощался с юным шотландцем и высказал сожаление, что его друг решил променять раздолье полей и лесов на тесноту лондонских кварталов.
– Однако, мне кажется, что ты не отказался бы поменяться со мной местами, – заметил вполголоса Ронан.
Младший Уилаби лишь улыбнулся с видом, говорившим «ну что ж тут поделаешь?», пожал на прощание руку юноше и обнялся со своим родителем. И небольшая кавалькада, состоявшая из сэра Хью, его подопечного и одного слуги медленно выехала из ворот особняка. Джордж положил руку на плечо Эндри и они молча, каждый со своими мыслями, смотрели, как всадники исчезают в плотном, холодном тумане раннего ноябрьского утра.
Глава XXV
Мечты
Путь до Лондона у наших спутников занял четыре дня – это то минимальное время, за которое всадник мог, не загоняя лошадь и не рискуя сломать себе шею, преодолеть сто миль по осенним дорогам того времени, полным ухабов, рытвин и луж. Несмотря на то, что каждый английский землевладелец и городские муниципалитеты отвечали за исправность проходящих по их землям дорог, но на деле для нерадивых хозяев можно было выдумать уйму причин для объяснения своей недобросовестности. Таким образом, особенно привлекательной эту поездку назвать было нельзя, ни по погодным условиям – стояла поздняя осень с её частыми холодными дождями и мутно-серыми туманами, ни с точки зрения привлекательности пейзажа – багряные осенние краски уже поблёкли, а ландшафт этой части Англии был скучен и однообразен. Фермерские поля, уже почти убранные, перемежались с оголёнными перелесками и рощицами. На почти пустынных дорогах лишь изредка можно было повстречать одинокого коробейника, скорохода или же крестьянскую подводу. Иногда попадались небольшие селения, в которых самым примечательным и многолюдным зданием был, как правило, придорожный трактир.
Покинув Рисли, всадники проехали через старинный Ноттингем, затем по неширокой просёлочной дороге добрались до большого тракта, ведшего из Линкольна в южном направлении. Переночевав в Лестере в приличной по тому времени гостинице, где сэра Уилаби хорошо знали, поскольку он часто здесь останавливался по дороге в Лондон или обратно в Рисли, к вечеру следующего дня путники добрались до Хантингдона, где остановились в полуразрушенном замке, предприимчивый хозяин которого в то время использовал оставшиеся строения старинного родового замка в качестве гостиницы для пристойных путников, путешествующих в английскую столицу или из неё. Последней остановкой перед Лондоном стал Хартфорд, откуда до столицы английского королевства оставалось уже рукой подать, каких-нибудь три-четыре часа лёгкой рысью.
Несмотря на унылый пейзаж и хмурую погоду настроение у нашего героя всю дорогу было приподнятое, отчасти вследствие радостного предвкушения увидеть новые места, что свойственно юношам с пылким воображением и любознательным нравом, и в некоторой степени благодаря не угасшей надежде присоединиться к морскому путешествию.
Поскольку смотреть по сторонам было неинтересно, то Ронан большую часть времени беседовал с Уилаби. Английский рыцарь вкратце рассказал про свою жизнь, полную военных походов и страшных сражений. Также посетовал Уилаби на сибаритство своего наследника и на чрезмерную сентиментальность супруги.
По словам командора, Джорджу давно пора было уж жениться, на что не раз намекал ему родитель, и оставить свои праздные и вольготные привычки. Но, тот, видите ли, не склонен был взять в жёны ни одной достойной девицы из благородных семейств, с какой бы его ни знакомили, а вместо этого, ему, судя по всему, больше по нраву были простые смазливые девчонки, главным достоинством которых является внешняя привлекательность, нежели умные, образованные и с богатым приданым честные девушки дворянского происхождения. Сэр Хью был явно недоволен этим обстоятельством, ибо, как и всякий уважающий себя дворянин, жаждал достойного продолжения своего рода.
Когда же Ронан осторожно спросил про печаль и страхи леди Джейн, Уилаби с раздражением ответил:
– Видишь ли, мой юный друг, я доблестно прошёл сквозь бесчинства войны, видел хищное и алчное лицо смерти, говорил правду в лицо герцогов и самого принца, но я не привык ублажать сусальные прихоти Евы. Ежели женщина выплескивает на тебя полную бадью разнеженных сентенций в напрасной надежде охладить пыл своего господина и не разумеет, что мужчинам предначертано совершать славные деяния, лелеять в своём сердце честолюбие и гордость, то происходит сродни тому, что и при встрече воды с раскалённым железом: вода, пошипев, превращается в пар, а сталь хоть и остывает, но становится только крепче. Ну, да впрочем, стоит ли рассуждать о женских капризах. Расскажи-ка мне лучше ещё раз и обстоятельно о малоприятных происшествиях, в кои ты был вовлечён.
Ронан снова и со всеми подробностями пересказал командору о событиях последних недель, как он простился со старым монахом и вернулся в родовой замок, куда вскоре в его поисках прибыли люди шотландского регента, как бесследно исчез Лазариус, что вызвало огромные опасения отца и сына, и про своё бегство из Крейдока. Внимательно всё выслушав, сэр Хью согласился с разумностью принятого своим другом бароном Бакьюхейда решением отправить Ронана к нему в Англию, ибо он, Уилаби, всегда хранил в сердце благодарность к шотландскому рыцарю за его великодушный поступок и давно мучился совестью, что ничем не может отблагодарить своего спасителя. Теперь же, то ли по воле злого рока, то ли по божьему промыслу ему выпала возможность доказать на деле свою благодарность и преданность старому другу, взяв под покровительство его сына.
– Можешь не сомневаться, юноша, – закончил Уилаби, – при английском дворе, равно как и в твоей далёкой стране, тоже плетутся паутины интриг, попав в которые человек рискует наподобие мошки, которой паук откусывает голову, также остаться без этой важнейшей части тела, в чём ты сможешь убедиться воочию, когда мы будем пересекать Лондонский мост. А потому осторожность в поведении и поддержка влиятельных лиц должны стать непременными правилами твоего бытия в Лондоне.
После этого Уилаби долго ещё говорил о вынашиваемых им планах как, используя свои знакомства и связи при английском дворе, надёжно устроить Ронана, чтобы тому не было тоскливо в Англии и он мог бы жить, как и подобает благородному человеку. Командор нарочно избегал разговоров о плавании в надежде, что юноша, трезво помыслив, внял его доводам и оставил безрассудные мечты. Читателю известно, однако, какие мысли витали в голове Ронана, а потому этой надежде сэра Хью не суждено было сбыться, ибо хотя юный шотландец и слушал Уилаби с почтительным вниманием, но при первой же возможности завёл разговор о море и кораблях.
– Скажите, сэр, а в каком месте строятся те суда, на которых вы поплывёте в восточные земли?
– Вот уж воистину, надоедливый мальчишка! – воскликнул в сердцах командор. – Клянусь душой, я ещё не видывал мухи, назойливей в её желании усесться на мои усы, нежели ты – в своей охоте глотнуть пару пинт солёной воды!
– Сэр Хью, вы вправе чтить меня неблагодарным, но мне нелегко избавиться от навязчивых грёз. Это как прекрасное сновидение, проснувшись от которого, мы вновь хотим заснуть, чтобы снова очутиться в объятиях чудесного сна. Вы можете осыпать меня укорами и насмешками, но я ни за какие сокровища на свете не расстанусь с мыслью о путешествии, несмотря на неимоверные трудности и страшные опасности, которыми оно чревато.
– Твоё влечение, молодой человек, мнится мне тяжелейшим недугом, который может излечить лишь опытный врач.
– Или же превращение сна в явь, – твердил своё Ронан.
«Чёрт возьми! Ну и настырный же юнец! – размышлял командор. – Что же делать с его наивной мечтательностью? Наотрез отказать и разом развеять все его грёзы? Похоже, так было бы лучше ему и мне, хотя он и может подумать, будто я нарочно хочу от него отвязаться, оставив в Лондоне, а самому уплыть из Англии. А посмотреть с другой стороны, если он останется один в Лондоне, то кто знает, в какую историю он может попасть с его юношеской горячностью, настойчивой самоуверенностью и романтическими порывами? Хоть мой сын и утверждал, что Ронан чурается весёлых компаний, но сможет ли он устоять от множества соблазнов, которыми Лондон искушает молодых джентльменов? А ежели с ним что случится, то как я смогу простить себе, что не оберёг молодца, и как я посмотрю в глаза сэра Бакьюхейда, если мне когда-либо доведётся ещё встретиться с ним? Может быть, пойти на уговоры и взять юношу с собой в морской поход? Но у него вовсе нет опыта, да и Ченслер едва ли захочет взять в команду такого никчёмного моряка как Ронан».
Такие спорные мысли пронеслись в голове командора, которому пришлось бороться с весьма противоречивыми эмоциями, что оказалось для него гораздо труднее, нежели биться мечом. Чувство долга перед сэром Робертом и так неожиданно возложенная на него ответственность за юношу, симпатия к Ронану и раздражённость его упрямством, опасение за судьбу юноши в незнакомом городе и немыслимость взять Ронана с собой – всё это переплелось в клубок смятенных дум. Уилаби проклинал шотландскую настырность юноши и в то же время не мог не уважать его упорство… Как было бы хорошо, если бы Ронан спокойно принял его предложения о знакомстве с придворными учёными и на этом бы угомонился. Тогда у Уилаби не было бы другого пути, кроме как им же предложенного. Теперь же юноша настойчивыми вопросами про плавание и своими прямыми намёками посеял зёрна сомнений в душе командора. Сэр Хью сам удивлялся такому смятению разума и своей растерянности: он, военный командир и рыцарь, отважно бившийся на полях сражений и руководивший защитой крепостей, он проявлял сомнения и нерешительность в разговоре с безбородым юнцом. После долгого раздумья Уилаби, наконец, сказал:
– Ну, что ж, милый мой. Видит Бог, намеревался я всё устроить для твоего благоденствия и удовольствия барона Бакьюхейда. Но что поделаешь с твоим безрассудным упрямством? Как не может корабль плыть против ветра, так и я не в состоянии потушить твою глупую страсть. Клянусь тебе, что я потолкую с Мастером Ченслером и расскажу о тебе, юноша, не приукрашивая твоих достоинств, но и не скрывая присущих тебе недостатков. Однако, уж извини, я не могу обещать, что наш разговор с ним окончится, как ты того желал бы. Ричард – опытнейший моряк и ему лучше знать, какое найти тебе применение на судне – если таковое, вообще, найдётся, в чём, признаюсь честно, я сильно сомневаюсь, – и как команда может воспринять в своих рядах такого ухоженного молодца благородных кровей.
– Клянусь Богом, я не заставлю вас краснеть, сэр Хью, какую бы работу мне не вменили в плавании! – с жаром воскликнул восторженный Ронан. – Я силён как могучий лев и вынослив как тягловая лошадь, в чём вы, давеча, имели возможность убедиться.
– Может оно и так, – заметил командор. – Только рассудительности у тебя как у малого ребёнка. Ещё неизвестно, какого мнения будет наш навигатор, касательно твоей надобности и полезности в плавании. В этом вопросе на мою протекцию и не рассчитывай, ибо не пристало мне, сухопутному ящеру оспаривать мнение такой бывалой рыбы, как Ченслер. Отстаивать и защищать свои устремления – а по мне, просто юношеские прихоти – тебе придётся самому.
– Можете не сомневаться, сэр, мне найдётся, что сказать, – пылко ответил Ронан. – Моё сердце подскажет мне нужные слова, если, правда, оно сейчас же не вылетит из груди от восторга! Я премного благодарен вам, мой командор, за ваше благоволение к скромному шотландскому юноше и за предоставляемый мне шанс. Вы не поверите, но никогда прежде я не был так счастлив как сейчас, не испытывал такого упоения души! Где-то в груди собирается комок радостного волнения, и этот пасмурный день кажется мне таким приятным и весёлым!
– Позволь мне посоветовать тебе, юноша, – сказал Уилаби, – поумерить твою восторженность и не лететь быстрее стрелы. Если наш кормчий не соблаговолит включить тебя в команду одного из кораблей, я не буду перечить его решению. По правде говоря, я поразмышлял бы на твоём месте о занятиях науками, ибо это видится мне более вероятной твоей будущностью, нежели смутная перспектива далёкого плавания.
Командор рассудил, что лучше будет, ежели Ронан сам уразумеет после разговора с Ченслером всю тщетность своих помыслов. А в том, что бывалый моряк убедительно докажет малопригодность юноши к морскому делу и откажет Ронану в притязании на участие в плавании, в этом у командора почти не было сомнений. Хотя Уилаби и признавался себе, что ему не удалось переубедить юношу и одолеть его строптивость, но он приписывал это скорее шотландскому упрямству Ронана, нежели слабости своих доводов и увещеваний. А потому у командора в битве с юношеской настойчивостью Лангдэйла не оставалось другого средства, как применить артиллерию в лице отважного навигатора, Мастера Ченслера. Говоря по правде, сэр Хью сам не знал, чего ему хотелось более: чтобы кормчий наотрез отказал Ронану или же чтобы юношу зачислили в плавание. Первый раз в жизни он пребывал в такой неуверенности и посему решил целиком и полностью положиться на мнение Ченслера.
– Клянусь вам, сэр, – отвечал Ронан, – что если мне не удастся убедить Мастера Ченслера взять меня в плавание, я оставлю всякие помыслы о путешествии, как бы тягостно это ни было для меня, и примирюсь с участью искать удовольствие в занятиях науками.
Несмотря на столь смиренный ответ, юноша лелеял надежду или, даже правильнее сказать, он горячо верил в свою способность убедить всякого человека, будь то даже английский король и все его придворные, в своём страстном желании отправиться открывать новые моря и земли. «Неужели моя сила и ловкость могут не пригодиться в этом странствии? – рассуждал Ронан. – Пусть я ни разу не выходил в море, но я могу быстро всему научиться. Я не буду чураться никакой, даже самой грязной работы… А что до моего благородного происхождения, так не все ли мы потомки Адама и Евы? Мой предок получил земли от шотландского монарха за свою преданность и отвагу. Мой отец заслужил рыцарское звание верностью королю Иакову и совершёнными им подвигами. Значит, деяния самого человека возносят его к почёту, а не кичливое упоминание о славных родоначальниках. Чем я заслужил своё дворянство, кроме благородных деяний моих предков, и почему я должен чванливо избегать общества простолюдинов, которые порой по своим знаниям и сноровке в мире, отваге и мужеству в войне превосходят большинство напыщенных людишек, мнящих себя благородными? Мой родитель наверняка одобрил бы такое решение своего сына, который вместо того, чтобы бездеятельно просиживать в английской столице, – хотя занятие науками и весьма увлекательно времяпровождение, – так вот, чтобы вместо пребывания в удушливом, зловонном мегаполисе, он отправился бы в далёкое плавание по океанским просторам в поиске новых земель и маршрутов».
С такими радужными мыслями и в состоянии близком к эйфории Ронан приближался к английской столице. Нельзя сказать, что он был бесплодным мечтателем, витающим в облаках. Юноша прекрасно понимал тернистость выбранного им пути или, по крайней мере, догадывался об ожидавших его трудностях и опасностях. Но в том возвышенном состоянии духа, в котором он пребывал, все препятствия казались ему пустяковыми и легко преодолимыми, а опасности – что ж, они только прибавляют азарта и ещё больше возбуждают стремления.
Глава XXVI
В Лондоне!
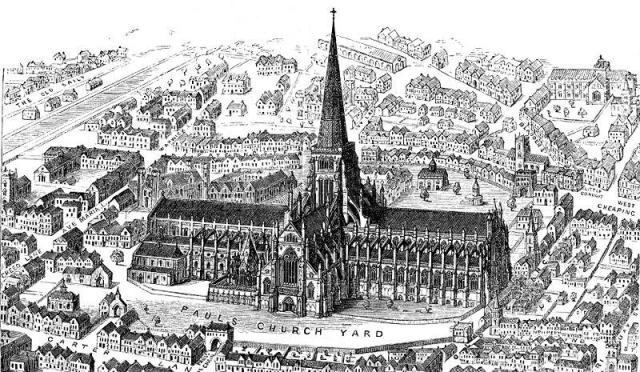
Разговор, описанный в предыдущей главе, состоялся вскоре после того, как путники покинули Хартфорд, свою последнюю остановку перед въездом в Лондон, громадный по тем временам город.
О приближении к мегаполису говорило всё увеличивающееся число встречавшихся на дороге тяжёлых телег, оси которых трещали под грузом бочек с элем, объёмистых корзин с разной снедью, дичью, битой птицей, солониной и мешков с мукой. Во все стороны скакали всадники поодиночке и группами. А раз мимо прогромыхала запряжённая шестёркой диковинная карета, спереди, сзади и по бокам которую сопровождала целая кавалькады молодцеватых кавалеристов, а впереди на приличествующей дистанции как молнии неслись два скорохода с жезлами. Чудное это видение вызвало неподдельное удивление у Ронана, которому никогда прежде не приходилось лицезреть подобное средство передвижения, которое только-только стало в ту пору входить в моду у знати. Оно чем-то напоминало фургон, в котором иногда путешествовали труппы бродячих артистов, лишь вместо продуваемой всеми ветрами холстяной будки, карета представляла собой сооружение из дерева и кожи, богато украшенное витиеватой резьбой, инкрустациями и фамильными гербами. Эта постройка на колёсах вместо зависти и восхищения, на которые, должно быть, рассчитывали его обладатели, у сэра Хью вызвала, однако, всего лишь пренебрежительную усмешку.
– Посмотрите только, какую для чванливых спесивцев колымагу придумали, – произнёс Уилаби, не скрывая своего презрения. – Ну, прямо тыква на колёсах, ей богу! Да от поездки в таком сарае, коли его вполовину мягкими подушками не устлать, лишь все внутренности растрясутся и несварение желудка случится. Известное ведь дело, что верховая езда испокон веков считалась самым удобным и быстрым способом передвижения.
– А мне мнится, сэр Уилаби, что рано или поздно плотники и ковали придумают, как сделать езду в таких повозках удобной и быстрой, – с уверенностью возразил Ронан. – Вот ведь раньше плавали на ладьях с одним парусом, а сегодня для нашего похода, по вашим словам, корабли с тремя мачтами строятся. А когда-нибудь наверняка будут возводить и четыре, и пять мачт.
– Да откуда тебе ведомо-то, придумщик ты этакий, то, что сокрыто от нас покровом грядущего? Быть может, ты ещё и искусству прорицания у своего прозорливого монаха выучился, а? Намотай себе на ус, Ронан Лангдэйл, что за ворожбу и ясновидение уже тысячи людей в нашем королевстве живьём на кострах сгорели. И кара эта может ждать любого, кто даёт хоть малейший повод считать его колдуном или ведьмой.
– Помилуй бог, чтобы мне заниматься столь непристойным ремеслом, – простодушно возразил юноша, не уловив шутейного тона своего спутника. – Ворожба и лжепророчества это промысел кудесников, астрологов и прочих шарлатанов, которые используют известные, а зачастую и просто вымышленные ими законы природы для одурачивания невежественного люда. А по моему разумению, да и отец Лазариус так говорил: людская ипостась в том и состоит, чтобы придумывать и изобретать. Вот, к примеру, возьмите оружие, в чём вы бесспорно великолепный знаток. Поначалу чем воины сражались? – луки и дротики, мечи и копья, топоры да секиры и прочее ручное вооружение. Потом изобрели бомбарды и мортиры для разрушения защитных сооружений, а уж затем для боя на расстоянии оружейных дел мастера придумали и аркебузы с пистолями, могущие пробить даже хорошие доспехи.
В таком духе протекал беседа между командором и его юным протеже. Причём чем больше они разговаривали, тем больше было возможности у сэра Хью убедиться как в эрудированности своего подопечного, так и в его простой и чистосердечной натуре, не искушённой в жизненных хитросплетениях и в то же время не испорченной тщеславными помыслами своего сословия. В свою очередь Ронан составил своё мнение о командоре, как о человеке твёрдом в суждениях и уверенном в своих силах, презиравшим преисполненных спеси и чванства самодовольных вельмож, но в то же время, несмотря на строгий взгляд и командный тон, не лишённом обычных человеческих чувств и слабостей…
Приближался полдень. Вскоре разговор несколько поутих, ибо спутники въехали в предместья Лондона, простилавшиеся в то время уже много дальше за пределы старинной городской стены, и всё внимание Ронана было направлено на созерцание этого огромного города, многочисленные шпили и башни которого уже прорисовывались вдали сквозь висящую в воздухе лёгкую пелену туманной измороси. С приближением к старинной городской стене дома становились всё выше и богаче. Как правило, то были здания в несколько этажей с разнообразием фронтонов, зубчатых стен, балюстрад и башенок, венчавших строения. Вот, с правой стороны за рядами показались похожие на монастырь сооружения с высившимися над ними башнями-звонницами и сводами храмов.
– Сэр Хью, с вашего позволения, а что это за обитель, такая мрачная и безмолвная? – спросил Ронан.
– Мне думается, наш Дженкин сможет лучше тебе ответить. Он хоть и служит мне уже много лет и все пути со мной изъездил, но родился он в этом городе и всё здесь знает вдоль и поперёк. Ручаюсь, что лучшего рассказчика и проводника через лондонские улицы, нежели он, тебе не отыскать – глаголет как Цицерон, а путь ведёт подобно отменному следопыту.
Здесь необходимо вкратце рассказать о третьем спутнике в этой маленькой кавалькаде, о котором изначально упоминалось лишь как о слуге сэра Хью. Дженкин Гудинаф – так звали этого человека – был славный малый, как и подобает быть слуге такого доблестного рыцаря как Хью Уилаби. При нём Дженкин выполнял обязанности оруженосца и ординарца, камердинера и кравчего, грума и стремянного, секретаря и распорядителя – в зависимости от ситуации и обстоятельств. Он родился в семье смотрителя королевских парков в Лондоне и свои молодые годы провёл среди дворцовой челяди, научился грамоте, письму и некоторым другим полезным наукам и мог считаться по тому времени достаточно образованным человеком, к тому же обладавшим природной смекалкой и живостью ума. Воспитанный при дворе, он неплохо усвоил требования, которые предъявляет служба при благородных особах, и, вернее всего, стал бы простым ливрейным лакеем в королевском дворце, если бы не повстречался с Хью Уилаби. А произошло это следующим образом. Ровно за тринадцать лет до начала нашего повествования король Генрих направил делегацию в Кале для встречи немецкой принцессы Анны Клевской – своей будущей и очередной жены. В список благородных посланников той делегации имел честь быть включён и эсквайр Хью Уилаби, а среди прислужников для них оказался Дженкин Гудинаф. В молодом слуге внешние данные – статная фигура и приятное лицо – сочетались, как ни странно, с исключительной честностью и добропорядочностью, – ибо чаще всего, как подсказывает нам опыт, под маской красавца слуги скрывается льстец и обманщик. В честности Дженкина Уилаби имел случай убедиться, когда тот принёс ему богато украшенный кошель с вышитым серебром вензелем «H.W. », который хозяин случайно обронил на палубе во время сильнейшей качки. Уилаби подкупило благородство молодого слуги, он подарил ему золотую монету и предложил Дженкину Гудинафу по возвращению в Англию поступить к нему на службу, пообещав тому приличное жалование и нескучную жизнь. Последнее было, пожалуй, самым существенным, ибо Гудинаф, будучи незаурядной для слуги личностью и обладавший неунывающим нравом, начинал к тому времени уже тяготиться рутинным бытием дворцового лакея. Таким образом, вот уже двенадцать лет Дженкин состоял при Уилаби, долгое время поначалу сопровождая того во всех передрягах в Шотландии и перенося вместе со своим господином все тяготы и лишения солдатской жизни, отмеченные на его теле несколькими ужасными шрамами, и затем являясь постоянным его спутником в поездках по Англии. Суровые годы военной службы не могли не отложить свой отпечаток на характер Дженкина: беззаботная весёлость юноши переросла в сарказм и иронию умудрённого жестоким опытом человека, а былое благодушие уступило место напускному безразличию. Однако, неизменными остались преданность своему господину, неунывающий дух, иногда находивший себе путь сквозь нарочитое равнодушие, а также исключительная честность и тяга к справедливости (что, в общем-то, весьма похвально, но каковые, однако, выражалась порой в излишней прямолинейности и категоричности суждений).
По повелению своего господина Дженкин, почтительно державшийся всю дорогу позади, приблизился к Ронану и поехал с ним бок о бок.
– Что ж, в былые годы это действительно были монастырские здания, которые принадлежали приорату святого Варфоломея, – начал свой экскурс Гудинаф. – Но против короля Гарри разве какие святые могли устоять! Монастырь закрыли. А иноки, эти агнцы божии, безропотно блея, дружной отарой перекочевали в богадельню, которая лишь и осталась им от всех монастырских зданий. А там, вместо выслушивания исповедей и отпущения грехов, чем вся монашеская братия веками удачно и прибыльно промышляла, бывшие иноки нынче раздают еду и снадобья и утоляют страдания болящих и немощных.
– Но, должно быть, утолять душевные муки не менее важно, чем физические, – пытался заступиться за монахов Ронан.
– Видать, вашей милости не приходилось ещё страдать от жестоких ран, изнывать от губительных болезней и терпеть страшные лишения, – снисходительно ухмыляясь, заявил ординарец. – Иначе вы пели бы по-другому.
– Ну, может оно и так, что я мало ещё повидал,- неохотно согласился юноша, осознавая отсутствие у себя должного житейского опыта, чтобы поспорить со словами бывалого воина. – Тем не менее, я все равно убеждён, что все люди в той или иной степени нуждаются в духовном утешении и наставлении на путь благочестия и христианского смирения…
– Ну-ну, – только и произнёс ординарец.
– А скажите-ка лучше, Дженкин, что это за удивительная часовня высится прямо посреди дороги, а возле неё скопились люди, тачки и повозки?
– Пусть крест на стрехе не вводит вашу милость в заблуждение. Здание сие есть не более храм божий, чем вон те врата впереди нас – райские, – высказался ординарец и знающе пояснил: – Вы имеете возможность лицезреть часть Aquae dactus50. Если вы изволите помнить, недавно мы проезжали возвышенность, с которой открывался бы отличный urbis aspectus51; нынче, однако, нашу столицу по своему обыкновению поглотил ненасытный туман, словно кит – пророка Иону… Так вот, местечко то зовётся Хайгейт; и там из земной породы бьют источники кристально чистой воды, которая по свинцовым трубам и подаётся сюда, к Ольховым Воротам, да ещё к Воротам Калек. Каждый добропорядочный, работящий горожанин может получить здесь чистую водицу, если он не прочь заплатить, смею вас заверить, весьма умеренную сумму. Ну, а коли лень и пагубные привычки привели презренного лентяя в состояние нищеты, то, что ж, никто не мешает ему задарма черпать мутную воду из Темзы или Флита, или хоть вот из этого грязного рва с вонючей жижей… А вот уже и Ольховые Ворота, сэр, – продолжал исправно выполнять обязанности проводника Гудинаф, – с красующимся поверху святым Георгием. Эти portas52 давно уж находятся внутри Лондона – так разросся наш славный городок за последние века. А вот эта церковь перед самыми воротными башнями носит имя святого Ботульфа, покровителя странников. Такие же церквушки сторожат и другие городские врата. Кто-то может здесь вознести молитву всевышнему – за то, что благополучно добрался до Лондона и уберёг свою мошну от грабителей, а иные – поблагодарить Бога за то, что целыми и невредимыми унесли отсюда ноги.
– Как так, Дженкин?
– Поистине, сэр, в этом большом городе столько богатств и роскоши, что он, подобно соблазнительному запаху из придорожного трактира, притягивающему голодных путников, влечёт к себе всякого рода проходимцев, которые не осознают пагубности своих авантюр и преступлений, покуда пеньковая подружка ласковой рученькой не обовьётся вокруг их шеи. Упаси вас боже попасть в Ньюгейтскую тюрьму, а то под её сводами вы услышали бы множество подобных историй.
Едва только они проехали Ольховые Ворота, как в небесах случилась разительная перемена: тучи неожиданно расступились – то ли из-за налетевшего на город ветра, то ли в силу случайного совпадения, – и сквозь них проглянуло низкое ноябрьское солнце. Оно лило свой свет прямо в лица путникам, ослепляя их, и город предстал перед Ронаном тёмным контуром крыш, куполов и башен.
Далее их путь лежал по улице или, правильнее сказать, улочке, которая здесь, внутри городской стены, стала такой узкой, что два всадника едва могли разъехаться.
– Это улочка святого Мартина Ле Гранда, – сказал ординарец, крайне довольный тем, что может блеснуть своими познаниями. – Хоть она и зовётся великой53, но подобный термин вряд ли подходит к этой узкой расселине в толще городских кварталов. Оно, может, святой Мартин и был большим человеком, но, по мне, улочке этой куда более подходит название Мартин Ле Птит54… А эта полуразрушенная церковь того же святого в былые времена пользовалась репутацией надёжного убежища у разного рода преступников и злодеев, искавших укрытия под сводами неприкосновенного святилища. Но славный Гарри раз и навсегда положил конец всем этим монашеским предрассудкам. Вот и я так разумею, что, коли бы святые церкви продолжали служить убежищами лиходеям, то божьи храмы вскоре сами превратились бы в разбойничьи вертепы. Видать, из-за недоброй молвы оной церкви и суждено было пострадать.
– По правде говоря, я просто диву даюсь, что многие церкви в вашем городе находятся в столь плачевном состоянии, – недоумевал Ронан. – Скажите же, любезный Дженкин, чём провинились священнослужители и чем неугодны святилища жителям Лондона.
– Что вы, сэр! Так же как и прежде горожане посещают церкви, чтят Господа и боятся врага рода человеческого – по крайней мере, по воскресеньям, – и с той лишь разницей, что теперь главным наместником Бога на земле для них является английский король, а врага рода человеческого олицетворяет не только Люцифер, но и его земной собрат – папа римский.
– Я давно обратил внимание, Дженкин, какую неприязнь большинство людей в этой стране питают к римскому понтифику, но мне не у кого было спросить, чем им не угодил папа.
– Поначалу он не угодил королю Гарри, в результате чего они обменялись любезностями: папа отлучил английского монарха от римской церкви и наложил на него анафему, а наш король отлучил папу римского от английской церкви и возложил на себя венец её верховного владыки.
– А разве подобает папе, занимающем подножие престола небесного, угождать прихотям правителей, восседающим на тронах земных? – допытывался Ронан, орудуя заложенными в него при воспитании религиозными догмами, которые, однако, как для человека мыслящего, отнюдь не представлялись ему несокрушимыми.
– Прихотям государей, быть может, – и нет, но даже римские папы не в силах противостоять капризам купидона.
– Купидона?
– А то как же! Видите ли, сэр, король Генрих во что бы то ни стало желал получить развод с прежней королевой, с тем чтобы жениться на своей новой пассии – Анне Болейн, ну, а папа – ни в какую. Вот по этой-то причине они и рассорились. А там пошло и поехало. К тому же наш король смекнул, что неплохо было бы заодно пополнить исхудавшую королевскую казну и прибрать к рукам богатства распухших от золота и роскоши монастырей и аббатств. А посему владеемым монашескими орденами храмам с дозволения, так сказать, властей разрешено было пощипать пёрышки, то бишь чуть-чуть пограбить, имущество монастырей конфисковали, а монахам и монашкам пришлось искать иные средства существования, или же вовсе покидать добрую Англию, многие века исправно их кормившую.
Ронан на миг задумался. Неужели монастыри в его стране ждёт та же участь – быть опустошёнными бесчинствующей толпой? Верно ведь догадывался отец Лазариус о грядущих злосчастиях для шотландских обителей и их монахов, которых не минует сей жребий! Эх, и где сейчас праведный старец, что с ним сталось?
От этих невесёлых размышлений юного шотландца оторвало неожиданная метаморфоза: только-что ярко в глаза светило солнце, и вдруг, словно гигантская птица заслонила его исполинским крылом. Это огромный шпиль взметнулся ввысь и накрыл своей тенью наших путников.
– А скажи, Дженкин, что это за высоченное сооружение взмыло в небеса на башне там впереди, в конце улицы, – полюбопытствовал Ронан, – которое возвышается надо всеми крышами и куполами, словно мачта большого корабля над рыбацкими лодками, и закрывает от нас солнце.
– Ещё не видал я корабля с такими высокими мачтами, сэр, как шпиль собора святого Павла! – ответил ординарец. – Говорят, он уходит в небо аж на пятьсот футов. Не позавидовал бы я тем зодчим, которым при его постройке приходилось карабкаться на такую вышину55.
Высокий шпиль, низкое осеннее солнце и прояснившееся небо произвели такую длинную тень, что наши путники на несколько мгновений попали в неё, едва только вступили внутрь городской стены. Чем ближе они приближались к собору, тем всё более массивней и выше становился этот шедевр архитектуры. Дженкин подождал, пока юный шотландец полностью прочувствует величие сего грандиозного сооружения. Когда же они приблизились достаточно близко, чтобы можно было различить отдельные архитектурные детали, он не без гордости пояснил Мастеру Лангдэйлу, что перед ними кафедральный собор города Лондона, один из самых больших во всём мире. Правда, в словах Дженкина слышалось некоторое смущение, понять причину которого юноша смог, когда они подступили почти вплотную к святилищу.
Ронан с огромным интересом оглядывал гигантское тёмное готическое здание, длина которого на глазок составляла около семисот футов. В центре собора высилась квадратная башня, которую венчал высоченный шпиль. Массивные резные колонны, казалось, поддерживали высокую балюстраду. Пытливый шотландец попросил соизволения Уилаби задержаться здесь на несколько минут с целью осмотреть здание поближе, соскочил с коня и, движимый любопытством, прошёл на церковный двор. Здесь юношу ждало немалое разочарование, ибо от его внимательного взгляда не смогли ускользнуть царившие повсюду следы упадка и разрухи. Крест на макушке шпиля, судя по всему, давно уже не сверкал позолотой; добрая половина мозаичных окон были разбиты; главный вход в собор прикрывала полуоткрытая внушительных размеров дверь со следами работы топоров на своей покрытой резьбой поверхности; вместо когда-то высившихся на балюстраде статуй святых остались одни постаменты или лишь нижние части фигур. Большие ямы в земле с остатками фундаментов и разбросанными там и здесь обломками и камнями напоминали о некогда стоявших здесь зданиях, теперь разломанных для того чтобы стать, вероятно, материалом для строительства вилл и дворцов знати. На погосте виднелись останки полуразрушенных склепов, гробниц, часовенок и аркад. В недоумении Ронан вернулся к своим спутникам.
– Ничего не попишешь, – сказал Дженкин, заметив тень растерянности на лице юноши, – Святому Павлу досталось вкупе с монастырями, хотя, по моему разумению, и незаслуженно. Видите ли, сэр, эти изумительные архитектурные украшения в пору всеобщей ненависти к Риму стали восприниматься несведущими идиотами как символы власти и могущества папы. Вот они-то и приманили к собору толпы невежественной черни, как запах падали притягивает стервятников.
– Когда-то давным-давно Рим уже был разграблен варварами, – задумчиво заметил Ронан и добавил без задней мысли: – А теперь, видно, эта страсть к вандализму через саксонскую кровь передалась и англичанам.
– Позволю себе не согласиться с вашей милостью! – ретиво возразил задетый за живое Дженкин, принадлежавший к этой самой нации. – Во всех людях, а особенно необразованных и дурных привычек, будь то шотландцы или французы, турки или сарацины, – разумеется, Гудинаф не мог включить в этот список англичан, – изначально заложена пагубная тяга к разрушению. А когда чернь по своему тупоумию распалена сей презренной страстью, она собирается в исступлённое стадо и несётся крушить всё что ни попади.
– Верно, вот и я так думаю, Дженкин, – поспешил согласиться юный шотландец, досадуя на свою оплошность. – Ярость людских масс подобна гигантской волне, которая сметает всё на своём пути.
Разговаривая подобным образом, путники выехали на необычно широкую и многолюдную улицу.
– Вест Чипинг, сэр, – сказал проводник, – или просто Вестчип. Право, она больше напоминает не улицу, а рыночную площадь, каковой, по сути и является.
Ронан бросил взгляд на открывавшееся перед ним пространство, которое и в самом деле напоминало огромное многолюдное торжище, на котором народ буквально кишел, словно пчёлы в улье. Здесь и там стояли повозки и лотки с разложенными на них всевозможными товарами, а покупатели бойко торговались с неуступчивыми продавцами. Нижние этажи домов, нависших над улицей, представляли собой сплошь торговые лавки и разного рода мастерские, в которых в те времена ещё не было витрин, а потому торговцы раскладывали на открытых лотках, вынесенных прямо на улицу, всё, что предназначалось для продажи.
Путники с большим трудом пробирались сквозь это скопище людей, с таким азартом увлечённых меной звонких монет на товары, будто совершение удачной сделки представлялось для них самой заветной мечтой и смыслом всего их существования. Порой то слева, то справа сыпались ругательства в адрес всадников и также их лошадей, чьи копыта грозили того и гляди покалечить добропорядочных горожан, одни из которых были заняты святым ремеслом продажи, другие – не менее благочестивым деянием приобретения.
Однако, разномастная рыночная толпа состояла не только лишь из бойких продавцов, жаждавших повыгоднее и поскорее сбыть свой товар, и почтенных горожан-покупателей с благодушными улыбками, в хороших одеждах на плечах и с тугими мошнами на поясе, но и являла жалкого вида людей в лохмотьях с понурыми и обозлёнными лицами, не относившимся, очевидно, ни к первым, ни ко вторым. Хотя они изредка что-то и покупали, предварительно тщательно порывшись в карманах своего убогого одеяния, но главным образом соревновались с крутившимися между ног дворнягами – в части подбирания выброшенных прямо на землю протухших и испорченных съестных товаров, а иногда выклянчивали фартинг другой у какого-нибудь богатого на вид покупателя.
– Как видите, сэр, – невозмутимо сказал Гудинаф, брезгливо отталкивая ногой одного из попрошаек, – в своей лени и нежелание честно зарабатывать свой хлеб насущный иные нерадивые людишки не чураются вступать в почтенную гильдию нищих и воров.
– Но почему вы полагаете, Дженкин, что они не могли очутиться в таком бедственном положении по какому-нибудь ужасному стечению обстоятельств? – спросил Ронан. – Неужели вы не испытываете сострадания к этим несчастным людям?
– Ничуть! Каждый должен сам зарабатывать свой хлеб. Работы в этом городе хватает. А коли ты уж такой немощный, то ступай в богадельню и не морочь порядочным людям голову. На дух не выношу я этих обманщиков.
В своём праведном гневе Гудинаф напоминал закипевший котёл с похлебкой. Чтобы дать ему немного остыть, юноша переменил разговор и посетовал на медленность их продвижения по запруженной улице. Ординарец с ним согласился и заметил, что в этом городе больше привыкли полагаться на крепость ног, нежели на быстроту скакунов или выносливость мулов. К этому Дженкин добавил, что если тебе и ноги отказывают, но кошелёк в своей преданности ещё не изменил, то весёлая братия лодочников доставит тебя до любого дома неподалёку от воды, или же стожильные носильщики примчат в портшезе куда быстрей, чем лошадь или мул. После этого ординарец обратился к своему господину, ехавшему сзади с видом глубокой задумчивости, и взял на себя смелость напомнить тому о необходимости зайти в Гилдхолл, чтобы получить грамоту от гильдии купцов о назначении его командором плавания.
– И мне думается, ваша милость, что покуда мы находимся сейчас недалеко от Гога и Магога56, то дабы не терять драгоценное время в будущем, лучше зайти туда немедля.
– Да-да, ты совершенно прав, мой верный Дженкин, – ответил Уилаби. – Я так погрузился в думы об этом хлопотном плавании, что у меня совсем вылетело из головы о надобности самолично получить аффирмацию в том, что я и в самом деле являюсь его командором. Ну что ж, к ратуше!
Путники свернули в небольшой переулок и вскоре стояли перед большим высоким зданием, по своему великолепию не уступавшим лучшим дворцам знати, но как понял Ронан, то была лондонская ратуша, иначе называема Гилдхолл. Уилаби поправил меч на перевязи, отряхнул сапоги от дорожной пыли и на некоторое время скрылся в величественном здании, оставив восторженного Ронана любоваться устремившимися ввысь колоннами, причудливыми резными шпилями, восхитительной каменной аркой и высокими сводчатыми окнами Гилдхолла. Особо внимание юноши привлекли две большие гипсовые статуи, похожие на стоящих на задних лапах собак с длинными завитыми хвостами, узкими мордами и высокими ушами, хотя распростёртые крылья напоминали скорее каких-то мифических животных; передними лапами эти чудовища держали большой щит с изображённым на нём гербом города.
Вскоре из огромной, в два человеческих роста резной двери показался довольный командор с перевязанным свитком в руках, он резво вскочил в седло и всадники вновь пустились в путь по запутанным и многолюдным улицам.
Как бы в подтверждение слов Дженкина о благочестии лондонцев, почти на каждом перекрёстке и каждой улице Ронану попадались большие церкви и часовни поменьше. По словам проводника, каждая гильдия изначально обязана была за свой счёт построить одну, а то и несколько церквей и содержать их в достойном и подобающем виде, а всего же церквей городе по его прикидке насчитывалось не менее пяти дюжин…
Затем путники проехали по Ломбард-стрит с высокими домами по сторонам, в которых, судя по вывескам и аккуратным фасадам, размещались многочисленные торговые лавки и золотошвейные мастерские, швальни и цирюльни, конторы менял и стряпчих, а в верхних этажах обитали их хозяева и прочие зажиточные горожане.
Всадники ехали не спеша, потому как двигаться быстро даже по такой относительно широкой улице как Ломбард-стрит было попросту невозможно из-за большого количества прохожих. Впрочем, переполняемый радостными эмоциями Ронан был только рад сему обстоятельству, так как оно давало ему возможность получше рассмотреть город, дома, людей – и особенно, если говорить без лишней щепетильности, лица молоденьких горожанок. Некоторые из них принимали его бесхитростный взгляд, полный весёлого любопытства, за крайнее бесстыдство, прятали или в негодовании отворачивали лица, другие, менее чопорные отвечали молодому и статному юноше на прекрасном скакуне смущёнными улыбками, а были и такие, которые в ответ громко смеялись и махали всадникам платками. Действительно, трио было весьма живописное и заслуживающее внимание прохожих: немолодой уже воин с телосложением Геракла, смотревший смело и уверенно; светящийся радостной улыбкой молодой джентльмен, хоть и уступавший в габаритах своему старшему компаньону, но также – с крепкой, упругой фигурой, лихо сидевшей на изумительной красоты вороном; и их статный, словно Аполлон, слуга с красивым и мужественным лицом, которое портила лишь еле заметная кривая улыбка, никак не подходившая к прямому и невозмутимому взгляду.
Далее путники свернули на улицу, называемую Травяной – хотя, как заметил Ронан, травой она была покрыта не гуще, чем палуба корабля, – и направились в сторону Темзы. О приближении к реке можно было судить по запаху рыбы, которым, казалось, здесь пропахло всё – и дорога, и дома и прохожие. Обратив внимание, что Ронан принюхивается к этому непривычному запаху и подёргивает носом, Дженкин заметил:
– Конечно, сэр, этот odore57 нельзя назвать благоуханным фимиамом, но прибыли он приносит гораздо больше, чем все прочие благовония, вместе взятые. На этой улице располагаются лавки цеха рыботорговцев, пожалуй, древнейшего и самого уважаемого в городе. Целый квартал справа со всеми зданиями и сооружениями принадлежит этой гильдии, а воды Темзы бьются о самый их фундамент. А слева – видите эту высокую и массивную башню? – это церковь святого Магнуса Мученика.
– Вы упомянули воды Темзы, реки, которая, как мне думается, должна быть широкой и многоводной. Но где же она, добрый Дженкинс? – озадаченно спросил Ронан. – Я вижу лишь широкие ворота, перегораживающие улицу, которая, судя по виднеющимся за ними скатами крыш и шпилям, продолжается за воротами и тянется вдаль, сколько хватает глаз. Не могу взять в толк, кто меня обманывает: то ли моё обоняние, которое ощущает запах реки, то ли моё зрение, говорящее о нахождении в толще городских кварталов.
Дженкин Гудинаф лишь хитро ухмыльнулся. Он проехали ещё несколько шагов, и тут в прогалках между массивными воротами перед ними и стоявшими слева и справа зданиями показалась широкая полоса водной глади, крутым изгибом уходившая вправо, где вдоль берега над самой водой располагались городские дома, которые вдали постепенно переходили в парки и дворцы. В прогалине слева Ронан узрел лишь противоположный менее впечатляющий берег этой полноводной реки.
– Но как это, Дженкин?! – изумился юноша. – Передо мной широченная река, а через неё на четверть мили протянулся целый городской квартал, от берега до берега! Невероятно!
Глава XXVII
Мост
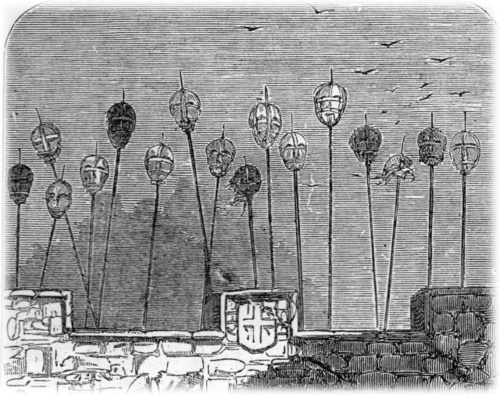
То, что вызвало такое удивление у юного шотландца, и было давно привычным для всех жителей английской столицы, стал чудный, протянувшийся через Темзу мост. По правде говоря, таковым его трудно было назвать, ибо на первый взгляд он более напоминал собою нагромождение всяческих домов, разной высоты и конфигурации, которые каким-то чудом были здесь выстроены. Из-за недостатка места эти странные сооружения тянулись вверх как опята на стволе поваленного дерева и нависали над водой наподобие пивной пены, готовой вот-вот выплеснуться через край кружки. Казалось, словно мост был самым желанным местом обитания лондонцев, ибо непонятно, как ещё объяснить такую скученность зданий на сооружении, должным служить средством пересечения реки.
Путники проехали через ворота и вступили на этот странный мост. Они вынуждены были спешиться и взять коней за поводья, потому как открывавшийся перед ними проход между двумя рядами домов был настолько узок и запружен людьми и повозками, что продвигаться по этой улочке верхом было немыслимо. Вдобавок там и здесь стоявшие по обе стороны дома соединялись поверху перекрытиями, или галереями, которые в некоторых местах нависали всего в девяти-десяти футах над поверхностью моста так, что всадникам пришлось бы пригибаться к луке, дабы избежать риска расшибить себе голову.
В некоторых местах между домами были оставлены небольшие ниши, куда можно было свернуть, чтобы разминуться со встречным потоком прохожих и возов. В один из таких проходов и своротил сэр Уилаби со своими спутниками, чтобы пропустить весёлую труппу бродячих артистов: менестрели, актёры и паяцы с хохотом, прибаутками и озорным гиканьем прокладывали себе путь к северному берегу, в то время как останавливавшиеся поглазеть на них прохожие ещё более затрудняли движение… Оказалось, что ниша, где решили передохнуть путники, была сквозная, и Ронан, сделав несколько шагов, очутился на нависавшей почти над самой водой деревянной площадке, откуда он смог, насколько позволял небольшой угол обзора, окинуть взглядом весь мост с наружной стороны. А зрелище было действительно потрясающее. Юный шотландец насчитал по всей длине двадцать каменных пирсов или быков (как их зовут обычно строящие мосты зодчие), которые служили опорами для арок моста. А из-под этих каменных сводов шумным потоком низвергались водные массы, образуя водопады по всей длине этого грандиозного сооружения. Ронан удивлённо поднял брови, подумал секунду и спросил Гудинафа:
– А скажите-ка, любезный Дженкин, верно я мыслю, что причина этих водопадов лежит в том, что мост – если прикинуть на глаз – почти наполовину перекрывает течение Темзы, затрудняя движение её вод, и поэтому образуется такой перепад поверхности реки с разных его сторон.
– Ну, хотя ваша милость человек и учёный, но по правде, чтобы об этом догадаться, большого ума не требуется, – ответил Гудинаф. – Впрочем, эти водопады, надо полагать, зависят ещё от чередования приливов и отливов. Ну, а если вы желаете узнать всё толком про здешние воды, потоки и течения, то вон тот тритон на пирсе, верно, лучше меня сможет вам помочь.
Тут Ронан обратил внимание, что внизу на воде покачивалась лодка, которая, чтобы её не унёс стремившийся из-под моста бурный поток, была привязана к одному из брёвен, вертикально высившихся их воды вокруг пирса. Напротив этого судёнышка, сложив руки на коленях, сидел человек в грубоватой суконной куртке, необычном зелёном шарфе и надвинутой на самые глаза шапке, из-под которой выбивались длинные нечёсаные волосы. Весь вид этой персоны говорил за то, что это был лодочник, сотни которых трудились на Темзе, главном лондонском транспортном пути того времени. Тяжёлое ремесло отложило свой отпечаток на огрубевшем, обветренном лице лодочника, нижнюю часть которого прятала густая чёрная борода.
– Эй, приятель из династии троглодитов! – крикнул ему Дженкин. – Растолкуй-ка молодому джентльмену, почему ты сидишь на этом пирсе, словно печальная русалка на морском берегу.
Лодочник повернулся и, обращаясь к Ронану, ибо других молодых джентльменов он здесь не видел, громко, силясь перекричать шум воды, ответил хрипловатым голосом:
– Сэр, вы можете развеять мою печаль, ежели изволите прокатиться на моём корабле вниз по реке. Я мзду большую за работу не возьму, все равно без дела просиживаю.
– Я вынуждён тебя огорчить, бравый речной капитан, и отказаться от твоего любезного предложения, – крикнул в ответ Ронан. – Но чтобы возместить тебе эту потерю, вот, купи подарок своей жене или сладостей детям, – и юноша кинул лодочнику четырёхпенсовик.
– Да благослови вас Бог, сэр, – ответил обрадованный нежданной монете лодочник, – только не довелось мне покуда обзавестись ни хозяйкой, ни детишками.
– Ну, тогда, выпей доброго эля или чего покрепче за благополучное возвращение на твёрдую почву всех твоих собратьев, плавающих по водам или готовящимся это сделать. А теперь поведай-ка мне, славный лодочник, почему ты сидишь с этой стороны моста, тогда как по другую, там, где весь берег усыпан домами, потребность в твоих услугах, должно быть, гораздо больше.
– Правда ваша, сэр, – согласился лодочник, – но, видите ли, сначала мне надобно дождаться более высокого прилива, дабы переправить мой корабль по ту сторону моста. Вода хоть чуть и поднялась уже, но ещё не настолько высоко, чтоб мне туда перебраться. Обычно-то я поджидаю своих клиентов у Старой Пристани, что напротив Святого Павла – там меня каждое утро застать можно. А нынче вот один важный моряк, судя по одёжке, да к тому же отважный смельчак, попросил доставить его в Редклиф и плату хорошую предложил.
– Однако же, почему ты называешь того человека смельчаком? – полюбопытствовал Ронан, которому теперь было интересно всё, касающееся моряков.
– А как же иначе, сэр! Отлив-то был в своей крайней точке! А вы, скажем, разве не устрашились бы проплыть в лодке под этим мостом и лететь вниз с высоты шести футов? А тот моряк не струхнул, когда я, – как и положено честному человеку, – предупредил его об опасности. Он лишь ухмыльнулся и сказал, что ему приходилось низвергаться с этаких волн, которые перехлестнули бы через этот мост со всеми его домами. Я хоть и всю жизнь здесь свой ялик вожу, но каждый раз, как мне случается во время отлива под мостом проплывать, у меня душа в пятки уходит и сразу незнамо как все молитвы вспоминаются.
– Ну, насколько можно судить, сегодня вы с тем моряком весьма удачно совершили прыжок с этого водопада, – продолжил надрывать горло юноша, ибо шум воды был просто оглушающий.
– А иначе я с вами бы здесь не разговаривал! – заявил лодочник. – Вода-то ведь в это время года ужас как холодная, а я, к стыду своему, и плавать не выучен.
– Послушать тебя, добрый лодочник, так плаванье под мостом весьма опасное занятие. А коим же образом алчущие добраться с верха реки вниз по течению и наоборот преодолевают эту, чреватую гибелью преграду?
– Ну, когда прилив, так можно хоть в одну сторону, хоть в другую без опаски пройти. Вот лихтёры-то и большие суда порой и дожидаются полной воды по много часов с каждой стороны. А уж во время отлива иного способа нету, как перейти на своих двоих по другую сторону моста и там уж снова нанять лодку, ежели вы, конечно, не такой храбрец как нынешний мой пассажир. Да и не каждый лодочник, скажу я вам, согласится своей шкурой рисковать. У нас даже говорят, что мост этот выстроен, дабы разумные пересекали его поверху, а глупцы проплывали под ним…
В этот момент Уилаби напомнил юноше, что дорога уже свободна и пора продолжать путь. Ронан кивнул на прощание лодочнику в зелёном шарфе, но тут ему вдруг бросилась в глаза величественная крепость, возвышавшаяся на левом берегу не более чем в полумиле от него и на которую он поначалу не обратил внимания, увлечённый разглядыванием моста и беседой с лодочником.
– С вашего позволения, сэр Уилаби, ещё один вопрос, – прокричал Ронан, любопытство которого, по-видимому, было также безгранично, как и бескрайний океан, по которому он так жаждал пуститься в путь. – Эгей, Дженкин, а что вы можете поведать страннику про ту дивную цитадель у самой реки? Она выглядит так весело, празднично и гостеприимно, словно волшебный замок из сказки.
И в самом деле, на берегу Темзы величаво стояла бесподобная крепость, обнесённая со всех сторон зубчатой стеной футов тридцать высотой с расположенными вдоль всей её длины круглыми башнями с узкими окнами или бойницами, и опоясанная широким рвом с водой. Она выглядела внушительно и неприступно, но в то же время, благодаря светлому песочнику, из которого были сложены крепостные стены и сам замок, весело развевавшимся на башнях флагам и зелёному холму с северной стороны, она казалась не грозным бастионом, а радушным замком какого-нибудь знатного вельможи, а может даже и самого короля. Высокое массивное здание в центре крепости действительно было похоже на чудесный дворец, оно было украшено зубчатой балюстрадой и квадратными башенками по углам с похожими на перевёрнутые луковички куполами, а размер сводчатых окон свидетельствовал о высоте внутренних залов.
– Клянусь всеми святыми, сэр, я не слышал ни об одном человеке, которого когда-либо ждал бы тёплый и радушный приём в лондонском Тауэре! – ответил Гудинаф, скривив губы в ироничной улыбке.
– Так это есть Тауэр! – изумился Ронан. – Та самая крепость, где в заточении провёл несколько недель мой пленённый батюшка! Я представлял его себе иначе – тёмный и мрачный бастион с подземными казематами, из которых раздаются стоны ожидающих казни узников, а лицезрю милейший замок у подножия зелёного холмика.
– Смею вас заверить, сэр, – сказал Дженкин нарочито мрачным тоном, – что его темницы так толстостенны, что ни одно стенание несчастных узников не вырвется наружу. А возвышенности этой, которую вы изволили назвать зелёным холмиком, более пристало зваться не Тауэрским холмом, а лондонской Голгофой, ибо трава на ней так зелена из-за того, вероятно, что орошена благородной кровью сотен, а то и тысяч людей казнённых на этом месте…
То ли от слов Дженкина, то ли от представления себя на месте злосчастного узника, готовящегося к смерти, у впечатлительного юноши невольно где-то в груди зародилась смутная тревога, причину которой он не мог себе объяснить. От грустных ассоциаций Ронана отвлекло, однако, дальнейшее путешествие через Лондонский мост, причудливые здания которого, выглядывавшие из окон разноликие физиономии и разношерстная толпа на улице представляли занимательное зрелище для любопытного шотландца. И хоть весь путь через реку был не длиннее четырёх сотен ярдов, но он дал Ронану, никогда прежде не видавшего такого скопления людей на таком маленьком пространстве, море впечатлений. Вон разгневанный покупатель покидает лавку башмачника, недовольный непомерной ценой; а тут, наоборот, миловидная девица жеманно натягивает только что купленные перчатки, кокетливо любуясь своими ручками; над головой в крытом переходе слышатся голоса двух кумушек, оживлённо обменивающихся последними сплетнями; тучный мясник сгружает с тележки жирные окорока, которые он доставил в харчевню («Да тут даже таверны есть!» – подивился Ронан); два чумазых мальчугана горячо спорят из-за найденного фартинга, кем-то невнимательно оброненного на дорогу; а вон тащится калека, выставляя напоказ своё увечье в надежде получить подаяние; грубый ремесленник в кожаном фартуке вышел из своей мастерской вздохнуть свежего воздуха; горожанин в накинутом на плечи коротком фламандском плаще пытается поскорее перебраться на другой берег, где его ждут неотложные дела; шаткой походкой идёт подвыпивший фермер, напевая себе под нос деревенскую песенку.
– Почему же здесь так много народа? – спрашивал любопытный юноша у своего всеведущего провожатого.
– Так ведь, сэр, вы и представить себе не можете, как на мосту жить-то удобно, – ответил тот. – Лентяям по сердцу, что вода здесь дармовая и в любом количестве, лишь ведёрко в окошко опусти. Чистюли млеют от отсутствия дурных запахов, ибо течение быстро все испражнения уносит. А люди трусливые, страшащиеся всяческого поветрия, чувствуют здесь себя как у Христа за пазухой, поскольку вода и ветер живо всю заразу прочь гонят. Говорят даже, будто ни чумы тут, ни какого другого мора и подавно не случалось. Некоторые так, видно, и живут на воде, ни разу в жизни не удосужившись на берег ступить…
Временами юноше казалось, что они передвигаются вовсе не по мосту, а по оживлённой городской улице, правда, слишком уж узкой. Дома в два и три яруса стояли так плотно друг к другу, что казались единым целым, за исключением, быть может, одной-двух прогалин. Местами небо полностью скрывалось за перекрытиями и переходами, служившими, по всей видимости, как для упрочнения всей конструкции, так и для увеличения площади строений. В нижних этажах были сплошь торговые лавки и мастерские, в то время как верхние служили жилищем.
Юный шотландец был настолько поражён всем увиденным, что не мог удержаться от того, чтобы не обрушить на Дженкина Гудинафа град всевозможных вопросов, имевших отношение к жизни на этом удивительном мосту и его обитателям. Бедный ординарец уже корил себя, что изначально взялся с излишним усердием за роль проводника для дотошного юнца; но делать было нечего, и он продолжал покорно нести свой нелёгкий крест.
Когда путники добрались до середины моста, здания слева, справа, да и сверху тоже, неожиданно расступились, открывая прекрасный вид на Темзу в обе её стороны и давая возможность от горизонта до горизонта обозреть небо, начинавшее уже покрываться вечерними красками. Простор реки, особенно вверх по течению, был усыпан множеством лодок и судов, больших и малых, с парусами и без, стоявших на якоре или же двигавшихся по всем направлениям, торопясь, вероятно, до наступления темноты добраться до места назначения.
– Но как же ялики и барки с длинными мачтами и высокими парусами преодолевают этот мост? – продолжал сыпать вопросами любопытный юноша. – Ведь высота его арок на глаз не превышает дюжины футов.
– Вот-вот, мы как раз сейчас и приближаемся к тому месту, которое само всё вам скажет, – пояснил Дженкин, указывая на тяжёлые цепи подъёмного моста, который расположился как раз посреди своего более длинного сородича, – и позволит моему языку несколько отдохнуть. Мост на мосту!
Но тут юноша застыл как вкопанный, и на его лице вдруг не осталось ни удивления, ни восторга, которые не покидали его с утра, а наоборот, оно неожиданно исказилось выражением омерзения и негодования.
– Но что это, Дженкин? – с тоном отвращения спросил Ронан. – Если мои глаза не обманывают своего хозяина, то я лицезрю самую зловещую картину, когда-либо виданную мною. И как могут жить люди в том здании напротив, каждый божий день созерцая это ? Как могут смеяться вон те два простолюдина у подножия башни, зная, что находится над ними?
– Да что в этом такого, сэр! Подумаешь, всего лишь головы изменников на Башне Предателей, – равнодушно ответил Дженкин. – Напоминают кочаны капусты на огороде, вам не кажется?
Здесь стоит пояснить читателю, что вызвало такой ужас и отвращение у нашего героя. Перед ним во всю ширь моста, охраняя подъёмный мостик и как бы преграждая путь страннику и заставляя почтительно остановиться, высилась массивная и тёмная каменная башня. Она была выше всех близлежащих крыш, и потому на фоне тускнеющего неба над ней отчётливо выделялись высокие шесты, которые венчались ужасными символами той жестокой эпохи – отрубленными человеческими головами.
– Эх, юноша, – взял слово Уилаби, позволявший дотоле своему ординарцу «просвещать» Ронана. – К твоему счастью ты прожил ещё слишком короткую жизнь, чтобы успеть повидать все её ужасы, а барон Бакьюхейд, похоже, счёл за лучшее поберечь твоё молодое воображение и не стал рисовать пред тобой страшных картин войн и междоусобиц, заговоров и мятежей, пыток и казней. Если бы ты видел то, через что довелось пройти нам с Дженкином, то не ужасался бы от дюжины голов, давным-давно отсечённых топором палача и выставленных на всеобщее обозрение в устрашение и назидание тем, у кого могут появиться крамольные помыслы.
– Замечу, однако, что среди этих черепушек есть один, – вполголоса сказал ординарец Ронану, – который принадлежала тому, кто когда-то благоволил моему господину, и из чьих рук, точнее от чьего меча, он принял рыцарское звание.
– Ты, должно быть, имеешь в виду Эдварда Сеймура? – с печальной задумчивостью произнёс Уилаби, обладавший, как оказалось, неплохим слухом. – Что ж, в самом деле, именно он, после захвата нами Лейта посвятил меня в рыцарское сословие. Сеймур был отличным полководцем, но жажда безграничной власти сгубила его душу и умертвила тело.
– Каким же образом, сэр Хью? – поинтересовался Ронан.
– О, это долгая история, юноша, – ответил командор. – Но она свидетельствует о том, как стремление вознестись в итоге приводит к головокружительному падению. Если вкратце, то Сеймур, будучи дядей Эдварда, после смерти Генриха Тюдора захватил регентство над юным королём и фактически правил страной от его имени, что, понятное дело, вызывало недовольство у других знатных вельмож и царедворцев, лишённых своей доли власти. И, в конце концов, Тайный Совет нашёл повод лишить регента всех его полномочий, а заодно и титула герцога Сомерсета. Но видно, жажда власти не давала спокойно спать непокорному Сеймуру, через некоторое время его снова заподозрили в заговорах; и не прошло ещё и года, как на Тауэрском холме благородная голова рассталась со своим осанистым телом и украшает ныне менее почётное место.
– Вы с таким равнодушным спокойствием говорите о вашем бывшем командире и благодетеле, – удивлённо произнёс Ронан, – будто мы не проходим сейчас под его несчастным черепом, обдуваемом всеми ветрами и омываемым осенними дождями, с глазницами, давно выклеванными стервятниками.
– Годы войн и поля сражений очерствили мою душу, молодой человек, – раздражённым тоном ответил Уилаби, уловивший нотку укора в голосе непочтительного юноши. – К тому же граф Гертфорд – оставшийся у Сеймура титул – сам выбрал свой путь, предпочтя власть в королевстве стезе воина, и возможную позорную смерть на плахе от топора палача – почётной гибели на поле брани от вражеского меча.
– Ваша милость, не позволите ли мне высказаться в защиту некоторых казнённых, чьи благородные головы имели честь или несчастье украшать сию башню, – вмешался в разговор Гудинаф, услышавший недовольство в голосе своего господина и желавший исправить свою оплошность. Он же не мог предвидеть, что Уилаби расслышит его слова, а юноша воспримет всё с такой простодушной впечатлительностью.
– Ну что ж, изволь, коли сумеешь, – кивнул командор, хмуря брови.
– Припоминаю я один случай из моего отрочества, – продолжал Дженкин, – связанный с этой Башней Изменников. Мы, мальчишки, частенько бегали сюда в течение месяца или двух, чтобы поглазеть на удивительное чудо, а именно – на голову одного несчастного. Дело в том, что покуда эта голова располагалась на башне, её не трогал тлен и стервятники боялись сесть на неё, она была почти как живая, разве что глазами не моргала. Видать, благодатность деяний того человека и святость его души не позволяла разложению трогать эту часть его тела.
– Удивительное дело! – воскликнул Уилаби. – Если, конечно, ты не изменил своей привычке, Дженкин, и говоришь чистую правду; хотя, говоря по чести, я ни разу не имел повода попрекнуть или заподозрить тебя в обмане. И как же, интересно, звали того изменника, или праведника – уж затрудняюсь и сказать, кем он был?
– Если мне не изменяет память, а она редко меня подводит, – ответил ординарец, – имя казнённого было сэр Томас Мор…
– Томас Мор, – повторил Ронан, припоминая что-то. – Недавно мне приходилось читать книгу под названием Утопия , где автором был записан именно сэр Томас Мор. Быть может, это один и тот же человек.
– Действительно, юноша, ты не ошибаешься в своём предположении, – подтвердил Уилаби. – Томас Мор и в самом деле был великим мыслителем и государственным деятелем. Однако свою преданность католической вере он противопоставил страстному желанию короля Генриха разорвать с римской церковью, и всяческими путями вставал на защиту папства. А всякого, кто осмеливался пойти супротив нашего своенравного монарха, неминуемо ждала если уж не гибель, то опала и изгнание…
На несколько мгновений Ронан впал в глубокую задумчивость, так несвойственную юности… Неужели все блага и почести земной жизни ценятся выше той позорной и страшной смерти, на какую обрёк себя Эдвард Сеймур? А с другой стороны, Томас Мор был обезглавлен за свои убеждения, которые не предал до последнего своего вздоха, хотя они и стоили ему жизни. Такие разные судьбы, а конец один! Юноша вздохнул, ибо был совершенно сбит с толку необъяснимыми превратностями жизни, над которыми он, в итоге, решил поразмышлять на досуге.
Путники двинулись свои стопы дальше и прошли под Башней Предателей. За ней улочка на мосту совсем сжалась и стала напоминать узкую и тёмную пещеру, по которой словно призраки сновали бледные тени. Вкупе с жуткой картиной, увиденной на кровле башни, эта атмосфера вызвала в мыслях Ронана неожиданное и невольное осознание тщетности бытия и неотвратимости смерти, которые так не шли юношескому энтузиазму и его бодрому духу последних дней. Чувство тоскливой тревоги вдруг сжало юноше грудь. Но касалось ли это ожидание неумолимой гибели его или же других близких ему людей, понять он был не в состоянии, и Ронан помыслил, что, быть может, у него просто разыгралось воображение после созерцания черепов на крыше башни. Не будучи чересчур мнительным человеком, он попытался усилием воли стряхнуть с себя это глупое наваждение и раздражённо посетовал:
– Дженкин, когда же мы протолкаемся к концу этого чёртова моста? Он до того узок и сумрачен, что напоминает мрачное горную теснину с бурлящим по её дну потоком.
– Осталось несколько пролётов, сэр, – невозмутимо ответил ординарец, – и скоро вы ступите на твёрдую почву, которая, впрочем, может уйти из-под ног с такой же лёгкостью, как и болотная кочка. По правде говоря, не прошло ещё и получаса, не считая наших остановок в угоду вашему непомерному любопытству, как мы движемся по мосту, а пробраться с лошадьми через такое скопление людей, домов, повозок равно, что в день коронации протиснуться к самому трону. Впрочем, осмелюсь сказать, что вы зря считаете мост узким. Я слыхал, к примеру, что при короле Ричарде Втором этот самый мост служил ристалищем, на котором в поединке на конях и с копьями сошлись два рыцаря – шотландский посол в английском королевстве и посланник Англии в Шотландии. Уж не знаю, с какой стати они оба оказались при английском дворе, в то время как им следовало бы находиться на расстоянии месяца пути друг от друга, только английский посланник вызвал на поединок шотландского посла. И к бесславию всех англичан и к моему собственному огорчению, мой соотечественник был выбит из седла своим шотландским визави. Так что, сэр, посол из вашего королевства доказал, что Лондонский мост не так уж и узок, по крайней мере, для того, чтобы в рыцарском турнире снискать лавры победителя. Видать, на мосту посреди реки их легче заполучить, нежели в бою в чистом поле.
Юноша улыбнулся этой забавной истории, и на душе у него стало чуть легче… Наконец долгий путь по мосту, казалось, подошёл к своему завершению, ибо Ронан обнаружил, что они находятся на открытой части, откуда даже в сумеречном свете можно было различить дома на берегу. В это время года темнеет рано, и потому, пока наши путники преодолели этот презабавный мост с его толчеёй, со спешащими его покинуть горожанами, живущими на земной тверди, и захлопывающимися в преддверии долгой ночи дверьми и ставнями, начинавшийся вечер превратился без мала в тёмную ночь, чему, к тому же, способствовали снова наплывшие тучи и надвигавшийся с низу реки туман. Перед путниками снова выросла каменная башня, почти точная копия уже виденной ими в середине моста, за исключением разве что одиозных результатов работы палача наверху. Башня преграждала путь на берег, но железные ворота были подняты и задержавшиеся на мосту жители южного берега Темзы спешили его покинуть. Ибо, по словам Дженкина, как правило, мост на ночь запирался с обеих сторон, что было старинной традицией и привилегией его обитателей, таким способом оберегавшихся от ночных разбойников. На последнем пролёте перед самыми воротами столпились люди: одни желали покинуть мост, другие же только что вернулись с берега и протискивались в обратном направлении.
На вершине башни по обеим её сторонам пылали огромные факелы, освещавшие эту, заполненную людьми площадку. Свет пламени отражался в тёмных водах Темзы, бежавших из-под арки моста. Внизу, на пирсе около самой воды на коленях стояла женщина. Пользуясь светом, который бросали факелы, она полоскала в потоке воды выстиранные одежду и бельё и аккуратно складывала их в стоявшую рядом корзину. В сумеречном свете нельзя было различить ни её лица, ни возраста. По крепким, красным от холодной воды рукам, которые открывали засученные по локоть рукава, коренастой плотной фигуре, да простоватой одежде можно было догадаться лишь, что это была служанка или работница, выполнявшая обязанности прачки. Она с таким остервенением полоскала тряпки, груда которых ещё лежала рядом с ней, что ей было не до стремительного потока, над которым она храбро склонялась, не до весёлых насмешек, которые отпускали в её адрес люди наверху. Казалось, всё, что ей хотелось, это поскорей разделаться с мерзкой работой и отогреть окоченевшие руки у тёплого очага в своей каморке. Подобное её исступление, несуразная фигура и неподходящее время для полоскания и служили поводом для зубоскальства толпы на верху моста.
Неожиданно чья-то шкодливая рука запустила в бедную прачку огрызком яблока. Работница как раз развернулась, чтобы положить в корзину очередную вещь, и пущенный сверху огрызок угодил ей прямо в лоб, что вызвало взрыв идиотского хохота в толпе. Но вдруг глупый смех неожиданно прервался, ибо оглоушенная неожиданным ударом прачка потеряла равновесие, пошатнулась и, нелепо размахивая руками, свалилась прямо в воду. Быстрое течение между опорами моста подхватило её и потащило прочь от пирса, на котором она до этого стояла. Одежда на бедной женщине сразу вздулась, что и позволило ей первые мгновенья удерживаться над водой, в то время как течение тащило её всё дальше и дальше. Люди на мосту растерянно глядели друг на друга.
– Точный выстрел! – прокомментировал Гудинаф. – Жаль, что наповал.
– Да как ты смеешь, подлая душа! – вскричал юный шотландец. Он метнул негодующий взгляд на Дженкина, как бы желая испепелить того на месте, в мгновение ока скинул головной убор, плащ, перевязь с мечом и бросил всё опешившему ординарцу. Ещё миг понадобился Ронану, чтобы вскочить на парапет моста и с высоты двадцати футов броситься в тёмные воды Темзы.
Всё произошло так стремительно, что никто не успел сделать ни малейшей попытки удержать безрассудного юношу. А он, энергично двигая руками и ногами, силился догнать уносимую течением женщину. Несчастная ещё пыталась отчаянно бить по воде руками, но намокшее одеяние уже не оказывало ей поддержки, а наоборот, сковывало её движения и тянуло ко дну. Она даже не кричала, нет, а лишь продолжала с остервенением колотить руками по воде, но уже не для того, чтобы прополоскать стиранное, а в тщетной попытке спасти свою жизнь. Временами бедняжка полностью уходила под воду, но какими-то неимоверными усилиями её голова снова показывалась над поверхностью. Она захлебывалась и жадно хватала ртом воздух, отчаянно шлепая по воде руками. Но видно было, что силы покидали несчастную жертву глупой и бессердечной шутки…
Прошло несколько мгновений, прежде чем опешившие зрители этой сцены смогли прийти в себя. Первым опомнился Уилаби:
– Дженкин! Что ты стоишь как собор святого Павла? Быстро прыгай в воду и спасай мальчишку!
– Увы, сэр, плавать-то я как раз и не умею! Может быть… Эй, люди, пять соверенов тому, кто вытащит молодца из воды!
– Чёрт бы ты тебя побрал! Да мне его жизнь дороже собственной! – вскричал командор и тут же схватил какого-то подвернувшегося под руку ремесленника и приказал ему бежать в башню и вытребовать у её смотрителя верёвку, другого он послал на поиски бечевы в противоположную сторону, остальным находившимся на площадке людям он повелел искать лодку, а кого-то отправил дозорными на берег смотреть, не выплывет ли к нему юноша сам.
Так грозен был вид командора, так беспрекословны были его команды, что многие из столпившихся здесь людей, неосознанно подчиняясь воле этого человека с громовым голосом и горящими глазами, бросились во все стороны в поисках лодок и верёвок.
Между тем несчастная прачка уже скрылась из виду – то ли она ушла под воду, то ли течение отнесло её так далеко, куда не доставал свет факелов. Юношу ещё можно было смутно различить во мгле, окутавшей реку, но и его очертания вскоре были поглощены пеленой непроглядного, быстро надвигавшегося тумана. Крепко впившись руками в парапет моста, подавшись вперёд, Уилаби напряжённо всматривался во мрак, в котором исчез Ронан. Кровь в венах командора бешено кипела, сердце стучало молотом, а голова раскалывалась от тысячи всевозможных мыслей. Досада на глупого юнца, бросившегося в воду из-за какой-то жалкой прачки, смешивалась с неимоверной тревогой за его участь. Неужели он, через несколько дней после знакомства, не смог уберечь юношу, судьба которого была с такой надеждой вверенная ему сэром Робертом? Но командор тут же гнал прочь подобные мысли. Не допустит Господь, чтобы Ронан погиб! Вон как сильно и уверенно он плыл. Не может такой человек сдаться воле стихии! Но река-то ужасно холодная, и насколько хватит у него сил держаться в стылой воде. Бедную женщину ему вряд ли спасти, самому бы не погибнуть. Но ведь этот безрассудный юноша может до конца бороться, чтобы вызволить из реки эту простолюдинку…
На мосту и на берегу продолжали раздаваться крики: «Лодку! Лодку!» Люди рыскали вдоль моста, но ни на одном из пирсов в этот поздний час уже не было лодочников с их лодками и яликами. Группа людей во главе с Дженкином сновала вдоль берега, ища какой-нибудь чёлн. Но все лодки, которые они обнаружили, были привязаны к берегу цепями с массивными замками, к тому же в них не было весёл, которые лодочники обычно уносили с собой. Гудинаф чуть не плакал от досады. Но наконец, двери одного из домов на берегу открылись и оттуда показался человек, кряхтя и ворча, что его беспокоят в такое позднее время и в такую промозглую погоду. Когда же до него дошло, в чём дело, он, пусть и нехотя, но согласился помочь, взял вёсла, отпёр свою лодку, куда сел Дженкин и ещё один мальчишка с небольшим факелом – из тех, которые зарабатывали тем, что по вечерам провожали путников по тёмным лондонским улицам и освещали им дорогу…
Тем временем Уилаби, стоя над аркой моста, обуреваемый тревогой и нетерпением, вдруг воскликнул:
– А где этот мерзавец, который имел наглость чем-то швырнуть в даму? Подайте его сюда! Клянусь рукоятью моего меча, болтаться ему вскоре в Тайберне, как увядшему листу на засохшей ветке!58
Из сборища зевак, никак не желавшей расходиться, чтобы узнать, чем всё закончиться, кто-то охотно ответил:
– То был какой-то проказливый юнец, сэр. Я его среди толпы-то заприметил – в долгополом рубище и рожица такая хитрая и нахальная. Однако ж сейчас его что-то здесь не видать. Небось, сбёг, как смекнул, чем его потеха обернулась.
– Гореть ему в адском пламени! Но когда же отыщется проклятая лодка? Эй, Дженкин! – не мог уняться Уилаби. – Ага, вот, наконец-то, и лодка, а в ней мой верный Гудинаф!
Из-под арки моста вынырнула лодка, в которой кроме лодочника сидел Дженкин и мальчик с факелом.
– Дженкин, тебя только за смертью посылать, чёрт возьми! Парня-то уже и не видно, гребите же скорее, ищите его, чёртовы дети. Помни, Дженкин, мне жизнь этого юноши дороже моей собственной!
Лодка устремилась туда, где четверть часа назад скрылась в мглистой темноте несчастная прачка, уносимая течением, а вслед за ней и Ронан, пытавшийся догнать её и спасти. Тревога Уилаби возросла неимоверно, ему казалось, что прошла вечность и скоро наступит утро – так медленно тянулось время в тягостном ожидании. В смятении он мерил шагами мост и всматривался в темноту Темзы. Народу на площадке перед башней, казалось, скопилось ещё больше, ибо многие очевидцы происшествия не собирались уходить, пока не узнают, чем дело кончится, и, наоборот, привлечённые суматохой жители домов на этом конце моста потянулись к месту происшествия – так уж устроено человеческое любопытство. Посланные на берег приходили с докладом, что никто на него не выплывал. Нечего и говорить, что надежд на благоприятный исход ни у кого, разве что, сэра Хью, не осталось, и все начали считать прачку и благородного юношу погибшими, и вполне обосновано – времени-то прошло изрядно, а вода была чересчур как холодна. Люди стояли и ждали, обмениваясь замечаниями.
– Ох, бедная девушка. Для всех домов в этом конце моста стирала, – причитала жалостливая кумушка, закутанная в шерстяной полушалок.
– Нет, уж, милочка. Сама она и виновата, – ответила её менее добросердечная соседка. – Не надо было в тёмное время к воде спускаться. Вот её русалки и утащили. Говорят, они любого могут к себе под воду утянуть, кто ночью и в туман к реке или озеру приближается, а тем паче руки туда сам суёт, – добавила другая сплетница.
– Да вовсе её и не утащил никто, глупые курицы, – уверенно заявил высокий человек в кожаных штанах и короткой буйволовой куртке, с огромной пилой за спиной и тесаком за поясом. – В неё какой-то озорник камнем запустил, она в воду и свалилась как подрубленное дерево. Я своими глазами видел. А за ней один молодой джентльмен с моста прыгнул – спасать, значит.
– Ну, знаешь ли, петух ты эдакий! Да тута недели не проходит, как в реку кто-нибудь да не падает, – ехидно продолжила злоязычница. – Ежели за каждым будет благородный господин прыгать, так в Англии вскорости дворян вовсе не останется.
– А мне вот думается, – сказала сердобольная кумушка, – что, кабы все наши дворяне были так отважны как тот юный джентльмен, мы бы, наверное, жили уже как в раю.
– Ха-ха! Какая же ты наивная, соседка! Да они с нас ещё кровушки попьют. Судачат, я слыхала, что скоро с обитателей нашего моста будут подать на воду брать. Посмотрим, как ты тогда запоёшь. Помяни моё слово.
– Не может того быть! Нечего тебе, кума, сплетни-то распускать. Наш король Эдвард милостив, и он не позволит ещё более его народ грабить.
– Да твой король больно уж молод ещё, чтобы позволять или не позволять. Говорят, за него Джон Дадли все решения принимает.
– Тихо вы, несушки! – гаркнул высокий человек в буйволовой куртке. – Глядите, вон огонёк в тумане показался: лодка возвращается.
И в самом деле, в темноте стали видны проблески огня, и скоро можно было различить силуэт лодки. Больше всех из стоявших на мосту волновался, понятное дело, Уилаби. Однако, отважный воин смог совладать с проявлением своих чувств и стоял прямо, скрестив руки, с величественной осанкой и властным лицом. Какой бы удар ни преподнесла ему судьба, он встретит его с достоинством, присущим его высокому рыцарскому званию. А ожидать худшего были все основания, ибо лодки не было около часа – времени вполне достаточного, чтобы вытащить из воды живого, но слишком малого, чтобы найти утопленника.
Ещё несколько взмахов вёсел и всем стало очевидно, что в лодке всего три человека…
Поднявшийся на мост Гудинаф с обескураженной физиономией только развёл руками. Сердце командора сдавила страшная сила. Внутри не осталось никаких страстей и эмоций, он чувствовал лишь крайнюю опустошённость. Некоторое время он суровым взором глядел на Дженкина, потом мрачным голосом приказал ординарцу нанять людей и с утра обшарить все берега Темзы, да и саму реку вплоть до Гринвича, если потребуется, чтобы найти тело благородного юноши.
Сэр Хью развернулся и пошёл прочь с моста прямой походкой и с величавым видом, дабы никто не посмел потом сказать, что видел удручённого и опечаленного Уилаби. Позади понуро шёл его слуга, ведя в поводу двух лошадей, Идальго же взялся вести тот самый мальчишка с факелом, который сопровождал Гудинафа по реке в лодке. Так двигались они по тёмным улицам Саутворка.
Лишь только Дженкин понимал настоящие чувства своего господина, ибо на самом деле состояние души и мысли Хью Уилаби далеко не соответствовали его виду.
«Чем я отплатил Роберту Бакьюхейду за спасение моей жизни? – размышлял сокрушённо командор. – Тем, что не уберёг от гибели его единственного сына и наследника! Впрочем, разве есть моя вина в том, что пылкий юноша так рьяно бросился в Темзу?… Но всё же мне должно было предвидеть подобную безрассудную выходку Ронана – эту или иную, – и вместо того, чтоб предаваться собственным никчёмным думам, мне надлежало быть всё время рядом с ним, тогда я, возможно, смог бы предотвратить сей безумный поступок. Теперь же я навек покрыт позором неблагодарности и небрежением долга… Что я отвечу моему спасителю? Да и смогу ли? Лучше уж вовсе не вернуться мне из плавания, ибо только смерть может избавить меня от такого бесчестья!… Эх, а какой был храбрый мальчишка! И так попусту сгинул».
Глава XXVIII
Покушение
Оставим на время благородного Уилаби, перенёсшего такой страшный удар по своей чести, терзаемого чувством стыда и позора, чему придавала ещё большей остроты непомерная скорбь по так полюбившемуся ему юноше. Теперь нам предстоит снова перенестись в Рисли-Холл, где с отъездом сэра Хью и Ронана всё вернулось на круги своя. Леди Уилаби стала ещё печальней, Джордж напротив беззаботней, добрый пастырь снова углубился в свои труды. Лишь Эндри из весёлого и шебутного мальчишки превратился в тихого и безгласного челядинца. Уж очень он был привязан к мастеру Ронану, и с его отъездом всё стало казаться мальчишке чужим и неприветливым. Джордж, при котором теперь состоял Эндри, был неприятно удивлён такой в нём переменой. Он-то рассчитывал, что юный балагур и проказник будет веселить его своими остротами. Но Эндри, казалось, понимал, что ему уготована участь шута в этом английском доме, и гордое шотландское сердечко вовсю тому противилось. По этим-то причинам он и был так неестественно хмур и ко всему безразличен, что крайне не вязалось с его обычно весёлым нравом.
На третий или четвёртый день после отъезда сэра Уилаби и Ронана Лангдэйла молодой слуга, как было принято в те времена, помогал Джорджу снять одежду в его опочивальне.
За окном уже царила ночная тьма, поглотившая всё вокруг. Лишь изредка в просветах между быстро летящими облаками проглядывал тонкий серп луны, бросая слабые блики на холодную землю. И тогда из мрака выступала тёмная стена могучих дубов на аллее перед особняком, которая напоминала угрожающе подступившую армию великанов. Даже внутри дома было слышно, как зловеще стонут вековые деревья – так ужасен был ветер, а его уханье в каминной трубе напоминало завывание волка, вышедшего на охоту.
Но в камине ярко пылали угли, позади у хозяина остался вкусный ужин. Облачённый в широкий ночной халат, подбитый мехом, Джордж сидел, по привычке вытянув ноги, и наслаждался шедшим от огня теплом. Рядом равнодушно стоял Эндри, уже тяготившийся прислуживанием младшему Уилаби. Как не похож был этот праздный, самолюбивый дворянин на его исконного господина – смелого, искреннего и умного.
– Отличный сегодня был денёк в Кедлестоне, – довольно сказал Джордж. – Вот уж, право, целых пять шиллингов в триктрак у Джона выиграл. Ну, полагаю, Керзоны от этого не обеднеют, да и я богаче не стану, ибо завтра мне предстоит неплохое развлеченье в Ноттингеме.
– Ей-ей, должно быть, для этого ваша милость изволили сбрить усы и бородку, – предположил юный слуга, с неохотой выдавливая из себя слова (но что поделаешь? – ведь развлекать хозяина дома была теперь его обязанность).
– А ты смышлёный мальчишка, – ухмыльнулся Джордж. – Видишь ли, парень, некоторые английские девушки предпочитают поцелуи гладковыбритых мужчин тем царапинам, которые оставляют на их нежной коже щетинистые подбородки бородачей. А у меня завтра как раз свиданьице с одной премиленькой кокеткой, ради чего я и подвёрг себя пыткам цирюльника. Помнишь, я давеча велел тебе письмецо отнести? Только тсс… Полагаю, ты не будешь об этом на весь дом трезвонить, словно колокол на церкви преподобного Чаттерфилда.
– Ей богу, сэр, как можно-то порядочному слуге тайны господина выбалтывать?… Эх, и жаль, однако, что ваша милость могли такое обо мне помыслить, – удручённо ответил Эндри и добавил: – Хотя об этом вашем свидании и так всем уж ведомо стало, стоило вам только за ужином без бороды показаться.
– Неужели? – удивился Джордж. – Хм. А впрочем, какое им дело до того, как я провожу время? Возьми-ка лучше щипцы, да поворочай угли в камине.
Пока молодой слуга выполнял это повеление, Джордж подошёл к окну, глянул в ночную тьму, поёжился, опустил занавесь, посмотрел на слугу и сказал:
– А поведай-ка мне, Эндри, какая дьявольская сила тебя одолела так, что весёлый воробей превратился в мрачного ворона. Хоть ты и не видишься с леди Уилаби, но сдаётся мне, что она заразила тебя недугом тоски и уныния. Глядючи на твою кислую физиономию, у меня, право слово, слёзы на глаза навёртываются, ха-ха-ха.
– Прощу прощения, что не могу угодить вашей милости своим настроением, – ответил хмуро мальчишка. – Признаюсь честно, мне хотелось бы находиться в этот миг рядом с мастером Ронаном. Чувствую я, беда над ним нависла, потому как пятка правая у меня чешется – а это всегда к плохому. Но не пристало мне ослушаться его велений. А он наказал мне остаться здесь и чего-то ждать, и ждать…
– Дьявол тебя побери, малец! Так ты печалишься о своём господине! – изумился Джордж. – Клянусь душой, любой простой мальчишка в Дербишире позавидовал бы твоей доле – служить благородному Уилаби, жить в уютном доме, кормиться с господского стола.
– Может оно и так, – вздохнул Эндри, – только, как говорят у меня на родине…
– Да к чёрту твою родину! – сорвалось у Джорджа; потом, однако, увидев побелевшее лицо юного шотландца, стиснутые зубы и сжавшиеся кулачки, примирительно добавил: – Э-эй, не серчай, приятель, за горячее слово! Я, право, ни имею ничего против голых скал, диких пустошей и топких торфяников твоей бедной страны, вопреки даже тому, что мой родитель оттуда едва ноги унёс… Но что же это выходит? Ты, видать, не желаешь состоять при мне ни пажом, как тебя величал Лангдэйл, ни хотя бы лишь забавным прислужником, что меня бы вполне устроило.
– Эх, не в силах я притворяться весёлым, сэр, когда на сердце вот такой камень лежит, – понуро пробормотал мальчишка и развёл руки в стороны, показывая размер якобы придавившей его сердце глыбы.
– Ну что ж, коли вам, сэр Гордец, не по душе прислуживать хозяину этого имения, то, если желаете, обратитесь утром к дворецкому – он найдёт вам иное занятие, и уж не обессудь, молодой человек, ежели оно будет не таким лёгким и весёлым, как нынешнее. А теперь иди спать, а то ты на меня тоску почище моей мачехи нагоняешь.
– Как изволит ваша милость, – Эндри поклонился и ушёл в комнату для хозяйского служки, которая примыкала к спальне Джорджа Уилаби.
В эту ночь мальчишка долго не мог заснуть, ворочался и думал. С одной стороны хорошо было, что он больше не будет состоять прислужником при Мастере Уилаби, а с другой Эндри мучило непонятное беспокойство, да ещё и пятка чесалась. Как и все суеверные шотландцы, он верил в различные приметы и предзнаменования. А пятка никогда его не обманывала. Впервые она стала чесаться ещё много лет назад перед битвой у Пинки, в которой погиб его отец. А последний раз пятка потревожила его накануне приезда в Крейдок мастера Ронана: вроде и доброе событие, а вон как всё обернулось-то.
Прошёл час или два, а сон всё не шёл – то пятку надо почесать, то с одного бока на другой перевернуться. Наконец, сознание мальчишки затуманилось, и его окутала лёгкая дрёма. Ему снился далёкий шотландский замок с его мощными стенами и крепкими воротами, тёмное озеро у подножья утёса, на котором стоял Крейдок, суровый лорд, на самом деле прячущий улыбку в чёрной с проседью бороде, добродушный ловчий Питер с честным лицом, ворчливый повар Джильберт в белоснежном фартуке и с большой поварёшкой в руке. Такие добрые и милые образы, окружавшие его совсем недавно – Эндри даже улыбнулся во сне. Но вдруг всё поменялось, все эти люди пропали, а остался один лишь замок, почему-то окутанный густым туманом, похожим на дым. Из замковых ворот выбегает Джильберт с искажённым от страха лицом, размахивая своей поварёшкой, и что-то кричит, указывая на туман вокруг замка, который оказывается вовсе не туманом, а клубами густого чёрного дыма. Мальчишку обуяло такое чувство ужаса, что оно враз прогнало прочь все сновидения. Эндри уже не спал, а лишь лежал с закрытыми глазами. Но ему почему-то казалось, что он по-прежнему спит, и он никак не мог уразуметь, отчего же у него было это чувство. Когда мальчишеское сознание окончательно прояснилось, до него, наконец, дошло, чем явь была похожа на сон. Дым! Он ему не приснился! Эндрю действительно чувствовал запах дыма, и с каждой секундой он становился всё сильней и сильней. Мальчишка проворно вскочил и зажёг свечу. Она еле загорелась. Дышать тоже было очень трудно. Эндри подскочил к двери, ведущей в спальню Джорджа, и по запаху и потускневшему пламени свечи вмиг сообразил, что дым просачивается именно оттуда. Он распахнул дверь, ожидая увидеть языки пламени, но огня не было, хотя вся комната была окутана едким дымом, а дышать было просто невозможно. Задыхаясь, Эндри подбежал к окну, рванул парчовую занавесь и на ощупь – ибо свеча в комнате Джорджа тут же погасла, – откинул кованые крюки с задвижек и распахнул оконце. Холодный ночной воздух тут же стал наполнять комнату. Мальчишка бросился к Джорджу Уилаби, который недвижно простирался на ложе, откинул полог кровати и дёрнул хозяина Рисли-Холл за руку. Тот не двинулся и не проронил ни звука, хотя рука была тёплая – по-видимому, он был без чувств. Эндри как был в одной ночной рубашке выскочил в коридор и помчался по дому, поднимая всех челядинцев криком: «Тревога! Беда с Мастером Уилаби!» Вскоре испуганные слуги сбежались в спальню Джорджа, которого сразу же перенесли в другую комнату, ибо по державшемуся ещё в спальне запаху дыма и тяжести дыхания в этой комнате ясно было, что их господин угорел…
Разбудили леди Уилаби, которая страшно побледнела при ужасном известии, но взяла себя в руки и тут же послала за деревенским врачом, а также велела позвать преподобного Чаптерфилда. Пока Эндри рассказывал хозяйке особняка про случившееся, не забыв при этом начать повествование со своей пятки, челядинцы пытались привести в чувство Мастера Уилаби, который то приходил в себя и что-то невнятно бормотал, то снова терял сознание.
Через некоторое время прибыл наспех одетый деревенский эскулап – сильный мускулистый человек с резкими чертами лица, которому чаще приходилось выполнять обязанности коновала, нежели лечить людей, ибо он слыл в округе в первую очередь знатоком по лошадиным и псовым хворям. Но опытного лекаря из Дерби можно было ждать лишь утром, а опасение за жизнь Мастера Уилаби было чересчур велико, поскольку все понимали, в какой опасности находился их господин, надышавшийся дымом; многие челядинцы помнили ещё, как прошлым годом из-за этого несчастья отдал Богу душу один достопочтенный горожанин в Ноттингеме… Первым делом деревенский эскулап пустил Джорджу кровь, наложил примочки на голову и велел всем удалиться, разрешив остаться лишь двум сиделкам, одной из которых наказал обмахивать лицо больного веером.
До утра в доме никто уж не заснул. Везде горели свечи, и испуганные слуги ходили и шёпотом обсуждали происшедшее. Начавшее светлеть небо застало леди Уилаби и преподобного Чаптерфилда вдвоём в большом каминном зале особняка.
– Моего слабого женского разума не хватает, чтобы взять в толк, как такое ужасное событие могло произойти в нашем доме, – молвила леди Джейн. – Господи! Чем я провинилась, что ты насылаешь столько несчастий на бедную женщину?
– Утешьтесь, моя сестра по вере, – сказал ревнитель реформаторства. – По моему разумению, сие есть кара Божья, его предупреждение беспутному вашему пасынку, который вместо следования по пути, указуемому нам святым писанием, вместо изучения Библии проводит дни свои, расточая физические и духовные силы в праздности, кутежах и беспутстве, подобно нечестивым католикам. Ибо говорил Господь: «Глубоко погрязли они в распутстве; но Я накажу всех их»… Я молю Всевышнего, дабы он наставил Джорджа на путь истины, а вам, дорогая леди Уилаби, даровал терпение и душевное спокойствие.
– Да-да, вы совершенно правы, мой добрый пастырь, – согласилась леди. – Это именно то, что необходимо ныне супруге и сыну благородного Хью Уилаби.
– А теперь, леди Уилаби, нам надлежит собраться с духом и выяснить, при каких обстоятельствах произошло такое ужасное несчастье с Мастером Джорджем, – рассудил доктор Чаптерфилд. – Вы будто говорили, что при нём, когда всё случилось, был этот шотландский мальчишка, прибывший в Рисли-Холл вместе с Мастером Лангдэйлом и оставленный на время здесь. Не мешало бы ещё раз послушать его рассказ.
Отправили за Эндрю, которого посланный за ним слуга застал в спальне Джорджа, где паренёк зачем-то внимательно рассматривал погашенный камин. Когда юный слуга предстал перед хозяйкой дома, пастырь попросил его снова повторить свой рассказ и не забыть ни единой мелочи, что Эндри послушно и сделал. Он добросовестно передал до последнего слова весь свой вечерний разговор с Мастером Уилаби, рассказал, как он долго не мог заснуть, мучаемый беспокойными мыслями и зудевшей пяткой, как его разбудил запах дыма и как он поднял тревогу.
– А скажи, мальчик, у тебя не было недобрых чувств к Мастеру Уилаби, – вдруг прямо спросила леди, переглянувшись с пастырем, – за то, что он так непочтительно отозвался о твоей стране? Я слыхала от своего супруга, что шотландцы – народ гордый и горячий и чуть что сразу хватаются за ножи и мечи.
Эндри спокойно выдержал пронзительный взгляд двух пар глаз, и смело, даже с каким-то вызовом ответил:
– Если уж говорить по правде, мне были досадны слова Мастера Джорджа. Но коли вы так мните, высокочтимая леди, что я мог бы замыслить злодейство, то прошу вас, дайте мне ещё ну хотя бы полчасика, и я смогу достойно вам ответить.
Леди Уилаби кивком отпустила мальчишку, который тут же исчез за дверью.
– Не верится мне, леди, – сказал доктор Чаптерфилд, – что этот отрок мог такое богомерзкое дело замыслить. К тому же, кто как не он поднял тревогу, благодаря чему Джордж, слава Создателю, и остался жив?
– Может статься, вы и правы, мой дорогой пастырь, – согласилась леди Джейн. – Да и держится мальчик слишком уверенно, не под стать тайному злодею… Однако, как всё разом обрушилось на слабую женщину, вновь моя душа не находит себе покоя, и мнится мне, как будто тревожные думы притягивают несчастья… Эй, Эвелина, принеси-ка мой успокоительный эликсир… Пусть целебный бальзам станет небольшим помощником вашим молитвам, преподобный отец.
– Поистине, леди Уилаби, – согласился священнослужитель, – наш великий врачеватель повелел нам пользоваться земными средствами, дабы мы могли укрепиться и с твёрдостью переносить испытания, которые он нам ниспосылает.
Через некоторое время, пока доктор богословия пытался с помощью цитат из священного писания умиротворить беспокойную душу леди Уилаби, а целебное снадобье усмиряло дрожь в её теле, вернулся Эндри, который предстал в каминном зале с перепачканными сажей физиономией и одеждой.
– Ну, прямо как пить дать, трубочист! – воскликнула ожидавшая в дверях приказаний госпожи прислужница Эвелина.
Тем не менее, лицо у мальчугана было таким важным, словно у епископа во время службы, а в глазах светился торжествующий огонёк.
– Похоже, какая-то ворона захотела свить себе гнёздышко в печной трубе от камина в спальне Мастера Уилаби, – заявил Эндри и протянул большой пук травы, перевязанный потемневшей от копоти тряпкой.
– Ах, какие негодные птицы! – воскликнула леди Джейн. – Я прикажу немедленно перестрелять всех ворон в округе!
– Ей-ей, пожалейте бедных птах, госпожа, – заступился паренёк, – ибо наша-то ворона ходит на двух крепких ногах, а заместо крыльев у неё цепкие ручищи.
– Как! Ты хочешь сказать, мальчик, что кто-то умышленно желал погубить Джорджа, забрался на крышу и запихал солому в трубу?
Эндри только пожал плечами: дымоход и в самом деле перекрыли таким хитрым образом, но зачем – ему было непотнятно.
– Какой ужас! – воскликнула леди. – Кто бы мог подумать, что в нашем собственном доме никто из членов семьи не может чувствовать себя в безопасности! Правый Боже, но это просто невозможно, ведь Рисли-Холл хорошо охраняется! Позовите-ка привратника Ральфа, посмотрим, что он скажет.
Долго звать Ральфа – того самого здоровенного детину, который встретил Ронана с Эндрью, когда они в первый раз вошли в ворота особняка, – не пришлось, ибо он сам уже стоял у дверей зала. Страж вошёл, неуклюже поклонился и остановился посреди комнаты со смущённым лицом.
– Что ты пришёл сообщить леди Уилаби, страж земель израильских? – спросил священник.
Ральф нерешительно помялся, комкая в огромных ручищах свою шапку, и неуверенно ответил:
– Эге, преподобный отец, в какой чин вы скромного привратника возвели… Я же пришёл сказать, что виноват я, милостивая госпожа. Не уследил я за собачками-то. Днём они у меня на цепи сидят, а на ночь я их выпускаю, чтоб ежели кто вздумает забраться, они б лай подняли и злодея в бегство обратили. Они у меня обученные… были. Эх, не возьму уж и в толк, чего они сожрали-то, твари ненасытные, а только с утра я их нашёл околевшими у ограды…
– Я назвал тебя так образно, Ральф. Вот ежели бы ты читал побольше Библию, то уразумел бы, что я имел в виду, – сказал священник и следом спросил: – А говоря о твоих «собачках», которые были не меньше льва по размеру, а по злобности не уступали Асмодею59, точно ли ты уверены, что бедные твари отравились?
– А то как же! Да и костоправ, что ночью приходил, – он же мастак по скотине всякой, – сразу мне так и сказал, что отравились они, значит.
– Или их отравили! – неожиданно вставил Эндрю своё смелое предположение.
Доктор Чаптерфилд нахмурился, негодую на такую бесцеремонность и непочтительность к присутствующей в зале хозяйке дома, вскочил и хотел даже выгнать мальчишку вон из залы, но леди Джейн одним движением руки остановила его.
– Преподобный отец, вы же сами учили меня долготерпению и доброте. Так к чему вы так гневаетесь на этого мальчика, который из-за своего радения нашему дому забыл на миг о подобающем слуге поведении? Кто как не вы сами воссылали славу Господу за спасение Джорджа, в чём этому отроку ниспослано было стать всепомогающей божественной десницей…
После дальнейших расспросов Ральфа, выяснилось, что всю ночь он провёл в привратницкой и ничего подозрительного не слышал.
– Тем не менее, кому-то удалось перелезть через стену, отравить собак, забраться на крышу и заложить трубу соломой, – заключил священник, – да так, что наш дюжий привратник и бдительный страж ничего и не слышал!
– Клянусь своей секирой, – ретиво сказал Ральф, – никакого подозрительного шума ночью я не слыхал. А сон-то у меня чуткий: лишь малейший шорох или собачки зарычат – э-эх, мои бедные собачки, – я тут же и вскакиваю, как бульдог, рядом с которым вдруг раздалось кошачье мяуканье. Должно быть ловкая это была бестия, коли он сумел и пёсиков моих отравить, и на саму крышу вскарабкаться. Эх, попадись он мне в руки, я его на части разрублю и дворовым борзым скормлю.
– Говорил же я мастеру Ронану, что дом этот плохо охраняется, – пробормотал себе под нос Эндри.
– Как только Джордж придёт в себя, – продолжил доктор Чаптерфилд, – должно поинтересоваться у него, знает ли он,Э кто мог бы желать ему зла.
Но не так-то просто было поговорить с Уилаби-младшим. Он, хотя и не спал, но почти не мог разговаривать из-за сильнейшей головной боли, которую не облегчали ни примочки из влажной ткани, ни растирания висков, ни вдыхание благовонных масел. Джордж почти не мог ни пить, ни есть – стоило ему взять что-либо в рот, как начиналась страшная рвота, после которой он в изнеможении падал на подушки и снова терял чувства.
Уже приехал из Дерби другой, известный на всю округу лекарь, чьими услугами пользовались многие знатные семейства графства. Но и он мало чем смог облегчить страдания несчастного, объявив, что отравление дымом – самое опасное и сродни отравлению ядом, что больному нужен сейчас лишь покой и уход, и в ближайшие дни, даст Бог, он должен почувствовать себя лучше. Джорджа снова перенесли в его, уже хорошо проветренную к тому времени спальню. Две сиделки из служанок постоянно дежурили при своём господине, одна из которых непрестанно обмахивала веером лицо Джорджа. Несчастный страдалец то метался из стороны в стороны, то бредил, испуская несвязные проклятья вперемешку с любовными признаниями, и лишь временами обессилено затихал в полузабытьи.
Эндри же, памятуя давешний разговор, без сожаления перебрался в каморку под крышей, где находились помещения для слуг. Пусть здесь было не так тепло, как на первом этаже, где согревали камины, а топчан был не так мягок, как кровать, но зато он наконец-то освободился от неприятных обязанностей прислуживать Мастеру Уилаби. Однако, Эндри не покидали пытливые думы о произошедшем. Ведь этот Мастер Джордж, хоть и неприятный ему, но в целом всё же добрый и беспечный господин. Вряд ли такой мог нажить себе смертельного врага. И кому вздумалось такое злодеяние умыслить? Ох уж, тёмное это дело и как-то всё непонятно, думал мальчишка.
Глава XXIX
Незнакомец
На следующий день Эндри уже вовсю выполнял заурядные обязанности по большому хозяйству особняка. Пусть они и были не такими парадными и комфортными, как прислуживание хозяину дома, зато мальчишка чувствовал себя в своих башмаках. Ему не надо было держать почтительную вежливость и через силу казаться весёлым. Среди простых челядинцев он был своим собратом, и мог вести себя как вздумается, лишь бы исправно справлялся с поручениями. Разумеется, что от такой перемены и настроение его улучшилось, первым признаком чего стало исчезновение зуда в его верховном предвещателе. Эндри просто летал на крыльях, когда его пятка утихомирилась, ибо это означало, что тревожиться теперь не было причин.
Когда обед был уже давно позади, а до вечерней трапезы оставался ещё час-другой, Эндри вместе с Томом, молодым пареньком, сыном стряпухи из Рисли-Холл, было поручено набрать ключевой воды. Родник этот находился неподалёку в небольшом лесочке на пологом склоне холма. Хотя во дворе особняка и был колодец, но вода в нём зачастую была малость мутноватой и использовалось по большей части для дворовых животных, лошадей и прочих хозяйственных нужд. А для приготовления пищи и для умовения леди Уилаби, маленькой Дороти и Джорджа воду доставляли из родникового ключа в вышеупомянутой рощице. Вода в этом источнике была изумительная по вкусу и прозрачна как кристалл. Никто уже и не помнил, с каких пор укоренилась эта традиция, как давно обнаружили в лесу родник и кто построил крохотную часовенку над ним. Лишь, среди челядинцев особняка ходила легенда о том, что однажды в старые времена, будто бы ещё при короле Джоне, к небольшому замку, возвышавшемуся тогда на месте Рисли-Холл и принадлежавшему другому семейству, в поисках ночлега подошёл мучаемый жаждой и голодом монах-пилигрим и постучался в ворота. Иноки, ходившие по святым местам, пользовались в старину большим уважением и, как правило, могли рассчитывать на приют и угощение в любом жилище. Но случилось так, что хозяина замка с его воинским отрядом не было дома, а ретивый дворецкий запретил кого-либо впускать внутрь ворот, надеясь таким образом уберечь имущество своего господина от рыскавших по округе разбойников и злокозненных соседних феодалов. Тщетно богомолец стучал своим посохом в дубовые врата. Монах не получил ни крова, ни еды, ни даже кружки эля. Рассерженный на такой неласковый приём странник гневно топнул ногой и проклял воды, которые питали обитателей замка. Сам же монах ушёл прочь и остановился в глухом урочище, где соорудил себе шалаш под сенью развесистых дерев. И, согласно легенде, в том месте пилигрим ударил посохом о землю и из неё забил родник живительной влаги, а в замковом колодце, напротив, с того времени вода помутнела и для питья стала непригодной…
Эндри с Томом запрягли большую мускулистую лошадь в повозку, куда они водрузили огромную пустую бочку, и неспешно тронулись в путь. До родника было не больше мили, и молодые слуги рассчитывали вернуться в особняк ещё до наступления темноты. Мальчишки шли и оживлённо болтали, ведя за собой лошадь…
– А тебя у нас храбрецом кличут, – с завистью в голосе сказал Том. – Ведь, ежели б не ты, наш владетель уж преставился бы.
– Да ну тебя, – ответил Эндри не без удовольствия. – Ей-ей, какой я храбрец? Спалось неважно, вот я дым и учуял.
– А скажи, бравый Эндри, а отчего ты не остался в услужении у Мастера Уилаби? Там и делать особо ничего не надо, никакой чёрной работы, зато платье тебе самое лучшее и еда, считай, как у хозяина.
– Фу-ты ну-ты! Не хочу я в прислужниках у вашего владетеля ходить. Не по мне это, ей богу. К тому ж, он ныне больше в лекарях и сиделках нуждается, чем в гонцах и паяцах.
Тропа шла в гору по склону холма, и уже отчётливо было видно урочище, в котором находился родник. Эндри заметил, что чем ближе они подходили к лесу, тем приглушённей становился голос Тома, а в сузившихся глазах мальчика засквозила настороженность.
– Ей-ей, Том, да что с тобой сталось? – поинтересовался его товарищ. – У тебя такой вид, будто ты меж деревьев самого чёрта увидал.
– Тсс… Тише, Эндри, заклинаю тебя, а иначе накличешь беду на наши головы, – ответил шёпотом Том. – Пропадём мы тогда.
– Ха-ха-ха! Ты что, какой-то рощицы испугался, будто там стая голодных волков спряталась? – с насмешкой сказал шотландский паренёк.
– Нет, и не волки вовсе. Ты здесь всего несколько деньков как появился и ничего не ведаешь, а я всю жизнь живу и уйму всего про эту чащу понаслышал.
– Хм… Лесок так себе, – пожал плечами Эндри. – Берёзки, осинки, ёлки. В самом деле, откуда здесь волкам взяться? Ну, ежели что, у нас с тобой дубинка есть.
– Нет-нет, зверей лесных я не боюсь. Здесь… здесь же… монах обитает.
– Монах? – удивился Эндри. – А что иноков бояться-то? Они ведь святые люди, а не демоны какие. Не возьму только в толк, почему у вас все монастыри разогнали.
– Так, выходит, ты ещё ничего не слышал про нашего монаха? – спросил Том и шёпотом рассказал легенду о появлении родника, которая кратко уже была изложена выше.
– Ну и насмешил, дружище! – воскликнул юный шотландец. – Да когда это было-то? Сколько уж колен на земле поменялось, и не сочтёшь!
– Тихо-тихо, милый Эндри, – взмолился испуганный Том. – Эх, зря ты насмехаешься. Может и много с тех пор прошло времечка, а только, клянусь тебе, того странствующего монаха и поныне встречают близ источника. Верно, это призрак его там блуждает, не иначе. Моя матушка сказывала, что родитель мой, который уж два года как помёр, так вот, что он однажды сам повстречал богомольца у родника. Тот зашёл в часовенку, глотнул водицы, перекрестился и молча, не произнесся ни словечка, ушёл… И другие тоже его видели.
Эндри задумался, потому как, говоря по правде, крепко верил во всё сверхъестественное, в духов и призраков, колдовство и волхование, в сглаз и заклятье, да и прочие суеверные верования тех времён, впитав с молоком матери все предрассудки своего народа и наслышавшись много таинственных историй и мистических легенд, которые так любили рассказывать тёмными зимними вечерами обитатели Хилгай. Впрочем, его мучил не суеверный страх, ибо как истый католик – а все его родичи и селяне исповедовали эту религию – он считал монашков божьими слугами. И уж ежели чернец стал призраком, рассуждал Эндри, то он никак не мог быть злобным духом, ибо на нём лежало благословление Господне, а значит, и бояться его вовсе не стоит. Когда мальчишка успокоил себя подобными размышлениями, в нём вновь взыграл весёлый норов и он замыслил подшутить над боязливым Томом, и теперь измышлял как бы это сделать…
– Ну и жуткие истории ты рассказываешь, дружище, – сказал Эндри. – Надеюсь, нам повезёт и мы не встретим этого твоего монаха… Эх, одно только меня печалит: я-то думал, что ты смелый парень, а ты оказался трусливым как девчонка. Фу, лучше бы я с кем другим за водой пошёл.
– Я не трусливый, – обиделся Том. – Только с нечистой силой не хочу встречаться. А преподобный Чаптерфилд говорит, что монахи – это римские волки, которые стократ опасней волков настоящих. Так что, ежели тот монах превратился в призрак, то его дух есть самый злющий.
– Тоже мне, злющий! Скажи лучше честно, что тебе страшно к роднику идти. Так, коли хочешь, оставайся здесь на опушке, я сам воды наберу.
Но Том замотал головой и сказал, что ни за что на свете не позволит другу одному идти в лес – вдруг с ним что случится. Эндри же только усмехнулся, ибо смекнул, что его бесхитростный товарищ просто-напросто боялся оставаться один неподалёку от обиталища «призрака».
– Ну что ж, тогда идём быстрее, – сказал Эндри, – а то гляди, солнце уже холма коснулось, а нам ещё целую бочку воды начерпать надобно… И всё ж, чтоб ты ни говорил, приятель, а я сомневаюсь в твоей храбрости.
– Нет-нет, отважный Эндри, я тоже смелый. Только когда к роднику прихожу, мне не по себе становится: я с монахом не хочу встречаться, ни в образе духа, ни во плоти, вот и всё.
– Ну, ежели ты смелый, то наверняка не побоишься первым спуститься к источнику, – с простодушным видом предложил Эндри и добавил: – А может и испугаешься.
– Я? Испугаюсь! Да будь там хоть сам дьявол на дне! – воскликнул Том, у которого мальчишеская кичливость на время пересилила страх перед призраком.
– А мне как-то наш дворецкий Джаспер рассказывал, будто там внизу из воды иногда выпрыгивают келпи и хватают зазевавшихся людей, – как бы между прочим заметил шотландский паренёк.
– А кто такие эти келпи? А, Эндри? – уже не столь оптимистичным тоном спросил Том.
– Да это такие уродливые создания, которые обитают в озёрах, речках, ну и в колодцах с родниками, как иначе. Туловище у них толстое претолстое как луковица, зубы острые как кинжалы и длинные как лезвие меча, а уши торчком стоят, будто вслушиваются, не приближается ли какой беспечный простак вроде тебя к их водному логову, – тон Эндри становился всё более зловещим. – Хоть они обычно и трапезничают всяким там зверьём, которое неосторожно подходит водицы испить, но, скажу тебе по секрету, более всего они любят лакомиться человечьей плотью.
– А ты их видел? – с широко раскрытыми глазами спросил Том.
– Не, я не видел, боже упаси. Они, говорят, не любят показываться, особенно когда солнце светит. Но в такое вечернее время как сейчас и в такую пасмурную погоду, наверное, их можно увидеть. Хотя, даже если и увидишь келпи, то их можно и не узнать сразу: им под силу принимать облик лошади – сядь на неё и ты пропал; а ещё они могут выглядеть как молодой юноша, наверное, чтобы девушек заманивать. Мне Джаспер сказывал, что единственное, чего они не могут поменять в своём облике, так это волосы – они всегда у них похожи на слизкие тёмно-зелёные или бурые водоросли.
Здесь Том понял, что уже ни за что на свете не полезет к роднику первым. Снова вернулись страхи, связанные с призраком монаха, к которым добавилась теперь боязнь ужасных келпи. Он почувствовал, как под шапчонкой шевелятся волосы, норовившие встать дыбом и сбросить головной убор. Все вокруг стало казаться Тому страшным: голые деревья жутко растопырили корявые ветки, силясь схватить его; в шорохе опавшей листвы слышался зловещий шёпот монаха, читающего то ли молитву, то ли колдовское заклятие; то вдруг чудилось, будто лошадь позади него это и не лошадь вовсе, а оборотень-келпи. Испуганный донельзя мальчик даже на полшага поотстал от Эндри, чтобы в случае чего спрятаться за более высокого товарища. Именно поэтому он не мог видеть довольной улыбки, расплывшейся на лице его озорного приятеля…
Наконец мальчишки подошли к источнику. На узкой прогалине в самой сердцевине урочища стояла маленькая часовенка – сруб в два шага шириной. О том, что внутри находится родник, говорил еле заметный ручеёк, вытекавший из-под нижнего бруса и бесшумно исчезавший между опавшими листьями. Пока Том опасливо озирался по сторонам, Эндри смело направился к часовенке… Но тут случилось то, от чего даже у старшего из приятелей волосы встали дыбом. Не успел он взяться за ручку в виде изогнутого сучка, чтобы открыть дверцу, как вдруг она сама стала неспешно открываться…
Может быть, она открывалась и не так медленно, но Эндри потом рассказывал, что за это время можно было бы два раза чихнуть, три раза плюнуть через левое плечо и четыре раза подпрыгнуть попеременно на каждой ноге. Как бы то ни было, сначала мальчишки с ужасом увидали руку, которая изнутри открывала дверь, а затем с ещё большим страхом – появившуюся в тёмном проёме фигуру.
«Монах!» – пронеслось в голове Эндри.
«Келпи!» – ужаснулся Том.
– Эгей, отроки, отчего вы уставились на меня, словно на приведение? – спросил «призрак» неожиданно весёлым, приветливым голосом.
Никто ему не ответил. У Тома от страха отнялся язык, на лице был написан крайний ужас, а ноги стали тяжёлыми и как будто приросли к земле. К тому же у него случилась ещё одна досадная неприятность, которая часто сопутствует внезапному испугу, особенно у мальчиков… Его товарищу тоже было до чёртиков страшно, но к чести Эндри мужество не покинуло его в полной мере, и когда дверь открылась, он инстинктивно отпрянул назад и опустил руку в повозку, где лежала дубинка.
– Клянусь распятием, эти нелюбезные молодцы также речисты, как изваяния святых на монастырской стене! – вырвалось у незнакомца.
«Точно монах!» – подумал Эндри, осенил себя крестным знамением и учтиво произнёс:
– Сэр призрак! Мы не хотели вас тревожить, но дворецкий наказал нам набрать воды из источника. Позвольте же нам выполнить это поручение, и ради Пресвятой Девы не чините нам ваших магических препятствий.
– Ой-ла-ла, так-так! Значит, вы полаете, что я – призрак. Ну что ж, пусть будет так, – пробормотал под нос незнакомец, стоявший под сводом часовенки, и уже громче произнёс: – Я не собираюсь мешать черпать воду из этого родника, но только тем смертным, которые проявляют ко мне должное почтение.
«Призрак» вышел из часовенки и встал чуть в стороне. Он был коренаст и облачён вовсе не в монашеское одеяние, а в коричневый плащ, накинутый на добротный суконный камзол. На поясе как-то неуклюже болтался большой кинжал. Шапка была нахлобучена на самые глаза и затеняла лик, хотя по голосу, кошачьей походке и общим чертам лица можно было догадаться о более или менее молодом возрасте незнакомца.
«Уж как-то он на монаха не похож, – промелькнуло у Эндри. – Не старый ещё для призрака, да и одежонка на рясу не смахивает».
«Вот жуть какая! Ведь похож на молодого юношу, – подумал с ужасом Том, – а водоросли нарочно под шапкой спрятал, чтобы никто не догадался, что это келпи!»
– Однако, услуга за услугу! – обратился незнакомец к Эндри, резонно приняв его за старшего. – Я не буду чинить вам препон и строить козни, которых у меня в запасе ой как много. Уж поверь мне, приятель, – человек усмехнулся и продолжил: – А ты взамен расскажешь мне кое-что о вашем замке. Идёт?
– Право, не знаю, сэр призрак, – замялся Эндри и осторожно продолжил: – Я всего лишь ничтожный служка, делаю что велят и вопросов никчёмных не задаю. А потому вам мало будет проку от моих познаний.
– Ну что ж, приятель, – сказал незнакомец грозным голосом, – может твоему дружку известно больше. Эй, малец, как тебя звать?
– Т…т…том, – ответил, запинаясь, мальчик.
– Бьюсь об заклад, Томас, что ты не из той породы невеж, которые за свою неучтивость и упрямство были превращены в кое-какие из этих деревьев, стоящих кругом поляны.
– Н…н…нет.
– Вот и замечательно! Мне ведомо из потаённых источников знаний, что ныне хозяином сего замка является рыцарь Хью Уилаби. Не так ли?
– Д…д…да.
– А скажи-ка, милый мальчик, дома ли сейчас этот достойнейший сэр?
– Н…н…нет.
– Хм, дружок, ты явно не блещешь красноречием. А изволь поведать мне, что за переполох случился давеча в замке.
– У…у…горел.
– Неужели? И кто же? Надеюсь, насмерть, дабы э… нашего войска духов прибыло.
– Н…н…нет. Ж…ж…жив М…мастер Уил…л…лаби. С…сожал…лею, сэр, – еле выдавил из себя Том, потому как его зубы отбивали такую барабанную дробь, что она заглушала даже стук дятла на соседней осине.
– Жив! Мастер Уилаби! – воскликнул «призрак». – Mile diabhlan! Проклятье! А где же э… нет, где же нынче сам почтенный рыцарь?
Том открыл рот и вдруг почувствовал, как товарищ дёргает его сзади за одежду. Но ужас настолько сковал сознание несчастного мальчика, что он послушно ответил:
– С…сэр Уил…лаби н…нед…делю уж к…ак уехал.
– И куда же они с Лангдэйлом подались? А, малец?
– Г…говорят в Л…лондон, – выпалил Том, – Ой! (это Эндрю что есть силы пихнул его кулаком в рёбра).
– Замечательно, Томас! Ты славный малый. Так уж и быть, я не буду напускать на вас магические чары. Ступайте и смело набирайте воду в вашу бочку. Не буду вам мешать. Одно лишь небольшое условие: не вздумайте выбалтывать кому бы то ни было о нашей встрече! Иначе я такое на вас заклятье наложу, что вы будете сохнуть, как вон те две осинки, – сказал незнакомец и скрылся между деревьями.
А ошарашенные мальчишки принялись торопливо, что есть мочи набирать бадьями воду из источника и переливать её в бочку.
Тому хотелось как можно скорее покинуть это страшное место, где обитает ужасный келпи. Мальчик поклялся себе, что ни за что на свете больше не будет ходить к роднику, пусть даже над ним потешаются и называют трусом. Уж лучше быть предметом насмешек и жить в Рисли-Холл, чем превратиться в дерево и стоять веками около родника.
Эндри же был взволнован по другому поводу. По всему виду и разговору незнакомца он смекнул, что тот был никакой не призрак, не монах и не келпи. Эти его дотошные вопросы, непонятное сожаление, что Джордж Уилаби остался жив, вызывали у мальчишки смутные подозрения. На обратном пути в особняк Эндри был хмур и задумчив. У него не осталось больше желания болтать с Томом, который мало того что испугался, словно ягнёнок перед забоем, так ещё и выболтал всё про дела своих господ. Эндри чувствовал презрение к своему трусливому приятелю, находя ему лишь то оправдание, что Том был на год моложе по возрасту и являлся англичанином по рождению. Затем мысли мальчишки вернулись к странному незнакомцу. Он ещё раз вспомнил весь разговор слово за словом, и вдруг что-то ему показалось странным. Эндри напряг свои юные мозги, пытаясь понять, что его смущало, и вдруг его осенило. Ну конечно же! Этот человек спрашивал вначале про Уилаби, а потом вдруг ни с того ни с сего упомянул имя его хозяина: куда, говорит, он с Лангдэйлом уехал. Ещё живо было в памяти Эндри злодейское посягательство на жизнь Мастера Уилаби, а тут вдобавок появляется подозрительный незнакомец, который интересуется сэром Хью и мастером Ронаном. И тут Эндри почувствовал, как у него снова безумно зачесалась пятка…
Глава XXX
Странный сон
Леди Джейн и преподобный Чаптерфилд сидели в спальне Джорджа. По словам сиделок, их пациент чувствовал себя уже намного лучше. С утра приезжал лекарь из Дерби и тоже остался доволен ходом выздоровления; по крайней мере, за жизнь больного можно было теперь не беспокоиться. После рассвета Уилаби-младший приходил в себя и даже поел, но ещё был так слаб, что снова уснул.
Тем временем леди Джейн спросила:
– Преподобный отец, пока Джордж спит, мне хотелось бы попросить вас помочь мне истолковать странное сновидение, которое привиделось мне нынче ночью и снова смутило мой рассудок.
– О, высокочтимая леди, вы уподобляете скромного священника пророку Даниилу, который объяснял значения снов царю вавилонскому Навуходоносору. Хотя мне не дано обладать даром великого Валтасара, но ежели вы поведаете мне ваше ночное видение, то я попробую облегчить ваши душевные муки.
– Право слово, мой добрый пастырь, я даже не знаю, как и начать. От одного лишь воспоминания об этом тревожном видении меня охватывает дрожь и начинают леденеть руки… Мне виделся какой-то темнокудрый мужчина, лик которого я была не в силах разобрать, ибо моему взору была смутно открыта лишь верхняя его часть. Хотя, постойте! Сейчас я будто бы припоминаю, как сквозь сонную пелену ночных грёз у меня было странное чувство, что я хорошо знаю того человека. Я бы не стала беспокоить вас, доктор Чаптерфилд, если бы мой сон ограничился лишь видением некоей персоны, которую мне не по силам назвать по имени, хотя я твёрдо уверена, что знаю этого мужчину. Самое ужасающее было то, в каком состоянии я созерцала этого человека. Он пытался плыть по странному бурлящему потоку, храбро боролся с ним. Необычность же того бушующего течения заключалась в том, что оно состояло не из водной массы, нет: то была некая блестяще-белая субстанция, которая образовывала исполинские волны и бешеные завихрения. Все эти жуткие стихии сплетались в единый мощный поток, который нёс отважного пловца вдоль крутого обрывистого берега. Человек силился зацепиться за твердь суши и выбраться на надёжный берег, но всё его титанические старания оказывались тщетны – нещадный поток снова и снова срывал бедного пловца и уносил его всё дальше. А наверху, на скале стояла жуткая тёмная фигура с лицом, спрятанным под капюшоном, наподобие монашеского, из-под которого исходил зловещий адский хохот.
Священник закрыл глаза и задумался, как бы силясь понять значение сновидения. А затем, подражая библейскому языку, дал следующее объяснение:
– Я так могу истолковать ваш сон, леди Уилаби. Неистовый поток это наше бытие. Волны и водовороты это соблазны жизни, отвлекающие душу на тщеславные побуждения и богопротивные поступки. Плывущий человек, – который так вам знаком, но коего вы не можете узнать, – есть ваша мечущаяся душа, которая цепляется за спасительный берег. Суша это твердь, состоящая из истинного божественного учения, суть которого – в святом Писании. Стоящий над потоком монах символизирует собой нечестивую римскую церковь. А смеётся он потому, что душе никак не удаётся закрепиться за истинную протестантскую веру, и она снова уносится водоворотами грешных мыслей и чувств.
– Ну и славные вы друг другу байки рассказываете! – раздался вдруг голос Джорджа.
Оказывается, в то время пока его мачеха и священник были увлечены разговором, младший Уилаби проснулся и просто возлежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к занимательной беседе.
– Дорогой доктор Чаттер…, Чаптерфилд! – продолжил со своей постели Джордж. – Я могу дать другое толкование всего этого… Моя любимая мачеха в последнее время сильно переживает разлуку с моим не менее любим батюшкой. Вот её больное воображение и рисует ей такие страшные картины. Причём, ежели днём она в состоянии надзирать за своим рассудком, то во сне к ней приходят все эти ужасные видения. Хм, и причём здесь святое Писание?
– Джордж! Мы и не слышали, как ты проснулся, – сказала леди Джейн, в то время как священник негодующе отвернулся. – Как ты себя чувствуешь?
– Благодарствую за беспокойство о здоровье вашего пасынка, моя дорогая леди Уилаби, – ответил Джордж. – Право слово, в голове такой туман и тяжесть, будто после хорошего возлияния на «Извечном пути в Иерусалим»… Скажите же, что со мной случилось, чёрт возьми!
Благочестивый священник поморщился, не в силах вынести такого сквернословия, и возвёл очи горе, воссылая беззвучную молитву за спасение души грешника… Ответила леди Уилаби:
– Дорогой мальчик (хотя её пасынок был уже в середине третьего десятка!), некто залез ночью на крышу нашего дома и заткнул трубу от камина в твоей спальне. И если бы не бдительность твоего молодого служки, то сегодня в нашем доме был бы большой траур.
На последних словах леди тяжело вздохнула.
– Траур! Да он у нас и так каждый божий день, смею всех вас заверить, – возразил Джордж. – Но, клянусь всеми владениями Рисли, я ума не приложу, кому могло понадобиться развлекаться таким мерзким способом! Я бы этого проказника велел раздеть донага, намазать дёгтем и обвалять в куриных перьях. Вот была бы потеха! И в таком королевском одеянии его пригнали бы плётками к шерифу в Дерби.
– Джордж, а не было ли у тебя недоброжелателей, которые хотели поквитаться за какую-нибудь твою выходку? – спросила леди Уилаби
– Да у кого их нет, врагов и ненавистников! Я разумею, что даже у такой грустной и тихонравной леди, как моя благочестивая мачеха, они тоже найдутся… Однако, клянусь честью, все мои шалости были до того безобидны, что трудно представить себе глупца, который ради отместки хотел бы подвергать себя риску стать украшением главной виселицы в Дерби или Ноттингеме… Впрочем, у меня будет, чем перед Керзоном похвастать: ещё бы! стать жертвой подлого злоумышленника, который посягал на мою драгоценнейшую жизнь! Вот занятное происшествие! Джон просто от зависти лопнет в своём унылом Кедлестон-Холле.
В этот момент дверь распахнулась и влетел запыхавшийся Эндри, которого безуспешно пытался задержать поставленный при двери лакей. Чаптерфилд нахмурился и тут же воспользовался случаем выплеснуть своё недовольство и раздражение:
– Как ты смеешь, молодой человек, представать перед благородными хозяевами Рисли без их на то веления и являться без доклада?
– Прошу вас, милый пастырь, не ругайте сорванца, – в очередной раз вступилась леди Уилаби. – Вы же помните, что именно благодаря ему мы узнали объяснение причины несчастья. А нынче он, должно быть, услыхал об улучшении самочувствия Мастера Джорджа и пришёл, дабы получить причитающиеся ему благодарности от спасённого. Не так ли, мальчик?
– Вовсе нет, высокоуважаемая леди! Хотя, коли Мастер Джордж желает меня отблагодарить, ей-ей, то пусть разрешит мне сейчас же поведать одну свеженькую исторьицу.
– Ну, конечно, Эндри! – воскликнул из-под полога кровати Джордж. – Я рад был бы слушать твои истории гораздо чаще, а не только лишь, когда валяюсь больной и немощный на подушках.
– Я боюсь, – осторожно сказал паренёк, – что последнее моё происшествие навряд ли развеселит вашу милость, но, может статься, позволит поймать злодея.
И Эндри поведал про встречу у родника со странным незнакомцем, намеренно упустив некоторые детали, могущие показаться слушателям незначительными.
– Какая невероятная история, – произнесла леди Уилаби. – Быть может, на мальчика подействовали последние события, он услышал о наших легендах, и в его воображении родилась этот пугающий рассказ.
Джордж только ухмыльнулся – он-то знал весёлый норов мальчишки и поэтому не мог сказать чего-либо определённого.
– А я вот полагаю и даже весьма в этом уверен, что этот невоспитанный юноша, – как, впрочем, и все католики в его возрасте, – поведал нам весьма правдивую историю, – высказался его преподобие.
– Но откуда же у вас такая уверенность, добрый пастырь? – спросила леди.
– Всё дело в том, – ответил, чуть смутившись, священник, – что не далее как нынче утром мне довелось повстречать незнакомого человека, разговором и одеждой подходящего под описание. Он о чём-то меня спрашивал, и вроде бы это касалось обитателей Рисли-Холл.
– Почему же вы мне ничего об этом не сказали? – удивилась леди Джейн. – Мы могли бы задержать этого незнакомца, расспросить и при необходимости препроводить его к шерифу.
– Видите ли, леди Уилаби, если бы я рассказывал вам обо всех странниках, поденно минующих нашу церковь Всех святых, пешком и верхом, и приостанавливающихся, чтобы любезно перекинуться со мной парой словечек, то подобное праздное суесловие отвлекло бы ваш разум от богонравных мыслей.
– Мне думается, ваши «богонравные» разговоры, доктор Чаптерфилд, – заметил на это Джордж, – ещё более суесловные, чем речи путников. Надеюсь, вы не разболтали незнакомцу чего лишнего… Эй, кто там за дверью?
Вошёл лакей и поклонился в ожидании приказаний. Джордж тут же велел самым крепким слугам скакать во весь опор к роднику в урочище, разыскать там незнакомого человека и доставить в Рисли-Холл, применив силу в случае отказа его по доброй воле навестить больного хозяина поместья…
Менее чем через час в освещённую свечами и ярким огнём камина комнату вошёл с докладом уже знакомый нам привратник Ральф.
– Ваша милость, – обратился он к Джорджу, – мы прочесали всю рощу, как только это возможно в таких-то потёмках. Ей богу, мы взбудоражили всю живность в лесочке, так что он превратился в настоящую преисподнюю. Бедные птахи прямо ошалели, орали диким криком и сшибались друг с другом. А нам самим досталось от нетопырей, которые от факелов-то ослепли и хлестали крыльями прям по нашим головам. Словом, в лесу стало, ну точно в Бедламе60. Но как мы из кожи не лезли, ни одной живой души в этом аду мы так и не нашли…
Леди Уилаби снова высказала предположение, что вся история была придумана мальчишкой. Но Эндри стоял на своём, клялся и божился, что он поведал сущую правду, и предложил позвать Тома, который подтвердил бы его слова. Привели Тома, испуганного уже тем, что он предстал перед самим хозяином и леди Уилаби. Оробевший мальчуган, заикаясь и путаясь, изложил происшедшее по-своему. По его словам, из часовенки прямо из самого источника им явился келпи, у которого волосы были будто водоросли и глаза презлющие, и что он грозился заколдовать его, ежели Том не станет ему отвечать. Говоря это, Том дрожал от ужаса, ожидая, что вот-вот превратится в дерево, как обещал ему «келпи», если он выболтает про их встречу у родника.
– Ха-ха-ха! А рассказ Тома мне кажется более забавным, чем тот, что нам поведал его приятель, – сказал Джордж. – Впрочем, я верю Эндри. А уж тем более мне не пристало сомневаться в словах достопочтенного Чаптерфилда. Если б мы не стали выслушивать пустые сомнения моей мнительной мачехи, а сразу бы послали людей к источнику, то быть может, нам и удалось бы изловить злодея. Эх, какая досада. Право, такого веселья лишились!
Все присутствующие замолкли, не желая перечить Джорджу, давно уже чувствовавшему себя в Рисли-Холл полноправным хозяином. В это время неожиданно раздался голос Эндри, который незаметно стоял около стены, слушал и не спешил покидать комнату, раз его не выгоняют.
– Ваша милость, а мне вот думается, что этот разбойник хотел погубить не вас, а другого человека.
– Что ты мелешь, мой дорогой! – с недовольством возразил Джордж. – Кто ещё в этом доме может стать целью убийцы, как не сам хозяин? Несомненно, душегуб вознамерился умертвить именно меня! Да впрочем, что теперь об этом толковать – к счастью, всё закончилось благополучно, разве что злодею удалось ускользнуть. А сейчас, мои дорогие домочадцы, надо отметить моё выздоровление хорошим ужином…
Джордж велел принести еду ему в спальню, ибо он был ещё слишком слаб, чтоб покидать кровать. Леди Джейн предложила пастырю присоединиться к её трапезе в каминном зале. Перед расставанием она сказала Джорджу:
– Мне кажется, было бы разумным сообщить сэру Хью обо всём происшедшем в Рисли-Холл в последние дни.
– Право слово, мадам, мне не хочется по таким пустякам беспокоить моего родителя, который сейчас, надо полагать, озабочен более достойными и важными делами, – ответил Джордж. – Однако, было бы несправедливо держать его в неведении, – по крайней мере, сейчас, покуда он ещё не уплыл в Китай, – о том, что творится в его доме. Но, поскольку я ещё слаб для подобного занятия, полагаю, будет лучше, если вы, моя дорогая мачеха, изложите в письме суть дела. Только, умоляю вас, поменьше трагизма. У моего родителя и так забот сейчас, должно быть, хватает. Эй, Эндри, пострелёнок, ты ещё здесь? Ты тоже можешь приложить своё письмишко твоему господину, если, конечно, ты обучен грамоте. Завтра мы пошлём гонца в Лондон.
Этой ночью Эндри долго не ложился спать. Мало того, что надо было написать письмо мастеру Ронану, так, к тому же следовало обмозговать ещё раз происшествие у родника. Сомнительный незнакомец первым назвал фамильное имя Лангдэйл. Значит, ему откуда-то было известно, что мастер Ронан находился в особняке. А когда трусливый Том проболтался, что сэр Уилаби уехал, то подозрительный незнакомец почему-то спросил, куда они ускакали, полагая, что мастер Ронан уехал вместе с Уилаби. Казалось, как будто он интересовался вовсе не сэром Хью, а его хозяином, Ронаном Лангдэйлом. А ведь этот злой человек – Эндри наверняка был уверен, что злой, – нарочно притворился призраком, чтоб их напугать и всё разузнать. Ох, и подозрительно всё это. Недаром у него пятка снова чешется. В конце концов, собрав воедино свои разбежавшиеся по сторонам мыслишки, Эндри примостился около свечи, достал предварительно полученные им у дворецкого письменные принадлежности, и начал неуклюжим почерком выводить буквы, задумываясь буквально над каждым словом. Хотя паренёк благодаря стараниям Ронана и отца Филиппа и выучился писать в оные дни, но ни разу в своей жизни ему ещё не доводилось составлять послания. Читатель, возможно, помнит из своего опыта, как он слагал своё первое письмо, как танцевали и прыгали непослушные буквы, с каким трудом давалось каждое словечко и сколь тяжко было отобразить на бумаге те мысли, которые смутным вереницами переплелись в голове. Примерно в таком состоянии находился и Эндри, когда приступил к написанию письма своему господину… Вот что у него вышло после почти двух часов кропотливой работы:
«Привет моему господину благородному мастеру Ронану от преданного слуги барона Бакьюхейда и его сына. Я надеюсь что вы добрались благополучно до города Лондона и что дела ваши устраиваются. После вашего отъезда у нас в Рисли-Холл произошли странные события. Запрошлой ночью неизвестный злодей забрался на крышу и запихал траву и тряпьё в трубу. Мастер Уилаби сильно пострадал почти задохнулся и чуть не отдал Богу душу. Слава пресвятой богородице сейчас ему уже лучше. Леди говорит что это я его спас. А я думаю, что это всевышний Бог не дал свершиться душегубству. А нынче я и Том ходили за водой к роднику в лес. У источника нам явился незнакомый человек. Том оказался трусом и испугался колдовской силы. Но я не испугался. Я уразумел что незнакомец вовсе не призрак. Он спрашивал про сэра Хью Уилаби. А один раз он спросил про вас. Это сильно странно. Откуда он вас знает? А однажды этот человек выругался как ругаются наши горцы на их тарабарском языке когда приходят на ярмарку в Стёрлинг. Мне этот человек очень не понравился. Он злой и хитрый. Трусливый Том испугался и выболтал что вы с сэром Уилаби уехали в Лондон. Я хотел за это побить Тома но потом пожалел его. Я поведал об этой встрече у родника М. Уилаби и доброй леди и еретику священнику. Мы думаем что этот незнакомец есть тот злодей который заткнул трубу. М. Уилаби послал слуг в лес чтоб поймать разбойника. Но было темно и он успел скрыться. Мне всё это не нравится. У меня есть подозрение что сей злой незнакомец преследует вас и по ошибке пытался убить хозяина особняка. Но М. Уилаби уверен что покушались на него. Также опять чешется моя пятка. Умоляю вас сэр ради Бога будьте осторожны. Ваш слуга Эндри».
Паренёк свернул письмо, также как это когда-то делал при нём сэр Роберт Бакьюхейд, перевязал его простой шерстяной ниткой и вместо печати скрепил узелок каплей свечного воска, нацарапав на нём первую букву своего имени. После этого с чувством выполненного долга Эндри улёгся на топчан, ещё раз поскоблил свою несносную пятку, свернулся клубочком и тут же уснул…
Глава XXXI
По следам дичи
Проницательный читатель, должно быть, уже догадывается, кто был причастен к событиям в Рисли, описанным в последних главах, и кто был тем таинственным коварным незнакомцем, который едва не погубил Джорджа Уилаби и до смерти напугал бедного Тома. Дабы убрать все сомнения, если таковые ещё остались, мы должны рассказать, чем занимался наш старый знакомец Фергал с тех пор, как он покинул покои шотландского регента с тайным поручением последнего…
Молодой монах сразу же решил направиться в городок Гамильтон, что находился на южном берегу Клайда. Невдалеке от города стоял замок Кэдхоу. Показав стражам перстень регента, Фергал был впущен внутрь, где ему предоставили трапезу и небольшую комнатку для отдыха. Утром монах отправился на рыночную площадь Гамильтона и стал расспрашивать о молодом всаднике на вороном коне – якобы иноку нужно было передать тому важное письмо от настоятеля Пейсли. Монах не скупился на благословения и спрашивал столь благодушным голосом и с такой смиреной улыбкой, что ему не составило большого труда выведать, в какую сторону поехал Ронан. Полученные сведения совпали с его догадками, точнее – с предположениями Фулартона. Было ясно, что Лангдэйл держал путь в направлении границы с английскими землями, на которых он, вероятно, надеялся спастись от преследования.
Как Фергал ни спешил, он, однако, не сразу пустился в путь по ведущей на юг дороге. Ему пришлось потратить остаток дня, чтобы заехать в монастырь Пейсли и уведомить оторопевшего приора о своём безвозвратном убытии, а главное же – чтобы собрать свои немногочисленные пожитки, большей частью состоявшие из разного рода пакетов и свёртков с запасами сушёных трав, кореньев и порошков, склянок с различными настоями и эликсирами, а также мешочков и коробочек с прочими, ведомыми ему одному зельями. Не попрощавшись и не сказав никому ни слова, кроме огорчённого настоятеля – то ли по причине чрезвычайной спешки, то ли из-за пренебрежения к остальной братии – Фергал исчез из монастыря Пейсли, не имея ни малейшего желания когда-либо туда возвращаться. Свою будущность он видел иначе, и она было никак не связано с постылым и однообразным, пусть и сытым монашеским бытием. А для этого Фергалу необходимо было, прежде всего, убрать с дороги наследника Роберта Бакьюхейда, могущего помешать претворению в жизнь его грандиозных планов…
В обители среди иноков долго ещё ходили разного рода толки о поспешном отбытии брата Галуса. По правде говоря, никто из монахов особо и не почувствовал его отсутствия: брат Томас продолжал добросовестно готовить трапезу для всей братии, пусть и не с такими чудесными приправами; брат-инфирмарий, как и прежде. лечил заболевших старыми проверенными способами. Разве что разговоры и беседы иноков между собой стали более свободными и непринужденными, да приор, напротив, хмурил брови, ибо лишился опеки над своим начавшим грузнеть телом, а вместе с ней и сведений об умонастроениях среди братии.
А вот долгое отсутствие кроткого и благодушного Лазариуса действительно всех обеспокоило. Когда о праведном старце спрашивали настоятеля, тот неохотно, как-то невнятно и расплывчато отвечал, что брат Лазариус несёт, мол, на себе бремя иных богоугодных деяний, и одному лишь всемогущему Богу ведомо, когда святые повинности старого монаха дозволят ему вернуться под сень обители…
Вернёмся, однако, снова к Фергалу, который так спешил покинуть Пейсли, что не счёл нужным даже задерживать себя разговорами с кем бы то ни было, за исключением прощальной фразы, небрежно брошенной им опешившему настоятелю. Хотя у него и не было намерения непременно догнать Ронана, но и сильно отстать в его планы тоже не входило. Всё, что было нужно монаху до поры, так это знать, где пребывает молодой Лангдэйл, и держаться невдалеке от него, выжидая удобного случая. А потому Фергал так чертовски и спешил покинуть монастырь, чтобы не упустить след Ронана. Он вновь вернулся в Гамильтон и оттуда устремился вдогонку за беглецом, как остервенелая гончая, почувствовавшая запах дичи, несётся по следу благородного оленя.
В каждом селении, в каждой придорожной харчевне Фергал справлялся, не проезжал ли здесь молодец на видном вороном коне. Выведать про то у радушных хозяев редких постоялых дворов и трактиров большого труда не составляло, ибо не так уж и много конных путников рисковало в ту пору пускаться в путь по шотландским дорогам в одиночку. А если же недоверчивый тавернщик проявлял исконную шотландскую скрытность и уклончиво заявлял, что мало ли здесь всякого люда проезжает, то молодому монаху приходилось с одинаковой щедростью одаривать хозяина и его домочадцев благословениями и заказывать лучшие блюда, дабы своим великодушием растопить молчаливость осторожных мирян.
Народу по пути встречалось мало, и были то в основном бродячие торговцы, лудильщики, гуртовщики и крестьяне, которые мало обращали внимания на монаха, трусившего на низкорослой гэллоуэйской лошадке. Если же кто-то бросал косой взгляд на инока, то Фергал, как ни в чём ни бывало, осенял того крестным знамением и бормотал: «Benedicite». Когда же на дороге показывались всадники или небольшие вооружённые отряды, монах смиренно съезжал на обочину и с опущенной головой кротко ждал, когда те минуют его. На второй день пути Фергал чуть было не сбился со следа, ибо дорога совершенно неожиданно раздваивалась. У развилки стояли два-три домика, но никто не видел, в какую сторону поехал юноша на вороном коне, а если и видел, то никакие мольбы и посулы не могли заставить их вспомнить о таком мелочном событии, к тому же, случившемся несколько дней назад. Не имея представления о планах беглеца, монах выбрал более проторенный путь, уходивший вправо. То, что он ошибся дорогой, до Фергала дошло лишь, когда он проехал с десяток миль и никто ни в одном селении не смог припомнить подходящего под описание всадника. День близился к вечеру, впереди манили шпили городка Дамфриз, а огорчённому Фергалу пришлось поворачивать обратно и возвращаться назад к развилке по вившейся меж укрытых ночью холмов пустынной дороге…
На следующее утро, уставший и не выспавшийся, монах ехал уже по верному пути, но с ужасом осознавал, сколько ждёт его впереди подобных развилок и перекрёстков. И коли на каждом распутье он будет терять такую уйму времени, то вконец отстанет от Лангдэйла и просто напросто потеряет его след, что было чревато крушением всех его чаяний. Разумеется, подобные опасения придавали Фергалу ещё более сил и рвения.
Вскоре молодой монах въехал в Лохмейбен, значимый по тем временам шотландский город с большой рыночной площадью. Фергалу пришлось обойти все таверны и постоялые дворы, расположившиеся вокруг главной площади, принимая обличие смиренного инока, разыскивающего молодого наследника. Изворотливый монах выдумал целую историю о том, как якобы некий старый умирающий барон завещал часть своих богатств монастырю, при условии, что монахи отыщут его блудного сына, который безрассудно оставил отчий замок и якшается с разбойными кланами Пограничья, и что наставят того на праведный путь. Согласно придумке Фергала именно ему отец-настоятель и поручил отправиться в этот край в поисках баронского сынка. Фергал так красочно расписывал лишения и тяготы, покорно им переносимые, недосыпания и недоедания, изнуряющие его тело, изображал такую кротость и печаль на своём лике, что мало кто мог не посочувствовать несчастному монаху, несущему бремя такой тяжкой повинности, и не испытать желания подсобить бедному иноку.
На руку ему было ещё и то обстоятельство, что Идальго, жеребец Ронана, был изумительной красоты животным, какие редко встречались в те времена в Шотландии. Вороной масти, с белой звездой на лбу и густой пышной гривой, с прямым профилем, сильной грудью и крепким округлым крупом, он стал бы украшением любой королевской конюшни. Идальго сразу бросался в глаза на любой дороге и, по правде говоря, привлекал к себе внимание даже большее, нежели его всадник. А поэтому вскоре монаху удалось выяснить, что Ронан покинул Лохмейбен четыре дня тому назад, что у него был молодой попутчик на рыжей кобыле и они направились в сторону английских земель.
«Наверняка подыскал себе прислужника, – подумал преследователь. – Как же благородный сакс может обойтись без лакея!»
Когда Фергал выказал желание тут же двинуться вслед «наследнику барона», – а дело было в одной из харчевен Лохмейбена, – то сидевший рядом старый монах с измождённым лицом сокрушёно покачал головой и посоветовал своему собрату подумать о рискованности такого шага. И Амвросий – так звали старика – поведал насторожившемуся было Фергалу свою печальную историю.
Всю свою жизнь он провёл в монастыре Картмел, праведно служа Богу и пройдя путь от послушника до ризничего, – до той поры, покуда король Генрих не вознамерился покончить в Англии со всеми монастырями и аббатствами. Благочестивые монахи обители во главе со своим приором воспротивились королевскому указу и не пожелали покидать свой дом. Также и местные фермеры, работавшие на монастырских землях за невысокую арендную плату и каждое воскресенье исправно посещавшие монастырскую церковь, поддержали монахов. В ответ на это ретивые королевские слуги, некоторые из которых рассчитывали сами получить в собственность часть из земель приората, взяли монастырь штурмом, повесив при этом четверых монахов во главе с приором, а заодно и с десяток крестьян, наиболее рьяно помогавших отстаивать монастырь. Уцелевшие иноки разбрелись кто куда. Отец Амвросий, не желавший ни изменять своей вере, ни возвращаться к суетной мирской жизни, поселился отшельником в глухом урочище в нескольких милях от бывшего монастыря. Он построил себе хижину и продолжал в одиночестве в своём скиту читать обедни, преклоняться перед святым распятием и воссылать молитвы всевышнему. Старый монах питался дикими ягодами, орехами и тем провиантом, который ему иногда приносили сострадательные крестьяне и фермеры, втайне остававшиеся приверженцами старой веры. Так отец Амвросий провёл почти пятнадцать лет отшельнической жизни. Но однажды во время охоты барон, владелец тех земель, невзначай наткнулся на крохотный скит в лесу. Несмотря на то, что этот барон, как и многие северные английские дворяне, симпатизировал католическому вероисповеданию, но, опасаясь впасть в немилость к королю и окружавшим его реформистски настроенным вельможам, – если вдруг, не дай боже, станет известно, что он укрывает монаха в своих владениях, – барон велел Амвросию покинуть это прибежище. Он даже дал старому монаху несколько шиллингов, лишь бы тот скорее убрался из его земель. И отец Амвросий отправился на север, в шотландское королевство, где он рассчитывал найти приют в одном из монастырей, ибо в Англии носить монашескую рясу давно уже стало небезопасно…
Хотя Фергал выслушал престарелого монаха со всем вниманием и почтением, но менять свои намерения, разумеется, не пожелал. Сменить обличье монаху было гораздо легче (что он сделал даже с некоторым удовольствием), нежели отказаться от погони и великих планов. Он тут же пошёл на рыночную площадь и приобрёл одежду мирянина, благо деньгами снабжён он был хорошо. В скромном суконном камзоле, неброском коричневом плаще и невысоких сапогах из оленьей кожи он выглядел теперь как слуга джентльмена, хотя кинжал на поясе и серебряная пряжка на шапке подчеркивали некую его самостоятельность. По крайней мере, такое впечатление в своём новом облачении Фергал производил на окружающих. К тому же за годы, проведённые в Пейсли, монах научился не только прилично говорить на языке южан, но и вести себя подобающим образом в любой обстановке. Таким образом, ничто теперь не могло выдать в Фергале ни скромного монаха-бенедиктинца, ни дикого шотландского горца. Расспросив про дорогу отца Амвросия, который по легковерию и душевной простоте не преминул благословить брата Галлуса на богоугодное дело, Фергал двинулся в юго-западном направлении, довольный тем, как ловко ему удалось обвести лохмейбенских болванов и камбрийского монаха.
Заниматься поисками точно той дороги, по которой ехал Ронан со слугой, было пустой тратой времени, ибо сотни разных дорожек и тропок пересекали пограничную, или, как её тогда называли, Спорную землю и петляли между скал и холмов по ущельям, топям и вересковым пустошам. Узрев, по какой местности ему предстоит ехать и, не обладая ни отвагой воина, ни умением защитить себя силой оружия, Фергал предпочёл снова облачиться в монашескую рясу (которую предусмотрительно оставил при себе) в надежде, что иноческое одеяние не привлечёт жаждущих поживы разбойников. Три дня плутал Фергал по этой почти безлюдной земле, на которой за все века больше было пролито крови воинов, нежели пота землепашцев и пастухов. Наконец он выбрался на ту большую дорогу, что тянулась вдоль старой римской стены с запада на восток. Вдоль этого большака там и здесь начали попадаться дома фермеров, и у Фергала появился неплохой шанс напасть на след беглеца. Он сразу же выбросил прочь монашескую рясу, с которой не расставался долгие годы и которая ему уже порядком опостылела, и снова превратился в обычного мирского путника.
Как это ни удивительно, но за несколько приятных слов хозяйке харчевни или пару фартингов босоногому мальчугану неутомимому преследователю удавалось-таки увериться в правильности выбранного пути. Он также выяснил, что теперь у Ронана со слугой появился ещё и пеший попутчик. Для Фергала это было весьма кстати, потому что он уже ощутимо отставал от Лангдэйла – на целых пять дней, а пеший компаньон будет замедлять передвижение Ронана, и у преследователя появится шанс наверстать время. Вскоре, однако, Фергал снова потерял след троицы, которая, как мы помним, из-за любопытства Эндри свернула с большой дороги, пересекла мост через речку Тайн и направилась в городок Хексэм. Фергал же самонадеянно решил продолжать путь по большаку и не удостоил уходящую в сторону небольшую дорожку своим вниманием. И лишь через три-четыре мили, поинтересовавшись у местных жителей про троих спутников, он осознал свою ошибку. Но полдня было потеряно и вновь приходилось разворачиваться и искать место, где Ронан с компанией мог свернуть с дороги.
Упорство Фергала было столь велико, а таинственное желание расправиться с молодым Лангдэйлом так жгло его сердце, что бывший монах в нелёгких своих поисках не чувствовал ни усталости, ни голода. Он спрашивал каждого встречного, не скупясь на мольбы и увещевания, благодушные улыбки и почтительные поклоны, деньги и ненужные покупки – в зависимости от собеседника. В приличной, хотя и скромной одежде, почти безоружный, с приветливым, улыбающимся лицом, Фергал мало у кого мог вызвать какие-либо подозрения. А благодаря его доброму и вежливому голосу привыкшие к грубости и заносчивости солдатни – самых частых посетителей этих мест, – простые люди были не прочь поболтать с любезным незнакомцем. Наблюдательный Фергал давно уже подметил (и с лихвой этим пользовался), что ничто так не завоёвывают сердца простаков и располагает к себе как искренность и добродушие. Далеко не всякий был в состоянии разглядеть нарочитость в любезности путника и наигранность в его благодушной улыбке. А потому, как правило, Фергалу удавалось выведывать необходимые ему сведения.
Однако в дальнейшем погоня за Ронаном проходила для его преследователя не так уж и гладко, ибо путь по английским землям стал для него стократ труднее и мучительнее. А причиной тому служило увеличивавшееся с каждой милей на юг количество дорог и дорожек, развилок и перекрёстков. Всё более оживлёнными становились селения, шумными – рыночные площади, людными – постоялые дворы и таверны. Искать следы всадника на вороном коне в этом скоплении людей и лошадей, заполнявшем дороги и сёла, становилось неимоверно тяжело, можно сказать, почти невозможно. Сколько раз бедолага сбивался с пути, когда вдруг оказывался на распутье и выбирал неверную дорогу! Он с остервенением метался из стороны в сторону, терял след, иногда проезжая много миль в одном направлении и, не найдя у местных жителей, лавочников, трактирщиков и торговцев на рыночных площадях никаких намёков на проезжавших здесь Ронана и его спутников, вынужден был ворочаться назад и искать удачи в другом направлении. На подобные плутания и поиски правильного пути у Фергала уходила уйма время – многие часы и целые дни. И чем дальше вглубь Англии он продвигался, тем становилось всё труднее и труднее – тем паче, что его отставание всё увеличивалось, и уже почти невозможно было оживить в памяти людей, кто им встречался неделю, а то и две назад.
Но страстная жажда выследить Ронана Лангдэйда и поквитаться с ним гнала Фергала вперёд, придавая ему сил во времена полного изнеможения, согревая под холодным осенним ливнем и побеждая охватывавшее его порой безмерное отчаяние. Из страха отстать ещё больше бывшему монаху пришлось укоротить остановки на отдых и ночлег. Несколько часов сна на придорожном подворье и снова в погоню, в любую погоду – будь то проливной дождь или ураганный ветер. Дни стали совсем короткими, и преследователю приходилось часами в кромешной мгле держать свой путь, еле тащась по грязным, разбитым дорогам; ветер бросал ему в лицо сорванные листья и отломанные сучки, а дождь нещадно поливал его бо льшую часть времени. Даже грабители и лиходеи, казалось, гнушались промышлять своим чёрным делом в такое ненастье, потому что ни разу никто не остановил Фергала в ночной темени и не покусился ни на его жизнь, ни на пожитки. А вот бедная его гэллоуэйская лошадка в отличие от своего седока не вынесла такой погони по топлым и разбитым осенним дорогам, и хозяин вынужден был приобрести другую лошадь, более сильной и выносливой породы.
Хоть это и может показаться крайне невероятным, но, так или иначе, то ли дикая жажда хищника не упустить свою жертву, то ли чудесное везение, а возможно, и то и другое вкупе позволили Фергалу проследить след Ронана и его компаньонов почти до самого Ноттингема, хотя их и разделяло уже почти три недели…
По тем временам Ноттингем был достаточно большим городом. На скале надо всеми прочими домами и городскими сооружениями высился старинный замок с зубчатыми стенами и мощными башнями, над которыми развевались королевские стяги. От подножия скалы тянулась улица, упиравшаяся в рыночную площадь, с которой в разные стороны расходились другие улочки. Обозрев с холма море крыш, Фергал прикинул, что город состоял из трёх или четырёх сотен домов. Улицы были полны народу – ремесленники, крестьяне, торговцы, стражники из замка, да и просто ротозеи. Казалось, в этом людском потоке уж точно было не сыскать следов беглеца. Но не таков был Фергал, чтобы после проделанного долгого пути, всех перенесённых трудностей и лишений его мог остановить какой-то городишко.
«Да уж я это отродье Бакьюхейда из преисподней достану, – часто думал бывший монах, подогревая своё мстительное рвение, – разыщу и на дне морском и на самых высоких горных вершинах, чего бы это мне не стоило! А уж потом найду способ с ним поквитаться. Если уж так со мной поступили, то пусть на себя и пеняют».
Но поскольку дело было к вечеру, а промокший под холодным осенним дождём и уставший после отчаянной погони Фергал еле держался в седле, он почёл за лучшее хорошенько выспаться и с утра возобновить поиски. По-быстрому поужинав на первом попавшемся постоялом дворе и дав себе слегка обсохнуть около жаркого очага, неутомимый преследователь втиснулся в свою каморку и тут же уснул. Во сне Фергал издавал какие-то непонятные звуки, но со стороны могло показаться, будто это скулит дремлющая легавая, которой снится давешняя погоня за красным зверем…
Едва рассвело, Фергал принялся за дело. Целый день он рыскал по городу, заходил во всевозможные лавки, трактиры и постоялые дворы, пытался разговориться с десятками различных людей в надежде, что те что-нибудь припомнят. Но всё было впустую. Фергал обошёл абсолютно все гостиницы и трактиры Ноттингема, но никто не помнил ни Ронана, ни вороного коня с белой звездой на лбу. Раздосадованного преследователя обуяли самые неистовые чувства. Он злился на самого себя, что так сильно отстал от своей жертвы; он начинал вдруг питать ненависть к Ронану – за то, что тот, по всей видимости, не остановился в Ноттингеме, а проехал мимо; он бесновался по поводу скудоумия и беспамятности местных обитателей. Одним словом, Фергал винил всех в своей неудаче, проклинал небеса и был вне себя от ярости. В таком духе он возвратился на свой постоялый двор.
– Эй, милейший, – крикнул Фергал хозяину, – приготовь мне ужин, как вчера, только чтоб в паштете не было ни крошки свинины, да и вино чуть подогрей.
– Как изволите, сэр, – буркнул в ответ хозяин. – Только зря вы снова отказываетесь от свиных ножек, нашпигованных чесноком, посыпанных розмарином и обрызганных бордосским вином. Они выглядят так аппетитно – хрустящая румяная корочка, на которой блестят капельки нежнейшего жира, а вкус – просто райский.
– К чёрту твои свиные копыта! – отрезал Фергал. – Это вы, саксы привыкли жрать омерзительное мясо поганого животного61.
– Э-э, добрый постоялец, не пристало мне давать советы моим гостям, но я бы на твоём месте не ругал дом, где ты нынче столуешься и ночуешь, – хмуро сказал хозяин, исподлобья глядя на грубого гостя.
– Ну-ну, не серчай, приятель. Тяжёлый нынче денёк у меня выдался, – взял себя в руки Фергал и раздосадовано молвил: – Никак не могу одного малого разыскать. И куда этот чёртов Ронан подевался?
– Куда он подевался не знаю, – ответил хозяин. – Только ежели человек с этим редкостным в наших краях именем – тот молодой джентльмен, что с мальчишкой-слугой путешествует, и у которого бесподобный вороной, то он вряд ли достоин того эпитета, которым ты его наградил. Скорее наоборот – тот был весьма обходительный юноша.
– Так он останавливался на этом подворье! – воскликнул преследователь. – Mile diabhlan! И почему я не начал розыски с этого дома?! А поведай-ка, любезный хозяин сей прекрасной гостиницы, в какую сторону направился тот молодой джентльмен. Ежели ты укажешь мне путь, по которому они уехали, то, клянусь головой моего отца, я готов отведать твоих свиных ножек, даже если мои кишки вывернет наизнанку!
– Ну, так тому и быть, – ответил хозяин, направляясь на кухню. – Ловлю вас на слове, сэр. Ещё никто не уезжал отсюда, не отведав изумительных свиных ножек, нашпигованных чесноком, посыпанных розмарином и обрызганных бордосским вином.
Когда перед Фергалом появилось сие изысканное блюдо, он скривил рот и, превозмогая своё отвращение, давясь и проклиная про себя всех свиней на свете, вынужден был проглотить едва разжёванные эти самые свиные ножки. Когда же оловянная тарелка оказалась почти пуста, постоялец нетерпеливо спросил:
– Ну, что? Куда уехал тот малый? Говори же, хозяин! Я своё обещание выполнил.
– Насколько я уразумел из их разговора, сэр, – ответил тот с довольной улыбкой, – они поехали в сторону рыночной площади Ноттингема, где намеревались искать пропавших слугу и рыжую. Вот и всё, что мне ведомо, добрый человек.
– Дьявол! – вскричал Фергал. – Я сожрал твои чёртовы ножки, и чувствую себя так, будто внутри у меня копошится клубок пиявок. И за это ты сказал мне всего лишь, что они поехали на рыночную площадь. Негодный обманщик!
Лицо хозяина потемнело, он откуда-то достал увесистую дубинку и грозно встал перед постояльцем. Тавернщик хоть был и невысок, но крепок и мускулист.
– Наша сделка была честная, дружище. Ты съел моё лучшее яство, а я сказал тебе, что они уехали по пути на городскую площадь. А теперь плати за постой, да можешь утром убираться из моего дома на все четыре стороны!
Фергал заскрежетал зубами, но ссориться с каким-то там английским тавернщиком он не намеревался, его ждали более грандиозные планы, а потому он молча развернулся и, гневно сверкнув кошачьими глазами, удалился в свою комнату. Войдя в каморку, бывший монах в сердцах пнул ногой свой вместительный мешок, служивший ему дорожной сумкой, с которым он не расставался со времени отъезда из Пейсли, и с досадой заметил, что ненароком проделал в нём дыру. Фергал вытащил содержимое и разложил на полу, проверил всё ли на месте, любовно поглядел на пакеты, склянки, коробочки, развернул грязную тряпицу, вытащил оттуда какой-то клочок бумаги, с горящим взором прочитал его, мрачно улыбнулся, затем сложил всё обратно и лёг спать…
Очутившись утром на рыночной площади Ноттингема, Фергал вознамерился первым делом отремонтировать свою неосторожно испорченную дорожную сумку, в которой он хранил самое ценное, что у него было. А уж затем можно было и поразмыслить, что же делать дальше. В кошеле на поясе, скрытом плащом, весело звенели монеты, так щедро выданные ему шотландским регентом. Ещё в Лохмейбене, поняв, что ему предстоит путь в Англию, Фергал обменял у местного пеняжника шотландские монеты на английские соверены, кроны и шиллинги.
Найдя торговца, продававшего всевозможные ткани, Фергал купил у него лоскут сукна и нитки с иглой, необходимые для латания своей торбы. Поторговавшись и, в итоге, отдав продавцу два пенса, он было развернулся, чтобы уйти, но в этот самый момент у Фергала сработала выработанная за долгие дни погони привычка, и он снова повернулся к торговцу и спросил приветливым тоном:
– А не приходилось ли тебе случаем, приятель, видеть здесь две или три недели тому назад двух молодых шотландцев? При них ещё был статный вороной конь.
– Может и видел, а может и нет. Много народу каждый день здесь проходит, и молодые и старые. Всех разве упомнишь? А уж кто они, шотландцы, валлийцы или ирландцы, как понять? – не особо задумываясь, отвечал коробейник. – Да я и не помню, где я сам был-то две недели назад: то ли здесь, то ли в Дерби.
Фергал достал из кошелька однопенсовую монету, подбросил её рукой, поймал, зажал в кулаке и с лукавой, но доброй улыбкой посмотрел на торговца.
– Ну, вроде видел я двоих юношей, а с ними конь, – медленно промолвил, словно копаясь в памяти, коробейник. – Только запамятовал, когда это было-то, то ли неделю назад, то ли месяц, может статься, и здесь али в Дерби.
У Фергала мелькнула надежда. Он вытащил из кошелька ещё одну монету, положил на ладонь рядом с первой и снова вопрошающе глянул на торговца.
– Может, твоя память станет лучше при виде этих монет? А, любезный негоциант?
– Ага, вот-вот, мне кажется, я начинаю припоминать. Один постарше, а другой – отрок. Они ещё приобрели у меня пару рубашек. И даже что-то спрашивали. Только что именно, никак не могу припомнить, ну хоть убей, – Коробейник, очевидно, вознамерился набить цену, рассудив своим меркантильным умом, что плоды памяти тоже можно иногда выгодно продать.
Фергал понял, что удача опять улыбнулась ему. Он добавил ещё два пенса и положил все монеты рядом с коробейником. Тот жадно сгрёб деньги и довольный собой выложил всё, что помнил:
– Вот-вот, при блеске металла моя память обычно пробуждается. Они вроде бы спрашивали про дорогу в особняк Рисли. Это отсюда миль пять будет. Как поедешь вон по той улице, никуда не сворачивай, минуешь городские ворота, потом по дороге через поля, через лес, так и приедешь в это селение, а там и сам Рисли-Холл увидишь…
«Ага! Вот где этот олешек намеревается залечь! – возликовал по себя Фергал. – Но в дневное время мне появляться там не к чему. Подберусь-ка в это местечко, как стемнеет, а там и видно будет».
Бывший монах залатал торбу, неплохо пообедал, дал отдохнуть своей лошади, на всякий случай запасся едой и едва начало смеркаться тронулся в путь.
Уже в темноте он миновал особняк Рисли-Холл, потом развернулся и проехал мимо него ещё раз. Стояла кромешная тьма, изредка нарушаемая проблесками луны сквозь разрывы туч. Неистово ревел ветер, срывая с деревьев остатки листвы. Под его порывами дубы, будто мифические великаны, угрожающе размахивали лапами своих ветвей. Фергал смекнул, что в такое позднее время и эдакое ненастье можно не опасаться быть замеченным. Зато он-то видел в темнота как кошка, с детства приученный бродить по ночам среди холмов и собирать целебные травы при свете полной луны, когда их живительные соки были в самой силе…
Преследователь привязал лошадь к дереву, а сам проворно взобрался на соседний дуб, откуда хорошо был виден дом за стеной. «Где-то там внутри находится Лангдэйл, – думал Фергал. – Эх, знать бы где». Он пробежал взглядом по оконцам, лишь в двух или трёх из которых были заметны отблески тусклого света. Вдруг в одном из окон свет стал ярче, и можно было различить, как фигура какого-то человека, заслонявшая до того окно, сместилась чуть вглубь и человек уселся на стуле. Свет, по всей видимости, из камина осветил лицо этого человека. Фергал невольно вскрикнул. Хотя всех деталей лица и невозможно было различить из-за большого расстояния и отбрасываемых в комнате полутеней, но было отчетливо видно, что оно молодое и безбородое. Тёмные волосы ещё более подчеркивали сходство с Ронаном, и у Фергала не осталось сомнений, что это именно тот, кого он ищет. К тому же рядом стоял какой-то мальчишка, видимо, в ожидании приказаний. Ну конечно, это Ронан и его юный прислужник!
Чёрные мысли вдруг вихрем закружились в голове Фергала, опережая одна другую. Он не чувствовал ни пронзительного ветра, ни капель холодной измороси. Какой отличный случай представился ему! Зачем откладывать то, что рано или поздно он и должен был свершить?
И Фергал стал обдумывать свой план. Надобно было побеспокоиться о собаках, рыканье которых и топанье лап он отчётливо слышал за оградой, а также непременно высмотреть и запомнить все подступы к зданию, стены, карнизы и балюстрады. Времени у преследователя было предостаточно, так как он не хотел действовать ранее, чем через час-другой как все улягутся спать.
Вскоре и в самом деле камины перестали полыхать и лишь отбрасывали слабые отблески от тлеющих углей. А значит, те, кто находился в этих покоях – а это наверняка хозяева и их гости, иначе кому ещё было позволительно обогревать себя в комнатах пламенем каминов, – забрались под тёплые одеяла и плотные пологи своих кроватей…
Прошло около часа, пора было приступать к делу. Но что-то сдерживало злоумышленника. Фергалу вдруг пришли на память страдания брата Эмилиана, и он представил, что также будет мучиться и Ронан. Бывшему монаху ни с того ни с сего стало не по себе и он сам подивился своим чувствам: как так! он с такими неимоверными трудностями и лишениями гнался за молодым Лангдэйлом чтобы выследить и погубить того, а теперь, когда он почти достиг своей цели, он малодушно не решался сделать последний шаг. Сидя словно филин на толстом суку, преследователь ругал и корил себя за слабоволие и нерешительность. На самом деле, – хоть Фергал этого и не осознавал, – в душе его шла борьба между злом и добром, между обидой, ненавистью и жаждой мщения, с одной стороны, и природными, присущими человеку от рождения чувствами – с другой.
Но в итоге, похоже, самобичевание принесло свои одиозные плоды, ибо преследователь, выждал ещё некоторое время и, собравшись с духом, начал своё злое дело. Он спустился с дерева, растёр занемевшие конечности, нарвал несколько пучков пожухлой травы, разорвал на лоскуты кусок ткани, приобретённый им с утра для латания дыры в торбе, перевязал ими каждый из пучков и заткнул всё за пояс. Также он выудил из сумки купленный им про запас кусок жареной телятины, побрызгал на него с одной из своих склянок и засунул в карман. Затем Фергал приблизился к стене, перебросил на ту сторону подготовленный им ошмёток мяса и стал ждать…
Псиный нюх быстро указал несчастным мастиффам, где лежит собачья снедь. Они даже погрызлись между собой из-за нежданной добычи, не подозревая, что так вкусно пахнувший кусок мяса был отравлен злодейской рукой…
Когда жалобный скулёж агонизирующих собак стих, злоумышленник перемахнул через невысокую стену и, пригнувшись, подбежал к дому в заранее намеченное место, где вплотную к стене стоял развесистый платан. Ловко вскарабкавшись на ствол, Фергал распластался на длинной ветке и аккуратно, боясь, что она может обломиться под тяжестью его тела, переполз по ней к стене и по её выступам взобрался на самый карниз. Дальше мягкой поступью, словно кошка, он дошёл по нему до того места, где по его прикидкам находилась комната Ронана, по крутому скату крыши добрался до печной трубы и запихал в неё всю припасённую им солому. После этого тем же путём Фергал выбрался обратно, влез на лошадь и, терзаемый противоречивыми чувствами, поскакал прочь. Несмотря на осуществлённую месть, радости он не испытывал.
Бывший монах снова вернулся в Ноттингем, но остановился, разумеется, уже в другом месте.
Говорят, что преступники часто возвращаются на место преступления. Хотя и не известно доподлинно, насколько это соответствует действительности, но у Фергала действительно был повод вернуться на следующий день в Рисли. Ему очень уж не терпелось наверняка узнать исход своего дерзкого предприятия. С волнением в груди он подъезжал к особняку, с тревогой ожидая увидеть около Рисли-Холл сумятицу и сокрушённые лица. Но в селении царило спокойствие, а около особняка не было заметно никакого движения, что удивило злоумышленника и всколыхнуло его давешние душевные переживания. Неужели он сделал что-то не так и Ронан снова избежал уготованной ему участи, недоумевал Фергал и не мог осознать, то ли его радовал, то ли огорчал такой исход дела.
Единственным человеком, которого заприметил наш преследователь, являлся священник, закрывавший двери своего божественного заведения. К нему-то и решил обратиться с расспросами Фергал.
– Доброго здравия вам, преподобный отец, и чутких прихожан, бдительно внемлющих каждому слову истины из ваших уст!
– За то надо воссылать моления Господу Богу нашему, – ответил пастырь, в коем мы без труда узнали бы доктора Чаптерфилда. – Тогда и овцы, послушные воле Его, соберутся вокруг своего пастуха и не разбредутся прочь, искушаемые врагом рода человеческого, и не будут унесены к нему римскими волками.
Радетельный пастырь собирался уже второй раз за день навестить леди Джейн, в этот момент в тревоге сидевшей около постели одурманенного дымом и едва не погибшего Джорджа Уилаби.
– С вашего позволения, могу ли я поинтересоваться у достопочтенного слуги божия, кто проживает в этом великолепном дворце? – с милейшей улыбкой спросил Фергал.
– Что же, добрый человек, ты впервые в этом крае? – вопросом ответил любопытный священник.
– Так оно и есть, ваше преподобие. Никогда прежде мне не доводилось путешествовать по этой дороге. А у кого мне ещё узнать об этом восхитительном доме среди вековых дубов, как не у досточтимого пастыря, чей храм стоит как страж веры на этой грешной земле! – продолжая радостно улыбаться, произнёс Фергал.
– Ну что ж, странник, – молвил польщённый Чаптерфилд, – знай же, что этот дом принадлежит прославленному сэру Хью Уилаби, чей род идёт от самого Радулфуса Буге – человека, который своим трудом, умом и смекалкой приобрёл обширные владения около Ноттингема. Поэтому-то на фамильном гербе сэра Хью и изображены бадьи62. А с десяток лет назад в герб был добавлен дракон по случаю присвоения благородному Хью Уилаби рыцарского звания. Таким образом, фамильный герб сэра Хью представляет собой…
– Не взыщите, ваше преподобие, – нетерпеливо перебил Фергал, – но признаться, я мало смыслю в геральдике, истории древних родов и тому подобной чепухе. Но было бы занятно услышать, чем ныне занят ваш сэр Хью и… его гости.
– Видит Бог, мне впервые попадается человек, прибывающий в Рисли и не интересующийся истоками семейства Уилаби, – обиженно молвил священник. – Ну, коли ты не увлечён стариной и былыми подвигами Уилаби, то вероятно, ты осознаешь величие оного рода, если узнаешь, что вскорости сэр Хью возглавит далёкое плавание к китайским берегам, для чего на Темзе ему уже строят корабли и подбирают команды. Сей поход в веках прославит имя Уилаби!
– С вашего позволения, преподобный отец, а не скажите ли…
– Я мог бы многое тебе поведать, невежественный человек, – резко перебил Чаптерфилд, – но мои познания тебе, по всей видимости, будут неинтересны, в чём ты сам и признался. К тому же у меня спешные дела в особняке, где случилось несчастие и леди требуется моё утешение.
– Несчастие! Вот-вот, мне и хотелось спросить… – пытался продолжить расспросы Фергал, не выведавший ещё самого важного.
– Да наставит тебя Бог на путь истины, странник! Ибо мнится мне, что под твоим благопристойным обличием прячется вероломный папист. А теперь оставь меня и не докучай пустыми словами.
Рассерженный пастырь развернулся и покинул обескураженного Фергала, так толком ничего не добившегося от священнослужителя.
Но делать было нечего, а торчать на дороге перед особняком средь бела дня, словно пугало на ржаном поле, было неразумно и, к тому же, опасно. Фергал неспешно двинулся в противоположную от Ноттингема сторону, коря себя за нетерпение и чрезмерное рвение и обдумывая как бы всё разузнать о случившемся в доме. Вскоре невдалеке он увидал рощу, тёмным пятном расползшуюся по склону холма. От дороги туда вела едва заметная тропинка. Фергал оглянулся вокруг, убедился, что его никто не видит и свернул к лесу. Тропа привела его к крохотной часовенке, внутри которой бил родник. Привязав лошадь к дереву в глубине леса, преследователь вернулся на его окраину и вскарабкался на дерево, откуда пытался различить, что происходит в особняке. Но расстояние до дома было столь велико, что даже зоркие глаза Фергала не смогли ничего распознать, как пристально он ни всматривался. Однако через час другой его самозабвенное рвение было вознаграждено, ибо из ворот особняка выехала повозка, в которой лежала большая бочка, а рядом шли два невысоких человечка. По мере их приближения Фергал догадался, что это были мальчишки и направлялись они, по всей вероятности, за водой к лесному источнику. У него тут же созрел хитрый план. О том, что из этого вышло, читатель уже знает из предыдущих глав… Стоит заметить лишь, что после сцены близ родника Фергал, разумеется, не стал дожидаться, когда мальчишки поднимут тревогу в особняке, и едва напуганные встречей с «призраком» ребята покинули рощу, он сел на лошадь, выехал из урочища с противоположной стороны и, сделав большой крюк, со смешанными чувствами вернулся в Ноттингем.
В который уже раз, вопреки всем его неимоверным усилиям, фортуна оказывалась не на его стороне. Ему казалось, будто заговорённого Ронана охраняет какая-то неведомая сила, отводя метко нацеленные удары. Это пугало и удивляло Фергала. Уже второй человек кряду безвинно пострадал вместо сына барона Бакьюхейда, а тому хоть бы что, рассуждал бывший монах, всецело возлагая на Ронана (а как же иначе?) вину за смерть брата Эмилиана в Пейсли и отравление Джорджа Уилаби в Рисли-Холл.
Впрочем, несмотря на всю противоречивость его сущности и не совсем благие намерения, надо отдать Фергалу должное, ибо в отличие от большинства людей, в достижении своих целей он обладал завидным упорством, которое позволяло ему преодолевать все тяготы и разочарования на его ухабистой дороге. А потому он с ещё большим рвением взялся за дело. Теперь его путь лежал в столицу английского королевства.
Часть 5 Лондон
Глава XXXII
Монастырь святого Фомы
Ронан открыл глаза. Вокруг царили тишина и полумрак, нарушаемые лишь потрескиванием свечи и её неровными отблесками на низком потолке. Юноше почудилось, будто он находится в своей келье в монастыре Пейсли. Затем его сознание начало проясняться, и в памяти стали всплывать отдельные события последнего времени. Наконец разрозненные картины постепенно соединились в единую преходящую цепочку.
Последнее, что он помнил из этой череды событий, это то, как он бросился в тёмные воды Темзы, как пытался догнать уносимую течением женщину, как намокшая одежда и обувь сковывали его движения, тянули вниз и всё никак не давали дотянуться и схватить несчастную прачку. Воспоминания Ронана обрывались на том месте, когда он уже почти догнал бедолагу и хотел было ухватить её за руку, которую она то отчаянно тянула вверх, то вновь полностью, с головой и руками погружалась под воду, но в этот момент силы окончательно оставили злосчастную прачку, и, в очередной раз целиком оказавшись под водой, она уже не появилась на поверхности.
«Может быть, я уже умер, – мелькнула мысль у юноши. – А то, что я здесь вижу и слышу, это всего лишь преддверие загробного мира. Никто же оттуда не возвращался, чтобы поведать, как выглядит царство мёртвых на самом деле».
Затем к нему вдруг пришло чувствование своего тела, и Ронан подумал: «Весьма странно! Души-то ведь бестелесые, а я чувствую свои руки, ноги, лицо, дыхание». Он попробовал пошевелить пальцами. Получилось!
– Я жив! – сказал юноша вслух, и сам удивился звуку своего голоса – такой он был глухой и слабый.
– Истинно, истинно так! – послышался голос из темноты. – Слава тебе, святой Фома! Оклемался-таки. Te Deum laudamus.
– Где я? – спросил Ронан и попытался подняться, из чего, правда, ничего не вышло.
– В монастыре святого Фомы, – ответил тот же голос.
– В монастыре?- с удивлением произнёс юноша. – Но ведь в Англии все монастыри давно разогнали!
– Увы, это так, сын мой. Воинство духов врага человеческого вселилось в сердце короля Генриха, и он обездолил благочестивых иноков, забрав себе всё их добро. Сей монастырь тоже был закрыт и опустошён. Но богоугодные деяния монахов этой обители остались в памяти жителей города, ибо здешние иноки славились своей добродетельностью, состраданием к страждущим и лекарским искусством. Когда же лондонские улицы заполонили толпы больных и нищих, городские власти обратились с петицией к молодому королю с просьбой дозволить вновь открыть монастырь святого Фомы. Король Эдвард хоть и еретик, но в душе его теплится искра милосердия, и он дал монаршие согласие на открытие сего монастыря с больницей и богадельней с условием, что мы не будем читать обедни. И вот мы, монахи святого Фомы ухаживаем за болящими и немощными, в числе которых имел несчастье оказаться и ты, юноша. Любой бедный и обездоленный может найти здесь приют.
– Но как я тут очутился?
– На это тебе даст ответ другой человек, – молвил монах. – Он уже третий день дожидается, пока лихорадка покинет твоё тело и ты придёшь в себя. Вот, глотни из этой кружки святой воды – она придаст тебе сил, а я тем временем приведу твоего благодетеля.
Ронан выпил воды и тут же почувствовал страшный голод, – ещё бы! – ведь он, по словам монаха, три дня был в беспамятстве. Но кто же этот благодетель, за которым пошёл монах? Несомненно, это сэр Хью, думал юноша.
Но, когда вскоре дверь открылась, то вслед за монахом в тёмной келье показался вовсе не командор, а незнакомый Ронану человек. В полумраке можно было лишь различить высокую фигуру, длинные волосы и густую бороду поверх шарфа. Юноша удивился незнакомцу и одновременно почувствовал разочарование, что это не Уилаби.
– Вот, Джон, твой юный джентльмен, – сказал монах. – Я же выйду во двор, и подожду там посыльного, которого ты послал за трапезой для молодого человека.
– Рад вас видеть в добром здравии, сэр, – сказал тот, кого звали Джон. – Однако, для полного выздоровления вашей милости не помешает хороший обед и кружка доброго вина.
– Но кто ты, приятель? – поинтересовался Ронан. – И почему так заботишься обо мне?
– Вы, что же, сэр, не узнаёте меня? – растерянно сказал Джон. – Впрочем, не удивительно, что после такого купания и болезни ваша память не спешит до конца возвращаться. А ну-ка пораскиньте мозгами и припомните, кого недавно вы могли называть бравым речным капитаном. Я эти ваши слова запомнил – никто ещё меня так галантно не величал.
Ронан секунду подумал, бросил взгляд на зелёный шарф Джона и воскликнул:
– Ну конечно! Ты тот добрый лодочник, который дожидался прилива у Лондонского моста в тот самый день, когда я прыгнул в реку за несчастной прачкой. Тогда, ты наверняка в силах объяснить, что со мной случилось в итоге, как я очутился в этой келье и что сталось с бедной женщиной.
– Ну, этого всего одним словом не расскажешь, – как-то замявшись, ответил лодочник. – Ага! Вот я слышу, как возвращается наш добрый августинец с вашим обедом, сэр. Ей богу, никому негоже слушать долгий рассказ на порожний желудок – из-за урчания в пустом чреве вам точно моих слов не услышать.
Вернулся добрый инок с большим узлом в руках. Джон помог Ронану присесть в кровати и разложил перед ним аппетитную снедь, состоявшую из внушительных ломтей ростбифа, лакомых пирогов и бутылки рейнвейна. Голодный юноша с энтузиазмом принялся поглощать еду. Когда же Ронан насытился, то спросил:
– Странное дело, и чем же я обязан тебе, Джон, что ты так меня почуешь и заботишься о незнакомом страннике?
– Как же я могу быть неблагодарным к человеку, который так удачно повернул чёлн моей судьбы! – ответил лодочник. – Даже собака и та ластиться к доброму человеку. Видно, так было угодно Богу дело устроить. А что до вашего обеда и ухода, то меня благодарить не стоит. Воздайте лучше благодарность вашему кошельку…
Тут Ронан ощупал свой пояс – кошеля на нём не было.
– Да не ищите там, ваша милость. Вот ваши деньги, – сказал Джон, вынимая из-за пазухи кошель Ронана. – Разве что, я позволил себе зачерпнуть оттуда несколько монеток, дабы уговорить монахов поместить вас в эту келью, а не общую госпитальную комнату, и попросил святого отца приглядывать за вами. Ну, и подкрепились вы нынче тоже за свои же денежки. Надеюсь, ваша милость не будет гневаться на бедного лодочника за такое своеволие.
– Да я, получается, у тебя даже в долгу, добрый Джон, – сказал юноша. – Я уже чувствую, как кровь начинает быстрее бежать по моим жилам, а мышцы вновь наполняются силой. А теперь изволь поведать, что со мной приключилось.
Но не успел лодочник начать рассказ, как дверь распахнулась, вбежала женщина и бросилась на колени к кровати Ронана. Затем она увидела Джона, смутилась и встала. На вид это была ещё молодая особа, хотя на её суровое лицо и неказистую фигуру тяжёлая работа и нелёгкая жизнь наложили свой нещадный отпечаток.
– Я пришла, сэр, чтобы принести своё благодарение моему спасителю. Увы, у меня ничего нет, чем я могла бы возблагодарить вас. А потому…
– Ладно, Марта, – перебил её лодочник, – ступай в женский придел, поблагодари монахинь и готовься к скорому отъезду. Не видишь разве, что его милость слишком слаб, чтоб выслушивать твои излияния.
– А ты мне, Джон, не указывай, – возразила женщина. – И на чём же мы, интересно, поедем?
– Понятное дело, на моей лодке, что в надёжном месте на берегу Темзы укрыта, – ответил Джон. – А теперь плыви, моя рыбка, и не смущай благочестивых монахов своим здесь присутствием.
Марта посмотрела сердито на лодочника, нахмурила брови, потом повернулась к Ронану, упала перед ним на колени и осыпала поцелуями его руки, после чего встала и вышла.
Сконфуженный таким поклонением перед своей персоной и ничего не понимающий Ронан сказал:
– Надо полагать, мой рассудок ещё не восстановился полностью, ибо я не в состоянии никак уразуметь, что здесь происходит, в конце концов. Одна надежда, что ты мне всё растолкуешь, любезный Джон, а заодно и расскажешь всю историю.
– Так уж я и поведал бы всё, коли Марта не вплыла бы в эту заводь, – сказал лодочник. – Но, да ладно, начну по порядку, как дело было. После того, как мы с вами, значит, поговорили на Мосту, я ещё некоторое время сидел на пирсе и глядел, как понемногу прибывает вода. Стало уж смеркаться, и к тому же с запада поплыли клубы тумана. Ну, я поднялся, и хотел было с помощью верёвки перетащить свой чёлн по другую сторону, так как вода стояла уже достаточно высоко. Но в эту самую минуту я заметил, как запылали факелы на южном конце Моста, и оттуда послышался шум и гам, будто подмастерья опять большую драку устроили – они у нас народ шебутной. Потом присмотревшись и прислушавшись, я уразумел, что, скорее всего, кто-то свалился в воду. На нашем Мосту такое иногда случается: или подерутся, иль лишнего выпьют. Потом-то я у Марты узнал, как дело было. Ну, думаю, негоже в беде горемыку оставлять, отвязал свою лодку и направил её к тому концу Моста. Но, по мере того, как я приближался к месту, я смекнул, что человека в воде относило течением всё дальше и дальше вниз по реке. Ну, я и погрёб не вдоль Моста, а наискосок в надежде перехватить утопающего. В это время стало уж совсем темно. К тому же туман густел с каждым взмахом весёл. Хоть я и был недалече от Моста, но свет факелов казался мне блёклыми пятнышками, и вскоре он и совсем пропал, а крики с Моста заглушались плотным туманом. Я приплыл в то место, куда уже по моим прикидкам должно было отнести бедолагу, ежели он ещё, конечно, не утоп. Но стояла такая мгла, и туман так плотно стелился над водой, что не было видно ни зги уже в нескольких футах от лодки. А вокруг стояла полнейшая тишина – ни всплеска, ни крика о помощи. Ну, я и порешил, что сгинул несчастный в Темзе – эх! сколько уж людских жизней она забрала. Сделал я, значит, ещё несколько взмахов вёслами, прислушался – ни звука… И вдруг перед самым носом моей лодки из воды вынырнул человек! Так всё было неожиданно, что я поначалу растерялся и, сказать честно, даже испугался – уж не дух ли это речной со мной заигрывает. И в самом деле, сделав глоток другой воздуха, этот, то ли человек, то ли водный демон снова скрылся под водой. Я сидел в своей лодке и никак не мог прикинуть, что же мне делать-то. Пока я, озадаченный пребывал в своём челне, воды Темзы вновь разверзлись, и на поверхности показались уже два человека. Причём, первый отчаянно молотил одной рукой по воде, а другой держал недвижного второго. Тут я уразумел, что это никак не духи, и затащил в лодку обоих. Излишне говорить, что тот, который нырял как лосось, были вы, ваша милость. А рукой вы, будто русалку, обнимали некую деву.
– Теперь я припоминаю, добрый Джон, – сказал юноша. – Я прыгнул с моста и хотел спасти бедную прачку, но течение реки уносило её всё дальше и дальше. Как я ни силился её догнать, мне это долго не удавалось. Когда оставался, казалось, один рывок, и я её схвачу, несчастная ушла под воду. Я смутно помню чувство отчаяния, с которым я нырнул за ней, и припоминаю сейчас, что несколько раз нырял и пытался нащупать бедолагу в толще тёмной воды. Я всплывал на поверхность и снова нырял. Судя по твоим словам, мне удалось-таки вытащить из-под воды эту наяду. Но право слово, кроме отчаянных нырков в мрачные и беспросветные воды Темзы, я ничего более не помню. Как будто из книги моей памяти вырвали несколько страниц. Но продолжай же дальше твоё увлекательное повествование.
– Итак, сэр, – вновь приступил к рассказу лодочник, – по моим расчётам до Моста было ярдов триста, а до берега – рукой подать. Мы как раз были у южного берега Темзы, в том месте, что напротив Тауэра. Ваша ундина нечувственно лежала на дне лодки, и нужно было спешно откачивать и спасать её. Вот я и направил чёлн к берегу, на котором мне каждая тростинка ведома. В том месте почти у самого берега находится большой виноградник и вдали от городской суеты стоят несколько небогатых, но приличных домов, в которых не откажут в помощи несчастному человеку. Как только мы оказались, значит, на земной тверди, первым делом я осмотрел деву и сообразил, что дело серьёзное, ибо бедняжка даже не дышала. Ну, понятное дело – водицы набралась, как пустая фляга, когда её в реку опускаешь. Вспомнил я тут, как откачивали Дика Киллигрю, носильщика у нас на Старой Пристани, что напротив Святого Павла, когда он спьяну в воду свалился. Сначала я положил её к себе на колено и вниз головой, так чтобы из фляжечки вся водица вытекла. Потом прильнул к её губкам и начал воздух в неё вдувать. Затем несколько раз надавил на её грудь. И так повторил, верно, с дюжину раз, до тех пор, пока не ощутил увесистую пощечину по своему лицу. «Наглец! – вдруг вскрикнула воскресшая русалка. – Да как ты смеешь прикасаться к тому, что тебе не принадлежит и порочить честную девушку!» Тут она призвала на помощь свою вторую руку и отшвырнула меня так, словно штормовая волна бросает утлую лодчонку. «Теперь у тебя один выход, негодяй!» – завила моя утопленница. «Какой же, милая русалка?» – поинтересовался я. «Жениться на мне!» – был ответ. Но не то это было время, чтобы амурные дела обсуждать и ласками друг другу одаривать. Потому как вы, сэр, тряслись, точно мачта маленького ялика под ураганным ветром. Так, видать, на вас подействовали чрезвычайное напряжение сил и холоднющая вода. Я велел очухавшейся русалке присмотреть за вами, а сам побежал к ближайшему дому. Когда я вскоре вернулся с людьми из того дома, ваша милость была уже в бессознательном состоянии. Вас, сэр, отнесли в дом, а Марта, удивительное дело, несмотря на такое купание, пошла сама.
– Так это была Марта! – воскликнул Ронан. – Та самая особа, которая недавно сюда заходила? Теперь я понимаю причину её благодарности, так смутившей меня.
– Да, она, русалочка моя, – ласково сказал Джон.
– Твоя? – удивился Ронан.
– А вы разве запамятовали, сэр, что она мне на берегу сказала, когда я её в чувства вернул? Впрочем, об этом потом. Я ещё в лодке заприметил у вас кошель на поясе. Не подумайте, что я на него глаз положил. Боже упаси меня позариться на чужое добро! Но на берегу, когда вы впали в забытьё, я рассудил, что у меня вашему кошелю безопасней будет, да и вам больше выгода от того. Благодаря этим деньгам, как только вас переодели в сухое, я нанял носильщиков, которые доставили вас и Марту в больницу при монастыре святого Фомы, где вы сейчас и находитесь. Также некоторая сумма ушла на то, чтобы вашей милости отвели отдельную комнатку и чтобы при вас всё время был монах-сиделец. А остальные ваши денежки все в полной сохранности, можете не сомневаться.
– Удивительный ты человек, Джон, – сказал Ронан. – Ну, скажи на милость, с какой стати тебе надобно было так со мной нянчиться и заботиться о моих деньгах, ничего за это не имея?
– Ну, кое-что я получил-таки с этого дела, – ответил лодочник. – Как только Марта пришла в себя, обсохла и согрелась – а случилось это достаточно быстро, ибо она русалка крепкая, привыкшая к тяжелому труду и холодной воде, – я пошёл к женскому приделу и попросил монахинь позвать её, хоть она и была ещё немного не в себе. При всех свидетелях я сказал ей, что как честный человек я готов на ней жениться, чтобы искупить моё неподобающее поведение на речном берегу в ночную пору. И что же она, сэр, сделала? Эта чёртова Марта залепила мне такую пощёчину, что моя щека целый день пылала, как полуденное солнце над Темзой в жаркий летний день.
– Неужели так она отблагодарила своего спасителя? – спросил Ронан с весёлой улыбкой.
– Странные это создания – женщины, – многозначительно ответил Джон. – Покуда я, значит, потирал щёку и недоумевал, чем же заслужил такую штормовую волну в борт моей лодки, Марта никуда не ушла, а стояла и ждала, пока я приду в себя. Когда я смущенно вновь поднял голову, ожидая получить оплеуху по другому борту, она всего лишь сказала: «Ну, хорошо, бесстыдник, я согласна». В тот же день прямо здесь в монастыре святого Фомы нас и обвенчали.
– Вот уж удивительное дело! – воскликнул Ронан и наговорил лодочнику множество благих пожеланий его семейной жизни, присовокупив ко всему золотую крону в качестве подарка.
Джон поблагодарил юношу за невиданную щедрость и сказал, что это ему должно благодарить его милость, ибо он вытащил его супругу из водного царства речных духов на божий свет к человекам.
Когда же выражения взаимной признательности закончились, Ронан вдруг вспомнил об Уилаби, мысли о котором начисто вылетели у него из головы во время забавного рассказа Джона, и спросил у лодочника, ведомо ли кому о его спасении. Джон запустил руку в свою густую бороду, почесал и ответил, что, в этом деле, видать, самый сведущий человек это он, поскольку принял в нём некое участи, да и у Марты память хорошая.
– Да, нет же, Джон! Не о вас речь, – нетерпеливо сказал Ронан. – Неужели ты хочешь сказать, что никто не знает, что мы с Мартой не утонули, и никто мной не интересовался за это время?
Лодочник сконфужено посмотрел на юношу и ответил:
– Эх, ваша милость, да у меня даже в мыслях не было, что вас будут искать. Ну, тупая моя голова! Надобно было на Мост сходить и разузнать, а я все три дня здесь проторчал, ожидая, когда вы оклемаетесь, да покудова Марта полностью на ноги встанет. Разве что отлучился на часик лодочку свою в сарай один пристроить. Вы подождите, сэр, я сейчас, мигом ворочусь…
И в самом деле, менее чем через час Джон вернулся и сообщил недоумевающему Ронану:
– Говорят, искали вашу милость в ту ночь, но в темноте и тумане никого не нашли и почли вас и Марту за утонувших. А на следующий утро один важный джентльмен нанял целую флотилию лодочников и армию ребятни, дабы они всю реку обыскали и берег обшарили. Целый день они тщились ваше тело отыскать, но всё, что им удалось, так это выловить платок Марты около Собачьего острова. Ну, и посчитали, что ваши тела либо за коряги на дне Темзы зацепились, либо течение дальше уволокло.
Ронан скинул одеяла и вскочил с кровати с намерением тут же бежать и известить Уилаби о своём спасении, но понял, что ещё слишком слаб; в ногах была неимоверная слабость, а потому он сел на свою грубую кровать и попросил Джона позвать того монаха-сидельца. Когда тот пришёл, юноша спросил, ведомо ли ему, где проживает негоциант по имени Габриель Уилаби. По счастью сей купец жил недалеко от монастыря и был хорошо известен в этой части Саутворка ввиду своей благотворительности и пожертвований на богоугодные дела. Поэтому вскоре Ронан знал, где находится жилище негоцианта и как до него добраться. Выяснилось к тому же, что по капризу судьбы, когда по ночному городу бессознательного юношу и Марту несли из дома на берегу в монастырь святого Фомы, то их проносили, можно сказать, почти рядом с жилищем купца Уилаби, где в этот момент, должно быть, находился командор, скорбя о своём злосчастном протеже…
Юноша не мог позволить себе появиться в таком немощном виде перед сэром Хью и поэтому надумал отправиться туда на следующее же утро, когда силы вернуться к нему окончательно – в чём он нисколько не сомневался. Ронан сердечно распрощался с лодочником Джоном, не имея намерения более задерживать того от соединения с новобрачной. Когда же обуянный сладкими предвкушениями семейной жизни его спаситель ушёл, юноша попросил монаха-сидельца принести ему хороший ужин, а сам принялся расхаживать по комнатушке, с каждым шагом радостно ощущая, как силы возвращаются в его мышцы.
Ронан мерил шагами келью и предвкушал, как обрадуется завтра сэр Хью. Потом вдруг у него возникло предположение, а что если суровый рыцарь и не печалится вовсе о гибели юноши, ведь какая ноша и груз ответственности спали бы с его плеч. «Нет, не может командор быть таким жестокосердым», – возразил сам себе Ронан. «Но ведь он – воин, участвовавший не в одном кровавом сражении, и, наверняка, привычен к утратам и гибели своих соратников. А кто ты таков, чтобы о тебе чересчур печалиться?» – шептало ему сомнение. С такими противоречивыми мыслями Ронан и уснул в тот вечер.
Глава XXXIII
Алиса Уилаби
Хотя дом Габриеля Уилаби и больницу при монастыре святого Фомы разделяло менее полумили, но тащиться по незнакомым, пересекаемым ручьями и канавами тёмным задворкам Ронану не хотелось. Вместо этого он вышел на большую улицу и направился в сторону Лондонского моста. Перед этим злополучным местом юноша свернул направо на другую улицу, как его наставлял монах, которая тянулась вдоль Темзы на некотором удалении от неё.
Ронан шёл неспешно, осматривая всё по сторонам. На лице его играла лёгкая улыбка в предвкушении того, как он обрадует командора своим появлением. Вчерашнего больного укрывал невзрачный изношенный плащ и обтрёпанная шапка, оставшиеся, наверное, от какого-нибудь бедняги, почившего в стенах монастырской больницы, и милостиво одолженные монахами. А потому мало кто из прохожих, озабоченных собственными делами, обращал внимание на юношу, одетого в старую хламиду. С левой стороны улицы стояла большая и очень старая на вид церковь. Ронан остановился на миг полюбоваться её резными барельефами и мозаичными окнами. В это момент двери церкви открылись и выпустили молодую девицу, за которой вышел преклонных лет священник. Лицо его светилось благодарной улыбкой и он что-то благосклонно говорил молодой прихожанке.
Пока она выходила из храма и ещё не обернулась к священнику, Ронан успел разглядеть миловидные черты ёе молоденького личика, порхающую вокруг губ и мелькавшую во взгляде улыбку, что свидетельствовало о том, что её обладательница, скорее всего, была не чужда весёлости; а за то, что она была избалована вниманием и заботой, говорили великолепное длинное манто с меховой опушкой, не скрывавшее изящных маленьких башмачков с серебряными пряжками, и элегантная отороченная беличьим мехом шапочка, укрывавшая густые, перевитые золотистой лентой каштановые волосы.
Девушка учтиво выслушала старого священника, сделала реверанс, повернулась и быстрыми шажками направилась по улице в ту же сторону, куда лежала дорога Ронана. А потому нашему герою не оставалось ничего другого, как продолжить свой путь и пойти вслед за юной девицей, что он сделал, надо заметить, не без удовольствия и даже прибавил шаг, чтобы не отстать и иметь возможность изредка бросать быстрые взгляды на стройную девичью фигурку.
Скоро незнакомка остановилась у дома, который походил по описанию, данному монахом, на жилище купца Габриеля Уилаби. Она поднялась на ступеньку и постучала дверным кольцом, закреплённым в железной львиной пасти, после чего оглянулась и строго посмотрела на приблизившего Ронана.
– Сэр, по какому праву вы преследуете меня?
– Я? Преследую вас?! – оторопел Ронан. – Боже упаси! Вы, верно, полагаете, что раз моя дорога по воле случая совпала с вашей, значит, я гонюсь за вами?
– А что, по-вашему, должно мниться одинокой девушке, когда за ней от самой церкви святого Олафа не стихают настойчивые мужские шаги? – заявила девчушка.
– И как же это вы разобрали, что это мужские шаги? – поинтересовался Ронан. – Я не заметил, чтобы вы оборачивались, дабы узнать, кто следует позади.
– Фи! Неужели вы, сэр, принимаете меня за какую-нибудь простушку, которая не в состоянии уразуметь, что раз раздаётся стук каблуков, то это может быть только мужчина63? По-видимому, вы оставили сообразительность там же, где потеряли вашу лошадь, – усмехнулась девушка и ещё раз настойчиво постучала дверным кольцом. – Куда же это запропастился старина Гриффин, заставляя меня любезничать с нахальным незнакомцем?
– Мне думается, что вы непочтительная и жестокосердная юная леди, раз такое ваше отношению к бедному страннику, – упрекнул собеседницу Ронан.
– Опять вы ошибаетесь, сэр, – бойко ответила юница. – Причём в каждом вашем словечке. Как может быть жестокосердной девушка, которая только что отнесла такую сумму на пожертвования в нашу приходскую церковь? И я вовсе не леди, хотя не исключаю, что мне когда-нибудь и выпадет такой жребий. К тому же я не юная, как вы изволили выразиться. Мне, к вашему сведению, на днях минуло уже шестнадцать, и все говорят, что я привлекательная, – кокетливо добавила она.
«Что за самовлюблённая и легкомысленная девица!» – подумалось Ронану, но в этот момент дверь, наконец-то, открылась, и юное создание упорхнуло внутрь дома. Из двери выглянул хмурый слуга-старик в богатой, но уже изрядно поношенной ливрее. Увидев Ронана в его убогих плаще и шапчонке, он спросил хриплым и шепелявым голосом, собираясь уже захлопнуть дверь:
– Что тебе нужно, голоштанник? Ежели ты жаждешь подаяния, так ступай в церковь святого Олафа или же в монастырь святого Фомы.
– Я разыскиваю дом Мастера Габриеля Уилаби, – твёрдо ответил Ронан и добавил возмущённым тоном: – И не стоит тебе, старик, судить превратно по внешности путника. Странно, что слуга в твоём возрасте не научился узнавать джентльмена в любом обличье.
– Ха-ха! Ежели ты джентльмен, то я – кардинал Кентерберийский, – прошамкал старый слуга, довольный своей плоской шуткой.
– Скажи лучше, дома ли сэр Хью, – потребовал юноша, не обращая внимания на кичливого слугу. За время своего путешествия Ронан осознал, что, увы, далеко не со всеми людьми можно быть обходительным и приветливым, и иногда требуется проявить твёрдость и показать зубы, дабы сбить спесь с гордецов.
Казалось, что упоминание имени командора произвело на старика магическое действие. Он вмиг вытянулся, поправил свою расшитую серебром ливрею, хотя уже порядком вылинявшую и потёртую во многих местах, как и её хозяин, и пригладил поредевшую бороду, после чего сказал так не шедшим ему помпезным тоном:
– Сэр Уилаби, этот цвет английского рыцарства, отважный лев ратных полей и преданный королевский слуга занят важным делом и будет дома к заходу солнца.
– Так вот, старина Гриффин – так, кажется, тебя здесь величают, – ежели не хочешь, чтобы этот лев обглодал твои старые кости, то немедля впусти меня в дом и доложи твоему хозяину, что явился человек, который недавно имел честь в дружеском поединке скрестить меч с сэром Хью Уилаби и пожать его мужественную руку.
Не ожидавший такого натиска, старик нерешительно глядел на юношу и, в конце концов, услыхав подобное заявление, капитулировал и с явной неохотой впустил Ронан в дом.
Пока Гриффин ходил оповестить хозяина о вторжении подозрительного незнакомца, Ронан оставался в сенях и разглядывал помещение. Он уже снаружи заметил, что в отличие от своих собратьев-соседей, сооружённых из дерева и глины, ивняка и штукатурки, дом купца Уилаби был воздвигнут из кирпичей медно-бурого цвета, что в то время свидетельствовало о зажиточности хозяев. Над крышей высился ряд печных труб с замысловатым орнаментом из разноцветных кирпичей. Внутреннее убранство также уже в дверях говорило если не о роскоши, то о состоятельности и довольстве. Стены были отделаны дубом, а кое-где висели и красочные гобелены… Вскоре старик-слуга вернулся и провёл Ронана вдоль длинного коридора, освещённого укреплёнными на стенах серебряными шандалами, затем через большой зал, уставленный массивной резной мебелью и увешанный портретами, и, наконец, поднявшись по узкой лестнице, и пройдя мимо нескольких дверей, ввёл его в небольшой холл, служивший, по всей видимости, рабочим кабинетом хозяина дома.
Первое, что бросалось в глаза, это массивный стол из резного дуба, на котором помимо абаки и счётных таблиц были разложены огромные рукописные фолианты в кожаных переплётах с медными застёжками, – наполнявшие гордостью и надеждой сердца купцов и вселявшие ужас в души покупателей, срок платежа которых уже истёк, – а также располагалась украшенная вычурными узорами серебряная подставка с письменными принадлежностями и позолоченной чернильницей в виде миниатюрной башенки.
Рядом на большом стуле с высокой резной спинкой сидел сам купец Габриель Уилаби. Наружность почтенного негоцианта была не столь внушительная как у его знатного родича. Худощавая, невысокая фигура, судя по тому, как он живо вскочил на ноги навстречу гостю, была необычайно подвижна, что свидетельствовало о деятельном и предприимчивом характере купца Габриеля. Волосы, равно как и небольшая аккуратная бородка, когда-то тёмные как смоль, от ежедневных купеческих забот и волнений почти совсем поседели, хотя на вид ему было не более сорока – сорока пяти лет. На строгом лице читались уверенность и властность человека, знающего цену себе и своему состоянию. Тем не менее, во взгляде купца не было и тени надменности, скорее напротив, он был приветливым и благожелательным.
– Любопытно глянуть на смельчака, отважившегося сразиться с моим кузеном Хью, – молвил негоциант, вставая и внимательно осматривая Ронана. – Как тебя зовут, юноша, и что привело в мой дом? Сказать по правде, твоё жалкое одеяние смущает меня, равно как оно расположило не в твою пользу и старину Гриффина.
– Сэр, это хламида с чужого плеча, – ответил Ронан, – дарованная мне милостивыми иноками из монастыря святого Фомы, и которую я с радостью могу теперь сбросить… Что же касается моего имени, то, ежели сэр Хью изволил поведать вам о событиях последних дней, оно, должно быть, вам известно, ибо я есть тот бедный школяр из Шотландии, вынужденный искать прибежища в Англии и покровительства сэра Хью…
Габриель Уилаби сощурил глаза, недоверчиво посмотрел на Ронана и молвил:
– Хм, я знаю только одного такого человека, но, увы, бедный юноша погиб три дня назад, утонув в Темзе.
– Однако, раз я стою перед вами, почтенный сэр, то значит, я не утонул, хоть и был весьма близок к подобному роковому исходу, – заверил юноша хозяина дома, а после вкратце поведал изумлённому купцу, что с ним приключилось.
В свою очередь обрадованный такому повороту негоциант рассказал Ронану, как все они были ужасно огорчены случившимся и о том, какие страшные мучения терзали душу сэра Хью, которые он хотя и пытался сокрыть в себе, но мрачный вид и угрюмая молчаливость выдавали его тяжкие переживания. Эти слова почтенного купца удалили напрочь мучившие юношу накануне сомнения, и как будто огромный камень свалился с его души.
– Нынче же в честь вашего удивительного возвращения в царство живых, дорогой Ронан, я устрою пир и празднество… сколь это в моих силах! – воскликнул негоциант. – Эй, Гриффин, позови-ка ко мне Алису!… Сейчас я представлю вас моей дочке.
Пришла та самая юница, с бойким норовом и острым язычком которой Ронан уже имел случай познакомиться. Когда девушка узнала, что перед нею стоит Лангдэйл – молодой шотландец, которого они все считали трагически погибшим в ночной Темзе, – то поначалу несколько смутилась за тот нелюбезный приём, который она оказала юноше за час до того, и даже покрылась лёгким румянцем. Но затем радостное настроение и весёлый характер взяли своё, и Алиса заявила с хитрой улыбкой:
– А вы, Мастер Лангдэйл, смею заметить, чересчур уж прыткий юноша.
– Это почему же вы так изволите обо мне думать, мистрис? – удивился Ронан.
– Да потому что, по словам Дженкина, вы прыгнули с парапета моста, точно лягушка с кочки!
Ронан хотел было нахмуриться, но понял, что почему-то не может всерьёз сердиться на это юное беспечальное создание. Зато купец сдвинул брови, посмотрел на свою дочь с укоризной и велел ей пойти на кухню и распорядиться насчёт торжественного ужина и чтобы обед был подан на три персоны. Когда Алиса упорхнула из комнаты, купец посмотрел ей вслед и произнёс со вздохом:
– Эх, как не стало её матери, никак не могу управу найти на легкомысленную meisje64, да и стоит ли, право? Вы на неё уж не сердитесь, молодой человек. Дочка моя хоть и шалунья, но в конечном счёте на ней весь дом держится. Она всеми слугами заправляет, словно истый дворецкий, а не как молоденькая девчонка.
Ронан заверил Габриеля Уилаби, что ни в коей мере не может досадовать на его прелестную дочку. И слова его в самом деле были искренними, а не данью уважения хозяину дома, ибо юноше почему-то приятно было созерцать эту порхающую как мотылёк девочку и слышать её по-мальчишески озорной голосок, который, как оказалось, может и приказы отдавать… Ронан поинтересовался, что сталось с его конём, и, узнав, что тот мирно стоит в конюшне позади дома, изъявил желание увидеть его. Негоциант велел Гриффину показать юноше его комнату и провести в конюшню, а Ронану напомнил, что через час в гостиный зал подадут обед.
Старый слуга показал гостю не только его комнату, но и с гордостью провёл по всему огромному дому; дело в том, что старина Гриффин в своих тщеславных помыслах ставил себя в одни ряд с дворецкими в замках и особняках знати, и ему доставляло огромное удовольствие всячески это выказывать. И в самом деле, снаружи дом купца Уилаби с крохотными башенками по углам, лепной балюстрадой и витыми карнизами можно было бы принять за маленький замок; три этажа, не считая подвалов, погребов и чердаков, вмещали множество комнат – хозяйских, для прислуги и для гостей; коридоры были необычно широки, а стены сплошь отделаны дубовыми панелями и увешаны гобеленами фламандской работы.
После такого маленького путешествия Гриффин повёл юношу во двор, не переставая извиняться по дороге за недоброжелательный приём в дверях.
– Ежели б вы знали, ваша милость, сколько здесь всякого сброда по улицам шатается, – говорил старик беззубым ртом. – И все норовят что-нибудь урвать у моего доброго хозяина, видя какой он богатый. Взяли было в привычку выстраиваться перед дверьми и клянчить подаяние у щедрого купца. Отбоя не было от нищих и бродяг – притворных и настоящих, – покуда мистрис Алиса не настояла, чтоб милостыню не в дверях раздавать, а передавать в приходскую церковь на усмотрение викария… А вот уж и наша конюшня.
Войдя в сарай, который использовался под конюшню и мог бы вместить целый табун, Ронан сразу увидел своего скакуна рядом с лошадьми сэра Хью и Дженкина, кроме которых в конюшне был ещё только один пони серой масти. Юноша наполнил большую меру овсом и подошёл с ней к Идальго. Тот негромко заржал, прядая ушами, и пару раз ударил копытом о землю, словно желая показать, какая давняя дружба связывает его с хозяином и как он по нему истосковался, так нежданно им покинутый. К овсу конь не прикоснулся – видимо, уходом он был не обделён, – но на ласку своего хозяина отозвался, лизнув ему руки и лицо своим шершавым языком.
– Ну, что ж, мой друг, раз ты пресыщен кормом, – сказал с теплотой Ронан, потрепав конскую гриву, – то уж мне-то точно не помешает подкрепиться.
Ронан вернулся в дом, где в зале уже заняли свои места за столом отец с дочерью. Обед прошёл чинно и неспешно, еда была аппетитна и вкусна. Купец сказал, что ожидает сейчас своего счетовода, с которым они должны разобраться с кое-какими бумагами, а потому он не может пока уделить должного внимания молодому человеку и просит свою дочь взять опеку над гостем.
– Да уж, батюшка, нашему гостю, наверняка, интересней будет послушать мою игру на вёрджинел65, нежели ваши с Мастером Бернардом рассуждения про все эти memoriale, giornale, quaderno и прочие непонятные итальянские словечки. Фи, как это, должно быть, скучно сидеть с этим нудным клерком, воображающим себя великим счетоводом и ещё Бог знает кем, и слушать его разглагольствования.
– Ну что ты, голубка, – возразил негоциант. – Мастер Бернард весьма толковый молодой человек, который уже неплохо разбирается в коммерции. К тому же, знаете ли, Мастер Лангдэйл, он в одиночку, собственными силами разобрался в новом, самом лучшем методе счетоводства, который вычитал в итальянском манускрипте. И нынче все мои сделки мы стали записывать именно этим способом. – Купец пристально посмотрел на дочку и добавил: – К слову сказать, я не советую тебе медлить и предаваться пустым размышлениям, потому как дело, можно сказать, уже почти решённое.
В это время как раз пришёл тот самый Мастер Бернард – аккуратно одетый молодой клерк, на вид на три-четыре года старше Ронана, с приятным лицом, вежливым голосом и учтивыми манерами. Он весело поздоровался с мистрис Алисой, отвесив ей чересчур низкий поклон, бросив при этом настороженный взгляд на незнакомого юношу. Когда же негоциант представил ему Ронана, Мастер Бернард в качестве приветствия склонил голову и, не поднимая её и не говоря ни слова, повернулся к своему патрону и удалился с ним в контору. Ронан почувствовал вдруг какую-то смутную неприязнь, и даже враждебность к этому человеку, хотя и не мог понять тому причину. Впрочем, он тут же забыл про существование Бернарда, оставшись в обществе своей новой знакомой.
В дверях в ожидании приказаний, словно мавр, застыл старина Гриффин – правила приличия не позволяли Габриелю оставить дочь наедине с малознакомым молодым человеком.
– Гриффин, скажи, а почему здесь нет моей доброй Эффи? – поинтересовалась Алиса.
– Старая хрычовка жалуется, что спину прихватило, – прошамкал Гриффин. – Просила позволения посидеть часок-другой на кухне, у печи погреться.
– Что же ты всё ворчишь на неё, скажи на милость? – спросила девушка. – Поди, сам не моложе её.
– Моложе не моложе, а я завсегда на своём посту, как латник в Тауэре, – проворчал старик. – А у этой вековой шептуньи, видите ли, спина заржавела. Вот и выходит, что мне тут за неё отдуваться приходится…
Алиса прошептала Ронану, что Эффи это её старая горничная, они с Гриффином самые старые слуги в доме и постоянно препираются и спорят между собой, хотя, как ей кажется, души в друге не чают, только виду не подают.
Затем девушка поинтересовалась у гостя, нравится ли тому звучание вёрджинела. Ронан откровенно признался, что впервые видит этот музыкальный инструмент.
– Отец привёз его из Фландрии, – похвалилась Алиса. – А играть на нём научила меня одна старая леди, в своё время услаждавшая слух самого короля Гарри.
Девушка села за столик у стены, на котором покоился этот удивительный предмет, подняла украшенную резьбой деревянную панель и положила свои пальчики на выступающий ряд чёрных клавиш. И словно капельки дождя полилась музыка, лёгкая как дымчатое облачко и нежная как летний ветерок. Ронан восхищённо смотрел, как проворные пальчики Алисы бегали по клавишам, и упивался чудными звуками. Ему даже не верилось, что совсем недавно он лежал немощный в тёмной и холодной келье монастыря святого Фомы… Даже Гриффина музыка так растрогала, что на старческих глазах выступили слёзы умиления. Так продолжалось около четверти часа, но неожиданно мелодия прервалась, и Алиса, поджав губки, заявила:
– Однако, я устала! Но, по правде говоря, Мастер Лангдэйл, мне просто не терпится услышать все подробности вашего отчаянного поступка и того, что за ним последовало.
– Ну, раз вы таково ваше желание, милая девушка, то, видимо, настал мой черёд развлечь вас рассказом. Боюсь лишь, что он покажется вам скучным, – ответил молодой шотландец и поведал свою короткую историю, состоявшую из его собственных смутных воспоминаний и рассказа лодочника Джона.
Несмотря на то, что Ронан вёл своё повествование простыми словами – как будто речь шла о некоем обыденном событии, а не трагическом инциденте, – избегал эффектных фраз и сглаживал пафосность всей истории, впечатлительная девушка даже не пыталась скрыть, как ей это было интересно и как она восхищается геройским поступком их гостя. От изумления её уста были приоткрыты, являя стройные белые зубки, а карие глаза восторженно блестели. В конце рассказа она восхищённо сказала:
– Ах, вы настоящий герой, Мастер Лангдэйл! Подумать только! Броситься в холодную Темзу, чтобы спасти несчастного человека! Жаль лишь, что спасённая вами дама оказалась всего лишь простой прачкой, а не какой-нибудь красивой юной леди. Иначе произошло бы как в старинных романах, где благородный рыцарь спасает от гибели обворожительную красавицу. Ах, как это упоительно!
Юноша немного смутился – то ли от того, что стал предметом восхищения, то ли от осознания, что вызвал подобные эмоции у такого нежного и прелестного создания, каким ему теперь начинала казаться Алиса. Он уже напрочь забыл о своём первом, совсем ещё недавнем впечатлении об этой девушке, непроизвольно начиная поддаваться обаянию непосредственной, воодушевлённой и такой милой собеседницы. Чтобы ради скромности отвести разговор от собственной персоны Ронан в свою очередь полюбопытствовал у девушки об её отце и об этом красивом доме.
И вот вкратце, какое представление составил себе шотландец о негоцианте из того, что рассказала мистрис Алиса – а девушка она оказалась смышлёной и, видно, разбиралась не только в домашнем хозяйстве и музыке, но немного и в делах своего родителя, что было весьма необычно для девиц её времени. Итак, отец её Габриель Уилаби был третьим сыном в своём семействе, а потому не мог рассчитывать на доходы от вотчинных земель, а вынуждён был самолично устраивать своё бытие. Будучи человеком спокойным и миролюбивым, хотя и деятельным, он отверг воинскую карьеру и, когда получил причитавшиеся ему по завещанию деньги, скупил у фермеров-арендаторов своего старшего брата всю шерсть и отправил тюки в Ипсвич одному негоцианту, который вёл торговлю с Фландрией. Однако Габриель быстро смекнул, что из поместья его брата проще и дешевле переправлять шерсть в Лондон, а уж оттуда дальше – в Брюгге и Роттердам. Поэтому, договорившись с братом, что будет единолично закупать шерсть у его фермеров, Габриель перебрался в Лондон с намерением самому торговать с Фландрией, нашёл такого же предприимчивого единомышленника, с которым сообща купили небольшой корабль. Со временем торговые связи купца Габриеля Уилаби росли и расширялись, он стал скупать шерсть не только в вотчине своего брата, но и в соседних поместьях и графствах. Обратно с континента он привозил роскошные ткани фламандских и голландских ткачей или же готовую одежду тамошних портных. Но дух Меркурия был неукротим в душе негоцианта, и когда у него уже было несколько кораблей, то они стали ходить в более дальние моря. Из балтийских земель он привозил пеньку, а с норвежских берегов – строевой и корабельный лес. Из одной такой своей поездки во Фландрию Габриель Уилаби привёз себе супругу, будущую мать Алисы, которую звали Изабелла.
Упомянув свою мать, девушка вдруг погрустнела, потом неожиданно даже всплакнула. Как выяснилось из её дальнейшего рассказа, в прошлом году в городе распространилась страшная болезнь под названием потовая горячка, которая за пару недель унесла жизни тысяч горожан.
– Моей доброй мамы не стало за один день, – печально говорила Алиса. – Всё случилось на моих глазах. Батюшка в то время был в отъезде. Ох, как это было ужасно! С утра неожиданно её охватил страшный озноб, и матушку накрыли ворохом одеял. Я неимоверно испугалась, но ещё надеялась, что она просто простудилась. Но бедная маменька никак не могла согреться и прийти в себя, а сильная дрожь мешала ей говорить. Потом вдруг она потребовала, чтобы одеяла сбросили, ибо ей стало жарко-жарко. Когда служанки это сделали, то я с ужасом заметила, что её пробил сильный пот. Всё стало ясно, и я могла уповать только на Бога. Но, увы, боженька не соизволил мне помочь. Вероятно, у него было слишком много молящих, и всем он помочь был не в состоянии. Силы быстро покидали мою маму. Под вечер бедняжка заснула, чтобы… – тут Алиса запнулась, не выдержала и слезы покатились потоком из её миндальных глаз, – чтобы уже никогда не проснуться.
Ронану захотелось пожалеть девушку, и у него возникло невольно желание обнять её и погладить по шелковистым каштановым волосам. Юноша немало подивился подобным своим чувствованиям и тут же заключил, что слова девчонки его чересчур уж растрогали. А ведь ему, человеку, жаждущему отправиться в далёкое плавание, не пристало давать волю подобным умильным чувствам, рассуждал Ронан. «Что подумал бы командор, узнай он про мои порывы, более присущие изнеженным женским созданиям, нежели отважным воинам и мореплавателям», – спрашивал он себя и решил, в итоге, более строго следить за своими эмоциями и выражением лица.
Далее Алиса поведала, как убит был горем её отец, через несколько дней вернувшийся домой и не нашедший там более своей горячо любимой Изабеллы, и как не мог найти себе места в опустевшем доме – а жили они тогда на Ломбард-стрит. И Габриель Уилаби решил перебраться из старого жилища, где всё ему напоминало про покинувшую его супругу, в другое место в Лондоне. А поскольку человек он был деятельный, то уже вскоре на противоположном берегу Темзы, в Саутворке для купца Габриеля Уилаби строился новый большой и красивый дом, где они сейчас и живут.
А в этом году, по словам девушки, её отца посетила и вовсе сумасбродная мысль: узнав от своих товарищей-купцов, что готовится торговое плавание в Китай за восточными специями, он со всем пылом вознамерился присоединиться к путешествию. А когда же негоциант проведал, что его знаменитый родич собирается возглавить сие плавание, он ещё более окреп в своём решении. С тех пор сэр Хью стал частым гостем в доме своего кузена Габриеля Уилаби и с удовольствием пользовался его гостеприимством во время пребывания в Лондоне. Почтенный негоциант был счастлив дружбой с прославленным рыцарем, а ныне и командором, ведь теперь их объединяло не только родство, но и общее влечение. Выяснилось, что вести текущие дела во время своего отсутствия негоциант намерен поручить Мастеру Бернарду, а Алисе придётся стать полноправной хозяйкой в этом большом доме.
– Впрочем, мне и так уж приходится заниматься всем хозяйством, – добавила девушка с видом собственной значимости, слегка выпятив губки, а затем продолжила доверительным тоном, чуть наклонившись к юноше: – Скажу вам по секрету, Мастер Ронан, будь я на месте моего батюшки, я бы не стала слишком уж доверяться этому Бернарду.
– Отчего же, мистрис Алиса? – спросил юноша с явным интересом.
– Ну, и не знаю даже, как сказать… – ответила Алиса, интуитивно чувствовавшая странное доверие к отважному юноше. – Порой мне мнится, что он говорит одно, а в мыслях у него совсем другое. Вот давеча улыбнулся и сказал мне печальным тоном: «Ах, мистрис Алиса! Как жаль, что ваш батюшка вскорости вас покидает». Хотя сам, наверное, только рад-радёшенек этому.
– Почему же он, может быть, рад сему событию? – снова спросил Ронан, хотя в душе уже ругал себя за такое любопытство, говоря себе: «Ну что мне до этого лондонского хлыща, в конце концов?»
– Ну, во-первых, видели бы вы, как он подобострастно ведёт речи с моим отцом – само почтение и послушание, а как остаётся наедине – я несколько раз подсматривала, – его глаза становятся хищными как у волка в тёмном лесу и алчными словно у ростовщика с Ломбард-стрит. А потом… – тут Алиса вдруг запнулась и её щёчки покрылись лёгким румянцем.
Ронан понял, что становится просто неприличным дальше расспрашивать юную девушку, которая и так уже чересчур разоткровенничалась с гостем, и вкратце поведал ей о своей судьбе, упомянув, что тоже рано лишился матери и при схожих обстоятельствах. Услышав об этом Алиса, у которой ещё свежи были воспоминания, сочувственно вздохнула и посмотрела на юношу таким добрым взглядом, от которого Ронану стало почему-то очень приятно.
Но оказалось, что это было не единственное их сходство. Далее юноша посетовал, что по неким таинственным причинам впал в опалу к шотландскому регенту и вынужден теперь искать прибежища в Англии у давнего друга своего отца сэра Хью Уилаби.
– Так вы тоже подвергались гонениям на родине! – воскликнула Алиса. – Какое чудное совпадение!
– Совпадение, чудное?
– А как же! Сейчас вы в этом убедитесь. Для начала – знаете ли, как звали мою несчастную маму до замужества? Изабелла Линдзи!
– Линдзи? Так ведь это знатный шотландский род! Но как же она стала супругой вашего отца, лондонского купца Габриеля Уилаби?
– О, это долгая история. Но ежели вы желаете, Мастер Лангдэйл, я могу вкратце её рассказать.
– С большим удовольствием выслушаю вас рассказ, мистрис.
– Вот что я запомнила из её рассказов долгими вечерами, когда батюшка был в разъездах, а я оставалась её единственным слушателем. Мой дедушка приходился каким-то дальним родственником графу Крауфорду и владел небольшим поместьем в Лотиан. А знаете ли, Мастер Лангдэйл, от кого он вёл свою линию? От того самого славного Дэвида Линдзи, который победил в рыцарском турнире на Лондонском мосту!
– Ого! Кажется, Дженкин что-то толковал мне про бой между шотландским и английским рыцарями на мосту через Темзу лет двести тому назад, – сказал Ронан, – но, право слово, у меня всё уже вылетело из головы после купания в той самой реке, через которую сей мост и возведён.
– Так вот, шотландский рыцарь, который выбил из седла английского рыцаря, был мой предок по материнской линии, – гордо заявила девушка и вскинула свою прелестную головку. – У нас в роду это предание передавалось из поколения в поколение, от отца к сыну. Ну, хотя в моём случае выходит, что от матери к дочери.
– У вас в роду? – улыбнулся Ронан. – Так, к какому же семейству вы изволите себя причислять, мистрис Алиса, – к английским Уилаби или же шотландским Линдзи?
– Я… я не знаю, – нерешительно ответила девушка. – Когда, к примеру, я спорю с Дженкином, то принимаю сторону материнской линии, а когда иной раз беседую с дядюшкой Хью и слушаю его рассказы, полные героических подвигов, то я счастлива, что могу причислить себя к роду Уилаби… Впрочем, я ещё не рассказала вам историю моей матушки. Сначала мне стоит закончить рассказ про сэра Дэвида Линдзи, моего предка. Дело было так. На некоем пиру лорд Джон Уэллс стал похваляться превосходством английского рыцарства надо всеми остальными, и он так заявил присутствовавшему там шотландскому послу Дэвиду Линдзи: «Ежели вам всё ещё не известны отважные и героические деяния англичан, назначьте мне день и место поединка, и, смею вас уверить, вы с ними познакомитесь!» Сэр Дэвид Линдзи с невозмутимым видом принял вызов, и было решёно, что ристалищем будет Лондонский мост. В назначенный день рыцари встретились на Мосту. И вот два рыцаря, закованные в броню, посредине Темзы несутся навстречу другу с поднятыми наперевес древками. Представьте только, какое это было восхитительное зрелище! Когда они сошлись, то удар английского рыцаря пришёлся в голову моему предку. И этот удар был такой ужасной силы, что копьё лорда Уэллса расщепилось как соломинка. Это просто невероятно, но сэр Дэвид Линдзи только покачнулся в седле. Такая неимоверная силища моего предка удивила собравшихся на Мосту зрителей, и они завопили, что шотландец был привязан к седлу – а это против всех правил. Тогда мой предок слез с коня и заново взобрался в седло, чтоб все удостоверились в его честности. Противники разъехались и вновь смело поскакали навстречу друг другу, но ни одному не удалось поразить соперника в этой попытке. А вот в третий раз шотландский рыцарь выбил самоуверенного Уэллса из седла, причинив тому тяжёлую рану. Мой предок был благороднейшим человеком, и на следующий день он прибыл к постели раненного соперника, беспокоясь о его здоровье… Эх, как я хотела бы быть мужчиной!
В ходе этого рассказа разительная перемена произошла с девчушкой. Воспламенённая своими же речами и представляя воочию, как всё было на самом деле, Алиса стояла посреди гостиной с устремлённым в воображаемую даль взглядом. Карие глаза её восторженно горели, щёки покрылись ярким румянцем, а вытянутые вперёд руки словно указывали на отважного рыцаря. Ронан в изумлении глядел на девушку, одухотворённую воспоминаниями о своём великом предке. Так не похожа она была на кокетливую вертихвостку, встреченную им у церкви святого Олафа и затем в дверях дома.
Потом, когда пыл её несколько поутих, Алиса вдруг смутилась за проявление чересчур восторженных чувств, что не подобало девушке её возраста и положения, да ещё и перед молодым человеком, с которым она только что познакомилась.
– Ой, простите меня, Мастер Лангдэйл, – сконфуженно сказала девушка, занимая своё место на лавочке. – Я, кажется, чересчур увлеклась воспоминаниями.
– Право слово, милая Алиса, это была очень увлекательная история, – подбодрил её Ронан. – Как видно, шотландская кровь в вас порой берёт верх над английской. Мне вдали от родины лестно слышать хорошие слова о моих соотечественниках, на что, признаюсь честно, я не рассчитывал в Англии, памятуя о недавних распрях между нашими королевствами… Впрочем, вы ещё не окончили рассказ о том, как Изабелла Линдзи стала Уилаби.
– Увы, это не такая романтичная история. Скорее, даже печальная. Видите ли, мой дедушка ещё молодым по каким-то делам посетил континент, познакомился там с протестантскими проповедниками, учением Кальвина и внял слову истины. На родину он вернулся уже другим человеком и поменял всю свою жизнь. Он обратил в новую веру свою семью, пригласил в приход викария, близкого ему по духу. Как, бывало, рассказывала моя матушка, тот проповедовал на английском языке, а не на непонятной простым людям латыни, учил прихожан десяти заповедям, составил маленький катехизис для деток, прогнал прочь монахов, заявившихся в приход продавать индульгенции, и совершал прочие деяния, идущие вразрез с тогдашними церковными устоями в королевстве Шотландии. Дедушка всячески поощрял этого викария и, по словам моей маменьки, давал ему тайком деньги и еду, которые священник раздавал бедным. Одним словом, викарий читал людям Евангелие и учил слову истины. Вскоре об этом стало ведомо ревнивым священникам по соседству, а от них и епископу. Он вызвал викария к себе и пытался его вразумить. Когда же тот остался непреклонен, его поначалу отпустили в приход. Но вскоре явились стражники и схватили бедного викария. Мой дед пытался было защитить священника, но получил удар алебардой – слава богу, не смертельный, – и упал. А викария отвели в Эдинбург, и через день суд признал его еретиком-богоотступником и приговорил к смертной казни. В тот же день нашего приходского священника сожгли на костре в Эдинбурге. В те дни паписты подобным же образом расправились с другими ревнителями истиной веры. Причём среди них были и священники, и простолюдины, и даже джентльмены. К несчастью как раз в это время граф Крауфорд, предводитель клана Линдзи, впал в немилость к королю. Тучи стали сгущаться над головой дедушки, потому как всем были известны его убеждения. Он не стал испытывать судьбу и, решив, что не подходит на роль страстотерпца, и ради своей семьи вместе с ней бежал через Немецкое море во Фландрию. На вырученные от продажи поместья деньги два его сына основали торговую контору. У них была младшая сестра Изабелла. И случилось так, что торговые дела свели вмести её братьев и молодого английского купца Габриеля Уилаби… Вот так всё и произошло. Я была единственным ребёнком в семье и теперь, увы, так им и останусь.
Последние её слова были пронизаны такой большой печалью, что вся решимость Ронана не поддаваться сентиментальным чувствам враз куда-то исчезла, и его взор вновь наполнился нежностью и лаской. Как не походила последняя часть рассказа Алисы на предыдущую, удивлялся юноша. Вместо пламенного оратора, повествующего о подвигах и славных деяниях своих предков, перед ним теперь предстала бледная девчушка, рассказывавшая о непростой судьбе своих близких. По всему чувствовалось, что в своём внимательном и доброжелательном собеседнике, с которым у них к тому же оказалось так много общего и который внушал ей полное доверие, девушка нашла вдруг человека, с которым готова был поделиться всеми своими печалями и радостями. Ну разве мог наш герой воспротивиться дальнейшему разговору с такой очаровательной собеседницей!
По словам её дочери, Изабелла Уилаби, а девичестве Линдзи, была красивой и гордой женщиной. Она много времени проводила с Алисой, рассказывая ей о своих славных предках. В отличие от мужа, который хоть и тоже вышел из знатного дворянского рода, но примкнув по необходимости к сословию купцов и разбогатев благодаря своей предприимчивости, стал в последствие относиться с явным пренебрежением к дворянам, живущим в лености на свои доходы от поместий, предпочитая им людей хватких и деловитых, – так вот, в отличие от него Изабелла очень гордилась своим происхождением, что, очевидно, присуще было всякому без исключения её соотечественнику. Из дальнейшего рассказа Алисы явствовало, что между её родителями были некоторые разногласия, касательно будущности их дочери. Если Изабелла считала, что происхождение и внешние качества Алисы позволяют ей стать женой знатного аристократа, то Габриель Уилаби полагал, что если Господь не пошлёт им наследника, то его дочь должна будет выйти замуж за человека, способного и могущего продолжить начатое купцом дело, и неважно кто он будет – дворянин или из простого сословия. Ронан тут же вспомнил их первый разговор в дверях дома и у него не возникло сомнений, какой вариант предпочла бы сама девушка, воспитанная на рассказах о героическом прошлом своих родоначальников.
«Похоже, моё первое впечатление об этой мистрис было ошибочным, – думал Ронан с улыбкой на лице, глядя на свою новую знакомую. – Эта девушка с таким достоинством рассказывает о своих благородных предках и родословной, как будто она не дочка богатого английского купца, а наследник гордого шотландского барона. И рассуждает не как девочка-подросток, а будто важная леди. Впрочем, она все равно ещё почти ребёнок, хотя и ведёт себя как взрослая». В итоге, в конце разговора Ронан чувствовал, как будто знал эту девушку уже давным-давно и между ними с незапамятных времён установились самые дружеские отношения.
– А знаете что, Ронан? – воскликнула девушка, впервые назвавшая юношу по имени, чего она даже не заметила. – Давайте устроим для дядюшки Хью неожиданный сюрприз!
И Алиса рассказала Ронану, что ей пришло в голову. В это время в гостиную как раз вошёл её отец, только что отпустивший Мастера Бернарда. Дочь подошла к нему и с хитрой улыбкой на лице что-то прошептала. Купец ухмыльнулся, взял под руку Ронана и увёл его с собой…
Примерно через час командор вместе с Гудинафом сошли с лодки на причале около Лондонского моста, напротив бывшего женского монастыря святой Марии Оверской. Уилаби бросил сумрачный взгляд на последний пролёт моста и тяжело вздохнул. Даже за ежедневными заботами, встречами с моряками и купцами, участниками скорого плавания у него не выходил из головы несчастный юноша. Молча он шёл к дому Габриеля Уилаби. Дженкин чувствовал себя отчасти виноватым в случившемся, а потому был предельно услужлив и внимателен к своему господину, ловя каждый его взгляд и пытаясь предугадать желание своего повелителя.
Дверь дома им как обычно открыл старый Гриффин, необычным был только его сияющий и торжественный вид. Сэр Хью, позади которого держался его слуга, прошёл в гостиный зал, чтобы поприветствовать кузена и племянницу, которых он ещё не видел в этот день, так как спозаранку оставил дом. Отец и дочь были в комнате и, похоже, поджидали своего знатного родича. Негоциант, как всегда, смотрел своим уверенным и чуть снисходительным взглядом. Однако, на лице Алисы играла озорная улыбка, которую она безуспешно пыталась спрятать. Увидев подобную бестактность юницы, Дженкин нахмурился и сделал ей предостерегающий взгляд глазами, который, впрочем, не оказал никакого воздействия на Алису.
После взаимных приветствий, Габриель Уилаби невозмутимым, но мягким тоном сообщил родичу, что, видя, как мрачен в последние дни сэр Хью, они с дочерью вознамерились преподнести ему нежданный сюрприз, который ожидает его в кабинете негоцианта и должен несколько приободрить командора.
– Говоря по правде, мой дорогой Габриель, – с некоторым удивлением ответил командор, – настроение моё далеко не радужное по известной вам причине. Но я все равно благодарен вам с Алисой за желание поддержать мой дух. Что ж, пойду гляну, чем вы соизволили меня удивить.
Тут из-за спины командора выступил ретивый Дженкин и заявил:
– Ваша милость, полагаю, вам незачем лишний раз карабкаться по крутой лестнице, тем более, когда рядом есть верный слуга. Позвольте, я сам схожу за подарком.
Никто не успел и слова сказать, как усердный Дженкин проворно взбежал по лестнице. Дочь с отцом переглянулись, обескураженные тем, что чересчур рьяный Гудинаф, похоже, испортил всю неожиданную радость «сюрприза»…
После недолгого ожидания снова показался Дженкин. Однако, поведение его было весьма странно. Он медленно пятился назад, губы его что-то бесшумно шептали, а напряжённый взгляд был устремлён в коридор позади себя. Когда ординарец спустился с лестницы, то сказал побелевшими губами:
– Мы, ваша милость, не один год сражались с жестокими шотландцами, и у вас не было повода упрекнуть меня в трусости. Но иметь дело с их мстительными призраками – боже упаси!
Командор, ничего не понимая, изумлённо посмотрел на своего слугу и воскликнул:
– Да будь там хоть сам дьявол, ничто не устрашит меня! – Потом взглянул на довольные лица кузена и Алисы и сердито добавил: – Да что за шутки вы со мной изволите разыгрывать!
Вслед за тем сэр Хью, убедившись на всякий случай, что его меч всё ещё висит на перевязи, с решительным видом направился к лестнице, поднялся по ней и скрылся в коридоре второго этажа. Вступив в кабинет негоцианта, он увидел посреди комнаты стройного юношу, стоявшего с поднятой головой и торжественно опиравшегося на свой меч. И этот юноша был один в один похож на недавно погибшего Ронана! Изумлению сэра Хью не было предела, и некоторое время он молча взирал на молодого человека.
– Мои глаза говорят, что передо мной стоит сын моего шотландского друга, – молвил, наконец, командор, когда снова обрёл дар речи. – Но мой рассудок подсказывает, что мертвецы в наше время не воскресают.
– Ну что ж, значит, я буду первым воскресшим! – весело сказал Ронан. – Если изволите, сэр Уилаби, можете меня потрогать и убедиться, что перед вами не кто иной, как Ронан Лангдэйл, живьём и во плоти.
Командор подошёл к юноше и обеими руками схватил того за плечи, всё ещё опасаясь, что его руки пройдут сквозь воздух – так неправдоподобно было видеть здесь человека, на его глазах сгинувшего в холодной ночной Темзе. Но руки командора почувствовали под одеждой упругие молодые мышцы. Он ещё крепче обнял юношу – по большей части для того, чтобы тот не видел предательски выступившую у него на глазах влагу…
После короткой, радостной беседы, в которой юный шотландец в двух словах объяснил, что с ним приключилось и почему он не мог дать о себе знать, Хью Уилаби и Ронан спустились в гостиный зал, где уже вовсю суетились слуги, уставляя стол всевозможными яствами.
Глава XXXIV
Ричард Ченслер
Торжественный ужин или, как его назвал негоциант, пир прошёл более весело и непринуждённо, нежели обед, во многом благодаря отличному настроению командора и прекрасному рейнвейну. Сэр Хью шутил с Алисой, в которой он просто души не чаял, а любопытный Ронан расспрашивал Габриеля Уилаби о торговых его связях и землях, куда ходят его корабли. На кухне, где для слуг также был устроен праздничный ужин, Дженкин, то ли от радости облегчённой совести, то ли из желания скорее забыть о проявленном им малодушии при встрече с «призраком», слегка переусердствовал с вином и прямо на кухне и заснул…
Следующим утром между командором и Ронаном состоялся примечательный разговор. Сэр Хью надеялся, что у юноши после знакомства с холодной речной водой пропало желание пускаться в плавание по ещё более ледяным северным морям. И Уилаби как бы невзначай поинтересовался у молодого шотландца, когда тот будет готов к тому, чтобы быть представленным придворным учёным. Ронан этому вопросу неприятно удивился и ответил, что, напротив, он ожидает, когда сэру Хью будет угодно поговорить со штурманом Ричардом Ченслером о его, Ронана, желании стать участником плавания – ведь именно на этом они сошлись несколько дней назад. Подобным образом командор ещё раз убедился в неугасимой решимости (или, может быть, в необоримом упрямстве) своего подопечного, а поскольку, как опытный солдат, он не любил всякого рода неопределённостей и предпочитал иметь перед собой чёткую диспозицию, то в тот же день посетил Ченслера, который и согласился назавтра встретиться с настырным молодым человеком.
Когда Ронан узнал о скорой встрече с навигатором, то мучаемый беспокойством с одной стороны и терзаемый любопытством с другой, он отправился на поиски Гудинафа, которого застал во дворе натиравшим песком доспехи своего господина и напевавшем под нос какую-то песенку.
– Наплечники сэра Хью блестят уже, словно морские волны под ярким солнцем, а в кирасу можно смотреться, будто в зеркало, – сказал подошедший юноша. – Дженкин, я уже давно заметил, что вам ведомо всё в этом городе. А уж коли это касается вашего господина, то вы, наверняка, должны быть вдвойне просвещены. Видите ли, назавтра мне уготована встреча с мореходом Ричардом Ченслером, и мне не терпится выведать ещё что-нибудь об этом человеке кроме его имени. На вас у меня единственная надежда, ибо своими бесконечными расспросами я не осмеливаюсь более докучать сэру Хью, словно облюбовавшая его шикарные усы назойливая муха.
Ординарец давно заприметил сильную симпатию, испытываемую его господином к молодому шотландцу, к тому же он чувствовал себя отчасти виноватым в последних злоключениях юноши. А потому он только обрадовался, что может чем-то услужить Ронану Лангдэйлу, и охотно взялся выложить всё, что знал про Ченслера. Правда, из-за приподнятого настроения ему трудно было избежать свойственного ему смешливо-ироничных замечаний.
– Разумеется, ваша милость, все мои сведения к вашим услугам. А моя осведомлённость, смею вас заверить, даже богаче, нежели у самого сэра Хью, потому как он общается со знатными людьми, а я – с их слугами, которые знают, смею вас уверить, гораздо больше о делах своих господ, нежели они сами. А у меня огромное число друзей и родственников моих знакомых, а также знакомых моих друзей и родственников, да и самих родственников хватает – среди челяди многих знатных домов и дворцов в Лондоне и его окрестностях, включая Уайт-холл, Виндзор и Гринвич. Ведь я родился в семье смотрителя королевских парков. Послушали бы вы, о чём толкуют в служилых комнатах и кордегардиях – да обо всём на свете, начиная от пикантных подробностей жизни фрейлин и их госпож и заканчивая рассуждениями о правильности толкования Святого писания… Ну, так вот, Ричард Ченслер – на глазок малый одного со мной возраста и сложения, правда, другого поля ягодка. Если я доблестно посвятил свои молодые годы службе сэру Хью – а вместе с ним и Англии, – проведя их на полях сражений и подвергаясь страшным опасностям, то Ченслер потратил их на беззаботные морские прогулки к берегам Европы. Ну, скажите на милость, разве ж спор с морскими волнами и ветрами трудней и опасней будет, чем сражения со злобными шотландцами? – не в обиду вам будет сказано.
– В войне каждая сторона считает себя правой, дорогой Дженкин. И, не примерив на себя куртку моряка, я не стал бы так превратно судить об их доле, – возразил Ронан.
– Ну, это как сказать. Должно быть, сэр, вы побывали в стольких передрягах и побоищах, что не мне и спорить, – ответил Гудинаф с ехидной улыбкой.
– Послушайте, Дженкин, я в самых смелых своих мечтах не могу и представить, чтобы поспорить когда-нибудь с вами в воинской доблести. Но если вы намереваетесь возносить хулу на ремесло моряка, коим я собираюсь вскорости овладеть, то в свою очередь я готов с мечом в руках проверить ваше мастерство фехтования.
– Ох, простите, ваша милость, если я позволил себе лишнего сказануть, – спохватился ординарец. – Такая уж у меня натура ворчливая. Видно, старею уже.
– Так что же Ченслер?
– Ну, вот, – продолжил Гудинаф, – синьор Кабото – я слышал, как по дороге в Лондон мой господин рассказывал вам об этом старичке-итальянце, – принялся за поиски кормчего для своего плавания, который бы чувствовал себя в безбрежном океане примерно так же, как я в лабиринтах лондонских улочек. Кабото перезнакомился со всеми английскими командорами и судовладельцами. И вот один из них – некто Мастер Боденхем, если мне не изменяет память, – порекомендовал ему бристольского морячка по имени Ричард Ченслер. По словам капитана этот Ченслер проявил завидные штурманские навыки и неплохо себя показал во время плавания к берегам далёкой Ливадии (Эх, в эти райские места я бы тоже не прочь сплавать!) Сего моряка пригласили в Лондон, и покровительство над ним, словно над малым дитём, взял на себя сэр Генри Сидни, подельник Кабота.
– Генри Сидни? А как далёко, интересно, простирается твоя осведомлённость об этом рыцаре, Дженкин? – поинтересовался Ронан, начинавший уже привыкать к язвительности своего собеседника.
– Рыцарь! Сколь мне ведомо, этим званием доблестный кавалер был награждён за потешные сражения с юным королём, – заметил ординарец. – Отец этого сэра Генри долгое время был сенешалем при дворе Эдварда, а сынок вместе с другими сановничими детками развлекал тем временем младого короля, за что впоследствии и удостоился рыцарских шпор. Недавно вот старина сенешаль отправился на покой в пожалованное ему королём поместье где-то в Кенте, а сына нынче считают лучшим королевским дружком. Немудрено, что даже всемогущий Нортумберленд был не прочь отдать свою дочку в жёны этому богатому и влиятельному вельможе.
Это было всё, что Ронан сумел добиться от Дженкина. Волнение и ожидание предстоящей встречи заставили юношу быстро забыть сарказм ординарца. Ему представлялся бравый моряк, облачённый в толстую куртку и широкие кожаные штаны, с обветренным и загорелым мужественным лицом и с огромной густой бородой…
И вот настал этот волнительный день, когда должна была решиться судьба юноши. Ронан и его благодетель сели в лодку на причале около Лондонского моста. Дженкина с командором в этот раз не было: он бы отправлен с каким-то поручением в другое место. Уилаби велел лодочнику грести к замку Байнард. Они наискосок пересекли Темзу, и приблизились к тому месту, над которым высился собор святого Павла, шпиль которого Ронан когда-то сравнил с мачтой гигантского корабля. Вдоль берега стояли дома, церкви, причалы. Из всех этих сооружений выделялось величественное здание красивого дворца, стены которого и башни, словно каменные утёсы, взметнулись прямо из воды. Поднимаемые ветром лёгкие волны бились о тёмные камни дворца, а узкие решётчатые окна пустыми глазницами глядели на проплывающие мимо лодки и ялики.
– Это и есть цель нашего сегодняшнего путешествия – королевский замок Байнард, – сказал командор. – Ныне он находится в распоряжении графа Пемброука, за исключением лишь левого крыла, которое занимает Генри Сидни, и здесь же проживает Ченслер.
Лодка пристала к высокому каменному причалу, ведшему прямо во дворец. У причала стояло несколько больших разукрашенных лодок. Привратник услужливо открыл дверь перед сэром Хью. Гости долго шли по длинным переходам и коридорам, пока не оказались перед широкой лестницей. Как раз в этот момент сверху по ней сходил некий вельможа в богатом одеянии. Из-под тонких бровей смотрели большие умные глаза, узкое лицо было бледно и спокойно. В руках у него были какие-то фолианты с видневшимися меж страниц цветными закладками. Командор почтительно поклонился, Ронан последовал его примеру.
– О, сэр Уилаби! – приветственно сказал сановник. – Вы, должно быть, идёте к Ричарду обсуждать детали вашего предприятия. Ну что ж, на сегодня он уже свободен от занятий, и я с удовольствием уступаю его вашим заботам. По правде говоря, Ченслер оказался на удивление весьма прилежным учеником, и я вынужден признать, что уже исчерпал запас моих скромных познаний, которыми я должен был поделиться с оным мореходом в соответствии с обещаниями его величеству. Надеюсь, Ди в нём также не разочаруется. А кто этот молодой человек с вами, позволю спросить?
– Это сын одного отважного рыцаря, моего друга с севера, коему я обязан жизнью, – ответил Уилаби. – Видите ли, сэр Чеке, у юноши прекрасные способности к наукам, но он просто бредит морскими приключениями. Вот я и взялся познакомить его с Ченслером, чтобы тот, как бывалый моряк, разбил романтические мечты мечом суровой правды о морском бытие.
– Смею заметить, – заявил вдруг Ронан, – что в исполнении этой задумки у морехода будет мало шансов.
– Вот видите, сэр, какой он упрямый и самоуверенный, – со снисходительной улыбкой сказал командор.
– Ну что ж, – ответил вельможа, – стучитесь и отворят вам, как сказано в евангелии. А пока же разрешите откланяться, ибо сегодня у меня ещё урок с Эдвардом по греческому языку касательно ... – и тут сановник произнёс некие слова, вероятно, на этом самом языке.
– Прошу прощения, сэр Джон, но я ещё не научился понимать птичьи языки, – сказал с улыбкой Уилаби. – Мне более привычна речь пушечных выстрелов и звона мечей.
– Деепричастный оборот это…, – неожиданно произнёс Ронан и продолжил на том же странном загадочном наречии.
– Ну вот, и мальчишка тоже зачирикал равно воробей, – проворчал Уилаби, когда его подопечный наконец-то замолк.
Вельможа с интересом посмотрел на юношу и сказал:
– А знаете, сэр Хью, буде сей молодой человек не устоит перед доводами Ричарда, я готов пристроить его к научным занятиям, в зависимости от его образованности, которая, как мне кажется, достойна всяческих похвал…
– Кто этот вельможа? – спросил Ронан у командора, когда они распростились с сэром Джоном и поднялись по лестнице.
– Учёнейший человек, личный наставник и учитель его величества Эдварда Тюдора – сэр Джон Чеке, – ответил Уилаби. – Рыцарь и член парламента. Такого высокого положения в обществе ему удалось добиться во многом благодаря своей исключительной образованности. А ведь родился-то он в семье простого университетского педеля, но об этом ныне никто уже не вспоминает. Будь я на твоём месте, юноша, я бы поразмышлял о его предложении, коли уж всё так удачно складывается.
Ронан промолчал, и вскоре они вошли в просторную комнату, где за массивным дубовым столом с разложенными на нём книгами, перьями и листами бумаги сидел человек, подперев голову руками. Он поднялся навстречу вошедшим, улыбнулся и протянул руку сэру Хью.
– Рад приветствовать вас, командор. А это должно статься тот самый юный джентльмен, грезящий о морском плавании… Да к чему спрашивать, стоит лишь взглянуть на его глаза, искрящиеся, точно огни святого Эльма, – бодрым голосом произнёс Ченслер, ибо это был именно он.
Навигатор вовсе не был похож на тот образ, как его рисовал себе Ронан. Простое приветливое лицо, спрятанная в аккуратной бородке улыбка и жизнерадостный голос, пожалуй, могли обмануть наблюдателя и заставить его принять их обладателя за добродушного и свойского человека мирных и спокойных занятий. Но если присмотреться внимательнее, то можно было бы заметить твёрдый взгляд уверенного в себе человека и складку на переносице, говорившую о частых серьёзных раздумьях и сосредоточенности, а за весёлым блеском глаз угадать трезвый ум и природную расчётливость. Одежда на нём была весьма неплохая, ничуть не напоминавшая одеяние моряка. Жакет из чёрного сержа был одет поверх бархатного тёмно-синего вельветового камзола, на узком поясе с серебряной пряжкой висел кинжал с рукояткой в виде морской нимфы, на плечи был наброшен свободно спадающий плащ, ноги были облачены в чёрные чулки и короткие вельветовые панталоны. Однако, чувствовалось, что одежда, которую полагалось носить непринуждённо и с достоинством, всё ещё несколько сковывает движения кормчего, привыкшего, надо полагать, к более скромному, но практичному одеянию.
– Чеке хвалил тебя, Ричард, – в качестве приветствия сказал командор. – Надеюсь, мэтр Ди будет того же мнения. А вот ещё один знаток наук и птичьих языков по имени Ронан Лангдэйл. Впрочем, и мечом он владеет не хуже римского гладиатора, – и Уилаби повернулся к юноше.
– Ну, так, поведайте скромному моряку, где же вы обучились всем этим премудростям, сэр? – спросил Ченслер у юного шотландца.
– Воинскому мастерству меня учил один старый вояка, а кое-что рассказывал мой отец, – ответил Ронан, - который…
– Да нет же, Мастер Лангдэйл, – прервал его навигатор. – О вашем искусстве владеть оружием пусть судит сэр Хью. Уж в этой-то науке ему нет равных, клянусь всеми сторонами света! А я же всего лишь простой мореход и намерен иметь представление о ваших познаниях и умениях, применимых в плавании.
Юноша подробно рассказал, чему он выучился у мудрого Лазариуса, искушённого во множестве наук.
Навигатор внимательно выслушал Ронана и, когда тот закончил, сказал с пытливой улыбкой:
– Ну, хорошо, Мастер Лангдэйл. Позвольте же проверить вашу смышлёность. Вот только что я простился с сэром Чеке, который давеча задал мне такую, надо сказать, довольно-таки простую головоломку: «сколько внутри кольца шириной в одну милю возможно поместить кругов шириной по сто футов?» И как же, интересно, вы решите эту задачу?
– Скажу, что есть оплошность в условиях сей задачи, сэр, – после краткого раздумья ответил Ронан. – Дабы соотнести милю и фут, долженствует знать, сколько футов в упомянутой миле. К примеру, в Шотландии миля длиннее, чем в Англии. А как я слышал, морская миля опять же разнится от мили на суше.
– Хм, а я об этом, признаюсь, как-то и не подумал, – сказал Ченслер и добавил с хитрым огоньком в глазах: – Ну да ладно, пусть эта будет сухопутная миля, равная восьми фарлонгам, или… пяти тысячам двумстам восьмидесяти футам. Что скажете?
Ронан ответил, что ему потребуется время, бумага и перо с чернилами. Навигатор указал ему на свой табурет у стола, а сам вместе с Уилаби отошёл к окну, у которого на тумбе стоял диковинный по тем временам предмет – глобус. Большой шар больше фута в диаметре, покрытый изображениями земель и морей, был вставлен внутрь широкого деревянного кольца из красного дерева, которое поддерживали четыре изящно вырезанные деревянные ножки. Вертикально глобус огибало ещё одно тонкое кольцо из позолоченной бронзы.
– Что это за чудный шар, дорогой Ричард? – спросил командор, осматривая глобус, освещённый ярким дневным светом, струившимся из сводчатой амбразуры окна.
– Видите ли, сэр Уилаби, это terrae globus66 в миниатюре. Работа известного мастера по морским инструментам и составителя карт Геммы Фризиуса. Недавно сей глобус украшал покои самого короля. По словам сэра Сидни, их у его величества ещё с полдюжины. И вот из своей коллекции глобусов король великодушно прислал мне один – на благо всего нашего предприятия. Должно быть, по совету Генри – вы ведь знаете, как они близки с его величеством.
Ченслер неспешно повернул глобус, нашёл на нём точку и сказал командору:
– Вот смотрите, сэр, здесь находится Лондон. А вот Нидерланды, Дания, Германские княжества, Польша, Пруссия, Ливония, Шведское королевство. Но нам там делать нечего: ганзейские корабли избороздили эти воды вдоль и поперёк. Мы же выйдем из Темзы и возьмём курс на норд, дабы пересечь Немецкое море и приблизиться к норвежским берегам. Вдоль них мы пойдём на норд-ост, покуда не достигнем самой северной оконечности Европы. А далее начинаются малоизведанные места, куда ни купеческие, ни военные корабли покуда не заглядывали. По словам бывалых капитанов, в тех водах промышляют лишь местные рыбаки на утлых своих ладьях. Так что, сэр, нам выпала великая честь быть первопроходцами.
– Скажи, дорогой Ченслер, а почему же на этом terrae globus начертаны контуры земель, раз там ещё не были европейские мореплаватели, – поинтересовался Уилаби.
– Мне думается, командор, что Фризиус полагался на грубые моряцкие карты, сделанные со слов северных рыбаков. Вот видите, сразу же после этого северного мыса берег уходит на зюйд-ост и образует огромный залив с узким горлышком, словно у кувшина. Что лежит дальше на восток за этим «кувшином», не ведают даже норвежские рыбаки.
Пока командор и навигатор готовящегося плавания так разговаривали между собой, вращали глобус, рассматривали изображённые на нём земли и моря и обсуждали свои планы, Ронан полностью погрузился в мудрёные расчёты. За час он исписал не один лист бумаги. Непонятные формулы из заковыристых значков перемежались у него с причудливыми рисунками кругов, треугольников, стрелок и дуг. Юноше казалось, что от успешности решения этой задачи зависит участие его в плавании и вся судьба. Он сразу понял, что головоломка была непростая, и яростно бросился её штурмовать. От волнения и умственного напряжения обычно бледное лицо его покраснело, на лбу выступил пот. Однако, решение никак не давалось. Ронан пытался идти по различным путям: то он высчитывал площади кругов и пустых промежутков между малыми кругами, то, вдруг столкнувшись с какой-то неразрешимой проблемой, начинал считать, сколько колец получится, если круги выкладывать, начиная с центра, то наоборот, начинал выкладывать круги вдоль внешней окружности и так двигался в сторону центра…
Наконец, где-то через час Ченслер вспомнил про юношу, повернулся и, тщетно пытаясь скрыть насмешку, спросил:
– Ну, чем вы можете похвастаться, молодой человек?
Но Ронан не услышал вопроса – так он был поглощён своими расчётами. Тогда Уилаби подошёл к столу, взглянул через плечо юноши и увидел листки бумаги, испещрённые непонятными знаками и символами. Он положил руку на плечо юного шотландца, и только тогда Ронан поднял голову. Уразумев, что навигатор ждёт от него ответа, юноша сконфуженно сказал:
– Сэр, я очень удивлён, что вы назвали эту головоломку простой. Я пробовал несколько способов решения, каждый из которых требует глубоких познаний в математике. Но точной разгадки, увы, я назвать пока ещё не в силах.
– Очень досадно, сэр Хью, что ваш подопечный не может справиться со столь несложным вопросом, – молвил навигатор с хитрой улыбкой, которую он прятал в своей аккуратной бородке. – А вот, по словам сэра Чеке, король Эдвард уже в одиннадцатилетнем возрасте дал приемлемый ответ.
– Неужели его величество столь силён в математике? – изумился Уилаби.
– Я полагаю, – ответил Ченслер, – что благодаря своему умнейшему наставнику и учителю сэру Чеке, наш юный король должно быть силён не только лишь в математике, но и во многих прочих науках.
– Так позвольте мне спросить, – удручённо молвил Ронан, понуро опустив голову, – каково же решение задачи, с которой мальчик, хоть и король, справился быстрее взрослого школяра, наторелого в учениях.
– А не подмечали ли вы, что дети порой оказываются смышлёней взрослых? – вопросом ответил Ченслер и торжественно продолжил: – Одиннадцатилетний король ответил сэру Чеке такими словами: «Надлежит приказать слугам выкопать в саду круг, уменьшенный в тысячу раз, с углублением в два дюйма. Далее столяры пусть вырежут три сотни деревянных кружков, уменьшенных в таком же соотношении. А после этого мы попросим нашего дядю герцога Сомерсета разместить как можно больше кругляков в этой выемке. Так мы и узнаем точное количество малых кругов, которое можно поместить в большую окружность… Если, конечно, лорд-протектор будет усердствовать в оном деле, как я – в своих уроках». Ну, как вам такое решение?
Уилаби плотно сжал губы, чтобы не расхохотаться. Навигатор уже не прятал своей улыбки. А Ронан растерянно смотрел то на одного, то на другого.
– Но это же… – начал, было, юноша.
– … и есть самое простое и быстрое решение! – продолжил моряк. – К тому же остроумное и по-настоящему королевское! К чему ломать голову и идти против ветра, ежели быстрее всё сделать руками, да к тому же чужими, а? Впрочем, благородный юноша, относитесь к этому как к маленькой шутке, но помните, что во всякой шутке есть толика серьёзности. Акула тоже заглатывает наживу, радуясь подарку фортуны, а заканчивает со вспоротым брюхом.
– Извините, сэр, но мне невдомёк, к чему вы клоните, – сказал настороженно Ронан.
– Сдаётся мне, Ронан Лангдэйл, – продолжил навигатор уже серьёзным тоном, – что вы, подобно той акуле, проглотили крючок с насаженными на него наживками под названиями Любопытство, Мечтательность, Наивность и Легкомыслие… Ну, скажите на милость, какого дьявола вам приспичило уйти в море на много месяцев, а может статься и лет, лишиться твёрдой почвы под ногами и постоянно чувствовать под собой бездонную океанскую пучину, стремящуюся поглотить вас вместе с кораблём, мучиться от морской болезни и несварения желудка, недосыпать и недоедать, стынуть под неистовыми ветрами и насквозь промокать под шквалом волн?
Ченслер смотрел на юношу спокойным и чуть насмешливым взглядом. Лицо командора, напротив, было серьёзным и сосредоточенным. Ронан выждал несколько секунд, не отводя глаз от лица моряка, и затем произнёс, твёрдо и страстно:
– Вполне может статься, что мне присущи те чувства, которые вы, сэр, сравнили с наживками. Но разве не любопытство заставляет людей открывать новые законы природы и исследовать неизвестные моря и земли? Разве не мечты о плодах будущих открытий поддерживают первооткрывателей во времена трудностей и лишений? А детская наивность, как следует из вашего же примера, позволила быстрей и проще справиться с задачкой. Что же касается легкомыслия, то для ленивых людей это оправдание их праздности, а для деятельных и целеустремлённых это всего лишь прикрытие от всяческих глупцов и злопыхателей.
– Ого! Выражаетесь вы, юноша, красиво, ничего не скажешь, – произнёс навигатор, слегка удивлённый таким ответом. – Мне сэр Хью уже толковал про ваш безудержный пыл. Но вы ведь должны разуметь о препонах, которые мешают сбыться вашей прихоти. Во-первых, вы и понятия не имеете о морском деле, вы даже ни разу не выходили в море. К тому же вы – джентльмен, а назначить вас на сколь-нибудь командную должность немыслимо по причине отсутствия у вас морских навыков…
На этих словах Ченслер вдруг осёкся и настороженно посмотрел на командора: тот ведь тоже не был моряком! Но Уилаби предпочёл не обратить внимания на оплошность морехода и со степенным и суровым взглядом ждал, чем кончится дело.
– А ежели вас взять простым матросом, – продолжил Ченслер, решив нарисовать все «прелести» морской жизни, – то вам придётся раз и навсегда забыть о своём благородном происхождении, ну, по крайней мере, на время плавания. И как вы, привыкший к почтительному обхождению, будете терпеть приказы людей из низшего сословия и команды, отдаваемые таким грубым языком, по сравнению с которым базарная ругань – просто райское пение? А сможете ли вы, сэр, ночевать вместе со всеми матросами в одном корабельном помещении – тесном, душном и пропахшем смрадными запахами, принимать с ними за одним столом одинаковую пищу, которая зачастую не сильно отличается от тех отбросов, которыми кормят собак на задворках лондонских домов? А готовы ли вы променять белоснежную рубашку и расшитый шёлком камзол на исподнее из простого сукна и грубую матросскую куртку? Морская соль постепенно будет разъедать вам лицо и руки, как ржа точит железо. Я уж не говорю про неимоверно тяжёлую работу на борту корабля, оставляющую кровавые мозоли на ладонях и до боли сводящую все мышцы. Неужели вы намереваетесь оставить блаженное бытие на суше – в довольстве, тепле и уважении, и променять его на полную тягот и лишений жизнь рядового моряка? Клянусь всем посейдоновым царством, мне ещё не приходилось видать подобного сумасбродства!
Под таким натиском вполне разумных доводов и описаний страшных лишений любой здравомыслящий человек остановил бы свой выбор на более комфортном варианте. Под шквалом возможных бедствий и опасностей, которые обрушил на него навигатор, Ронан стоял бледный и удручённый – но не из-за того, что его испугала нарисованная перед ним картина, а потому, что он ощущал явное, казалось, нежелание Ченслера брать его в своё плавание. К чести юного шотландца он не опустил голову и не отвёл взгляда от строгого лица моряка. Бледными от волнения губами Ронан сказал:
– Вы заблуждаетесь, сэр, если считаете, что я не обдумывал уже все те лишения, тяготы и опасности, которыми вы изволили меня страшить, словно маленькое дитя. Клянусь небом, я не ищу почести и славы, но также и не намереваюсь уподобляться тысячам дворян, чьё единственное стремление в жизни это собственное благополучие и процветание. Меня не прельщает пустить побеги, как юная осинка, и всю жизнь провести в уютном гнёздышке родового поместья, равно как и противно мне проливать кровь подобных мне только за то, что они вассалы другого короля, принца или герцога… Ведь вселенная – такая огромная штука, а мироздание – столь загадочно! Так, что может быть лучше, чем разгадывать тайны бытия и одновременно наслаждаться его великолепием, открывать неизведанные моря и земли и лицезреть всю их красоту? Эх, жаль, право слово, что вы принимаете меня за изнеженного дворянского сыночка.
– Чёрт побери, ну и норов у вашего подопечного, сэр Хью! – воскликнул моряк, начавший уже выходить из себя из-за такой невиданной настырности.
– Вот видишь, дорогой капитан! – молвил Уилаби. – Я же говорил тебе, что все мои доводы и вразумления разбились о шотландское упрямство сего юнца, как морские волны разбивались о нос твоего корабля. Я тешил себя надеждой, что у тебя-то, право, хватит слов растолковать своенравному мальчишке, что к чему. Но, видно, понапрасну…
Ченслер задумался и хранил молчание с четверть часа. Наконец он молвил:
– Командор, пожалуй, я возьму этого юношу в плавание ... ежели его пыл не остынет через пару месяцев.
– Эге, Ричард, что же, значит, ты тоже не устоял перед его настырностью! – подивился Уилаби.
Навигатор на это только ухмыльнулся и произнёс:
– По рассказам Кабото, в северных водах иногда можно встретить дрейфующий по течению огромный кусок льда, ну просто целую гору, которая так и зовётся – айсберг. Чем дольше такая ледяная громадина плывёт по океану, тем меньше становится в размере по причине истаивания. Посмотрим же, как долго айсберг пылкости нашего молодчика продержится в холодном потоке времени.
– Смею вас уверить, айсберг моего стремления состоит не изо льда! – воскликнул в эйфории Ронан, готовый просто взлететь от счастья после обещания навигатора взять его в плавание. – Он сотворён из прочного гранита, неподвластного течению времени подобно египетским пирамидам!
– Ну, ну. Время покажет, – заявил Ченслер. – Но попомни мои слова, Ронан Лангдэйл. Даже если твердокаменное упорство не оставит тебя, и ты выйдешь с нами в море, то – клянусь всеми тридцатью двумя румбами! – через пару недель постоянная качка и свист ветра в снастях сведут тебя с ума, а матросская пища будет вызывать омерзение, ты будешь дрожать от страха при каждом шторме, боясь, что следующая волна увлечёт корабль за собой в морскую пучину, и каждую минуту ты будешь проклинать тот день, когда твою голову посетила эта бредовая идея – выйти в море!
На самом деле бывалый мореход, если вкратце, рассудил довольно практично: «В лице этого молодчика компания приобретает, во-первых, пару крепких рук и ног, а в придачу ещё и неглупую голову, знающую толк в астрономии и иноземных языках, что весьма полезно для нашего плавания. А ежели подучить его вдобавок и навигации, то глядишь, ещё и неплохой помощник из него выйдет».
– Мы зачислим тебя, – строгим тоном продолжил Ченслер, – на штурманский корабль «Эдвард Бонавентура», где я смогу самолично присматривать, чтоб ты не лодырничал, и где ты не сможешь надеяться на покровительство своего благодетеля сэра Хью, который возглавит «Бона Эсперанца». Да и записать тебя в судовые книги надобно под другим именем, попроще, ну скажем, к примеру… – Роджер Уэлфорт. Так звали одного моего приятеля по плаванию в Ливадию. Простые моряки не любят чудных имён.
– Сэр, я с радостью повинуюсь любым вашим приказам, как аргонавт подчинялся воле Ясона, – заверил Ронан.
– Не только моим, матрос Роджер Уэлфорт, – сказал навигатор, – а также капитана Бэрроу и боцмана… А теперь, сэр Хью, не изволите ли вместе с нашим юным моряком составить мне компанию за обедом?
– С удовольствием, Ричард, – ответил командор, – при условии, что ты расскажешь о своём путешествии в Ливадию, упоминание про которое я слышу уже не впервой.
Мореход, который в замке считался наперсником сэра Генри Сидни, а потому бесцеремонно пользовался всеми привилегиями своего положения, отдал приказание слуге, и через полчаса перед ними стояли аппетитные блюда и изысканные вина.
– Сидни сегодня во дворце Уайт-холла, развлекает юного короля игрой в мяч, – сказал Ченслер. – Поэтому будем трапезничать без него. Угощайтесь, командор, и ты, новопроизведённый в моряки Ронан Лангдэйл, он же Роджер Уилфорт…
Глава XXXV
Плавание в Ливадию
После того, как с едой было покончено и на столе остались только кубки с вином, моряк заявил:
– Вот теперь-то, когда неистовый шторм в наших голодных желудках улёгся, как раз и настало время хорошему рассказу, как вы и желали, сэр Хью. Нам осталось вином лишь до конца утихомирить волны, как это делают моряки во время шторма, выливая в море бочки с жиром.
– За этим дело не станет, дорогой Ричард, – сказал Уилаби, осушая свой кубок и вытирая губы. – Вот теперь я поистине готов наслаждаться твоим рассказом.
– Ну что ж, хоть я и не отличаюсь красноречием, как велеречивые вельможи, – начал Ченслер, – зато слова простого морехода будут честны и лишены приукрашивания… Итак, это плавание началось ровно два года назад, в ноябре 1550 года от рождества Христова. Один богатый судовладелец по имени сэр Энтони Очер отважился послать свой корабль с товарами к берегам Средиземного моря – в Ливадию. На своём борту барк носил имя гордого хозяина – «Очер». Не подумайте, что я сколь-нибудь осуждаю доблестного сэра Энтони, дерзнувшего отправить корабль в воды, где хозяйничают турецкие галеры. Но мне по душе более благозвучные и величественные названия, к примеру, «Мэри Роуз»67 или «Великий Гарри»68 – корабль, ныне переименованный в «Эдварда». Или военный корабль «Мэри Уилаби» – возможно, он назван в честь вашей родственницы, сэр Хью?
– Сколь я помню, Ричард, – ответил командор, – оная Мария, фрейлина одной из жён короля Генриха, принадлежала к роду Уилаби из Эрезби. Моя же линия происходит от Уилаби из Вуллатона.
– Однако, вы забываете, что Шотландия тоже может похвастать звучными именами своих кораблей, – заявил неожиданно Ронан. – Взять хотя бы такие суда как «Великий Михаил», «Маргарет», «Лев», «Саламандра». Мне о них говаривал мой отец.
– Хо-хо! – воскликнул Ченслер и добавил: – Как видно, шотландцы не только постоянны в упрямстве – так же, как Полярная звезда упряма в постоянстве, ибо каждую ночь она изволит появляться строго на севере, – они оказывается ещё и горделивы, подобно тому льву, что я видел в Мессине: вид у него тоже был гордый и величественный, хотя он и сидел в клетке на потеху толпе зевак!
– Клянусь моим мечом, Ричард, мне пришлось в этом убедиться и не раз, – согласился Уилаби.
Юноша в гневе вскочил, не в силах вынести насмешки над своей нацией.
– Опусти свои паруса, Ронан Лангдэйл, – спокойно сказал моряк. – Ты не можешь себе представить, сколько зубоскальства и подобных шуток тебе предстоит услышать среди морской братии. Чванство и высокомерие матросы на дух не переносят. Учись обратить всё в шутку, приятель.
Юный шотландец немного остыл, отрезвлённый словами навигатора, и снова уселся за стол.
– Впрочем, не об этом речь, – сказал Ченслер и продолжил рассказ: – Верховодил нашим плаванием Мастер Роджер Боденхем, доверенное лицо сэра Очила и, надо сказать, разумный командор. Капитаном на барке был Вильям Шервуд, славный моряк, вместе с которым нам выпало сразиться не с одним штормом, пересекая Канал, Немецкое море и Бискайский залив по пути к берегам Португалии. Он-то, старый мой товарищ и взял меня с собой как штурмана в сие плавание, в котором я добыл великий опыт в искусстве кораблевождения. Средиземное море, сколь известно, английскими купцами посещается весьма редко. А потому-то и знающих те места английских моряков почти не было… В ноябре мы так и не смогли выйти из устья Темзы, ибо ветра не благоволили нам, и до самого января, когда воды реки стали уж покрываться коркой льда у берега, нам пришлось проторчать в Тилбери-Хоуп69. Ну и мерзостное это занятие, скажу я вам, ждать, покуда Эол70 соблаговолит повернуться другим боком. Когда же это радостное событие, наконец-то, свершилось, мы вышли из устья Темзы – а было это уже в начале января – и бросили якорь в Дувре, где на борт степенно поднялся сам владелец корабля, который о чём-то долго вёл беседу с нашим командором. Вероятно, ещё раз желал увериться в его честности и верности, хотя, по мне, в море имеет смысл надеяться на Бога, толкового капитана и бдительность моряков. Впрочем, мне пришлось переменить свою точку зрения, ибо дальнейшие события показали, как решительность Мастера Боденхема спасла всех нас… Затем мы пришли в Плимут, пополнили запасы воды и провианта и уже через несколько дней – так как ветер был весьма благоприятный – мы пересекли Канал и Бискайский залив и увидели испанский берег. А через пару недель наш барк вошёл в гавань Кадиса. Это главный испанский порт и находится он на южном берегу Иберии. Здесь мы сгрузили часть груза, привезённого из Англии, и погрузили товар для продажи на Востоке. Как только все торговые дела с испанскими купцами в Кадисе были улажены и подул западный ветер, в конце февраля наш барк вышел в море и прошёл меж Геркулесовых Столбов.
– Вот уж право чудное название! Что это за такие столбы, Ричард? – поинтересовался Уилаби. – Мне так сразу на ум приходят две главных башни, которые по обеим сторонам крепостных ворот высятся. Неужели и в море существуют ворота, которые подобным образом стерегутся?
– Такими воротами, сэр Хью, является Гибралтарский пролив, а башнями служат две горы по обе его стороны: одна в Европе, другая – на африканском берегу. По преданию, они значили для греков край света, и на их вершинах стояли огромные столпы… Так вот, наш барк миновал Гибралтар и очутился в Mare Mediterranea71. И через несколько дней мы были у острова Мальорка. В это время ветер, главным качеством которого является непостоянство, снова поменялся, и мы вынуждены были выжидать там несколько дней. Когда же вновь воцарился Зефир72, мы пустились дальше, проплыли мимо острова Сардиния, которого видели лишь тёмные берега вдали, и через несколько дней вошли в порт Мессина на Сицилии. В этом городе мы значительно облегчили наш корабль, сгрузив добрую половину английских и испанских товаров. Мессину с материком разделяет пролив всего-то в три мили шириной, и множество лодок и баркасов снуют в обоих направлениях, невзирая на ужасных чудовищ – Сциллу и Харибду, которые якобы его охраняют по обеим сторонам. Признаться честно, мои глаза чуть из орбит не вылезли, покуда я всматривался в берега, пытаясь по своей наивности различить чудовищ среди чёрных скал. Стоит ли говорить, что я не обнаружил ни намёка на их присутствие? Клянусь всеми светилами на небосводе, это наверняка всё небылицы, придуманные в былые времена греками, чтоб пугать детей на ночь… По правде говоря, до сего места наше плавание походило на лёгкую прогулку, которую леди совершают по утрам в парках, ибо дальше на восток начинались небезопасные места, где хозяйничали турецкие галеры и иные разбойники. На борту нашего корабля находился один купец-португалец, плывший с нами из самой Англии. Так вот, он ещё в Дувре уверял сэра Очила, что уже в Мессине мы сможем якобы получить охранную грамоту от турок. Но обстоятельства в Средиземном море, видимо, поменялись, и к разочарованию Мастера Боденхема все его старания добиться такой бумажонки от турок Мессины были напрасны. Тогда мы рискнули плыть дальше на восток в Кандию73, что на острове Крит, дабы там получить грамоту от проклятых турок. Но и в Кандии у нас ничего не вышло. Местный паша высокомерно и с явной неохотой выслушал все мольбы и увещевания Боденхема, но грамоту нехристь так и не дал, а предложил послать просьбу в Хиос, а этот город был не меньше чем в пять дней пути от Кандии. А сколь выбора никакого у нашего командора не оставалось, то он и отправил прошение в Хиос с какой-то турецкой торговой лодкой. Нам же оставалось только ждать в Кандии и ругать окаянных турок, которые чинили нам всяческие препоны, – чем мы и занимались не одну неделю. Наши же купцы, ясное дело, во что бы то ни стало желали доставить свой товар в Хиос, где за него можно было получить хорошую цену, в то время как Мастер Боденхем, напротив, боялся рисковать вверенным ему судном и всё питал надежду получить разрешительную бумагу от турок. А время то, надо сказать, было весьма тревожное. По городу ходили слухи, что турки собирают свои галеры в единый флот, чтоб напасть на Мальту, а французский король якобы пробовал убедить их оставить Мальту в покое, идти в Барбарию74 и напасть на Триполи… В конце концов, из Хиоса от турецких начальников нам пришёл ответ, но, увы, не тот, что мы ожидали, а с отказом в охранной грамоте. Ну, наши купцы упали духом. Ещё бы, такие барыши потерять! А тем более, что и наш командор заявил во всеуслышание, что он ни за что на свете не осмелится плыть в Турцию без охранного пропуска. Впрочем, на уме у него, как вскоре выяснилось, были совсем другие мысли. А в Кандии в те дни находились несколько турецких скирас (так турки называют свои торговые судёнышки), которые привезли пшеницу и собирались уже плыть обратно к турецким берегам. И вот следующим утром они вышли в море, увозя с собой весть о том, что «Очил» не собирается рисковать и идти в Хиос. Мастер Боденхем поступил очень хитро, ибо на самом деле он всё же намеревался идти в Хиос, но желал, чтобы все думали иначе. Даже ни из наших моряков, ни из купцов никто не ведал, что было в голове у командора, поскольку он все планы держал про себя и никому о них не сказывал. И вот вечером он вызвал всех моряков на палубу и объявил о своём решении, сказав, что дело это очень опасное, и он не может никому обещать благополучного возвращения, но все изъявили готовность плыть. В ту же ночь мы снялись с якоря, благо дул попутный ветер, небо было чисто и усыпано звёздами, а луна озаряла всё вокруг. Наш барк взял курс на норд, и мы шли сквозь огромный архипелаг, состоявший из сотен и сотен остров. Поначалу всё шло хорошо, но предательский ветер неожиданно стих и паруса беспомощно обмякли, словно руки у дряхлого старика. По этой причине нам пришлось стать на якорь у одного из островов, который его жители называли Миконос. Там мы застряли почти на две недели, но зато обрели греческого кормчего, прекрасно знавшего те воды и обещавшего провести наш корабль к Хиосу. В это время года погода стоит в тех морях спокойная, и множество лодок с товарами, намеревавшихся доставить его на продажу в Хиос, скопилось у островов в ожидании попутного ветра. Наш кормчий попросил у Боденхема, дабы те греческие лодки ради их безопасности плыли вместе с нашим барком. Ну, и разве мог, спрошу я вас, великодушный английский командор отказать беззащитным греческим торговцам? Вскоре наша маленькая флотилия благополучно прибыла к Хиосу. Случилось это под вечер. Наш барк остался в море с намерением зайти в гавань с утра, в то время как сопровождавшие нас греческие судёнышки решились достичь берега до наступления темноты. Как скоро стало ясно, это было весьма опрометчивое их решение, ибо неожиданно из-за мыса выскользнули три небольшие галеры и направились в сторону греческих лодок с явно разбойными целями. А на одной из тех лодок плыл сын нашего кормчего, и отец на коленях стал умолять Мастера Боденхема защитить греческих торговцев. Великодушие нашего командора не знало границ, и он приказал открыть огонь по пиратам. И как раз в тот момент, когда одна из галер собиралась уже брать на абордаж греческое судёнышко, наша кулеврина дала залп, да так удачно, что ядро попало в корму турка. После такого отпора турецкие лодки отошли и стали поодаль в ожидании, а греки же в страхе вернулись вновь к нашему барку и смиренно просились остаться у нашей кормы до утра. Когда же пришла заря, «Очил» встал напротив причалов Хиоса и Боденхем послал на берег лодку сказать тамошним купцам чтобы они забирали свои товары с корабля, а иначе мы уйдём обратно в Кандию и им придётся забирать товары оттуда. Но купцы Хиоса уверили нашего командора в том, что в течение двадцати дней нам ничего не угрожает, и дали свои гарантии. Мы вошли в порт и постарались как можно быстрее распродать весь наш товар, опасаясь возможного приближения турецкого флота. Также и городские власти втайне посоветовали Боденхему скорее уходить из Хиоса, потому как, если турки нагрянут, горожане будут не в силах защитить ни его, ни себя. По их словам, когда приходят турки, они «жнут, где не сеяли, и собирают, где не рассыпали», иначе говоря, они забирают что им вздумается и оставляют что соизволят. К несчастью ветер был против нас, и мы не могли скоро выйти из Хиоса. К тому же алчные наши английские купцы, охочие до барышей желали ещё остаться, дабы закупить здесь восточных товаров. Купцы подговорили большую часть команды прийти к Боденхему и потребовать выплатить причитавшееся им жалование, чтоб они могли потратить его на этом берегу в своё удовольствие. Той же ночью наш командор по-честному расплатился с матросами, одновременно заявив, что ежели по их вине корабль не выйдет ныне в море, то по возвращению в Англию их будет ждать суровая кара и они поплатятся головой. Многие были женаты и имели в Англии семьи, так что, им было что терять, сойди они на берег. Выслушав такую угрозу, смутьяны призадумались и ушли совещаться меж собой. Мы же, верные командору моряки – капитан Вильям Шервуд, я и ещё двое-трое человек из команды, – собрались вокруг Мастера Боденхема и ждали, что будет дальше. Наконец, главарь их, который был главным пушкарём на барке, пришёл к командору с обнажённым мечом и поклялся на нём, что раз он обещал сэру Энтони Очеру жить ради этого корабля, защищать его от всех, кто будет желать ему какого-либо вреда, то будет сражаться с целой турецкой армией и никогда не опустит оружие. Я так был просто вне себя от такого явного фарисейства, но наш командор, хотя и негодовал из-за своеволия смутьянов, принуждён был обстоятельствами простить им. С огромным трудом, и то благодаря оказавшимся в это время в Хиосе генуэзским ладьям и французской караке нам удалось вывести корабль из гавани. И, должно быть, Господь услышал наши горячие молитвы, ибо вскоре подул слабый попутный ветерок. Мы тут же выстрелили из пушки, призывая остававшихся ещё в городе некоторых из наших. Как только они все до единого оказались на борту, мы мигом подняли все паруса, чтоб поскорее убраться из этого опасного места. Как позже нам стало ведомо, через два часа после нашего отплытия семь самых быстрых из турецких галер пришли в Хиос с целью захватить наш корабль, и, не застав его, турецкий адмирал ужасно разгневался. Некоторых из тех добрых моряков, что были на остававшихся в гавани французском и двух генуэзских судах, помогших нам, бросили в темницу, других же посадили гребцами на галеры. Турки хотели было пуститься в погоню за нашим кораблём, но хиоские городские начальники предложили им вкусную еду и развлечения и таким образом умудрились задержать их до утра. А утром пришло ещё около сотни галер и турки стали собирать в этом месте свой флот для похода на Мальту. Мы же тем временем укрылись в порту Кандии и надеялись, что турки пройдут мимо. А вот жители города опасались, что злобным туркам может придти в голову разграбить их дома и окрестности, а потому призвали за хорошую мзду несколько тысяч диких людей, обитавших в критских горах. Эти дикари на самом деле были неплохими воинами, у каждого был лук со стрелами или меч иль тесак, кольчуга покрывала их тело спереди и сзади, а на ногах были сапоги до самых колен. Правда, этих одичавших воинов отличала ещё одна худая черта – безудержное пьянство, и, должно быть, поэтому они и не склонны были к честному труду… Так вот, через пару дней на горизонте подобно косяку хищных рыб появилась ужасная турецкая флотилия, состоявшая, должно быть, из двух или трёх сотен галер. Турки двигались в сторону Кандии, но вдруг к всеобщему великому облегчению они свернули и прошли мимо в сторону Мальты. После этого наши купцы закупили вина и прочих товаров, и мы направились в Мессину. Ничего более заслуживающего упоминания в нашем путешествии я и не припомню. Разве что по пути из Кандии в Мессину нам попался венецианский корабль, который с большим трудом пытался отбиться от напавшей на него пиратской галеры. Он точно был бы захвачен, а моряки наверняка убиты, ежели бы «Очил» не пришёл ему на помощь. Мы пару раз пальнули из пушки по разбойникам, и пираты уплыли с такой скоростью, словно за ними по волнам гнался сам дьявол, или шайтан по-ихнему. За своё спасение венецианцы отблагодарили нас здоровенной бочкой прекрасного мускателя, которым мы позже побаловали себя в Мессине, куда пришли через несколько дней. А ещё через два месяца мы благополучно вернулись в Лондон со всеми нашими товарами в целости и сохранности, не потеряв ни одного человека, за что и воссылали хвалу Вседержителю и благодарения святому Николасу75.
Навигатор закончил речь и взглянул на слушателей, стараясь понять, какое впечатление произвёл его рассказ.
Ронан сидел с широко открытыми глазами и в мыслях он был далёко. Ему грезились бескрайние моря, которые бороздят корабли с отважными моряками на борту, и далёкие берега, где живут иноплеменные народы, так непохожие на британцев. Неужели он тоже вскоре будет плыть по этим морям в поисках неизведанных земель? И как знать, может статься, его ждут такие же приключения, или даже ещё более увлекательные события?
Уилаби также внимательно выслушал рассказ моряка и сейчас с серьёзным и сосредоточенным лицом был погружён с свои мысли. Его интересовали более полезные и прагматичные вещи, нежели юного Лангдэйла. Командир и воин, он по достоинству оценил поразительную находчивость Мастера Боденхема, и теперь силился взвесить и рассудить все действия этого командора…
В этот момент дверь открылась, и в комнату вошёл молодой человек, с которым читателю уже представилась возможность вкратце познакомиться в одной из предыдущих глав, где речь шла о собрании членов компании и участников плавания, ибо это был сэр Генри Сидни.
– Приветствую всех добрых аргонавтов! – воскликнул Сидни. – Как только я узнал, что сэр Уилаби, этот Ясон нашего плавания, находится в комнате Ричарда, я сразу поспешил сюда.
Хотя он был старше Ронана всего года на четыре, но богатое одеяние с вышивкой, позолотой и с большим страусиным пером на шляпе, гордая осанка придворного вельможи, благородное лицо с лёгкой тенью озабоченности, всё это придавало зрелости его виду. Близость Генри Сидни к королю и герцогу Нортумберлендскому обещали молодому вельможе большую будущность при дворе. В отличие от своего тестя, Нортумберленда, чувства честолюбия было далеко не самым первым у Сидни. Но в то же время он был деятелен, неплохо образован и все его помыслы были направлены на служение отечеству и королю, которого искренне любил. Эдвард, которому в это время было уже пятнадцать, с детства, со времён детских игр привязался к нему как к старшему брату. Многие при дворе называли Генри Сидни лучшим другом его величества. Впрочем, лишённый тщеславных амбиций вельможа не использовал эту дружбу ради собственной выгоды. В своё время, познакомившись с Кабото, Генри Сидни осознал, насколько выгодны для Англии дерзкие и заманчивые предложения старого мореплавателя, молодой человек также увлёкся духом первооткрывательства и впоследствии заразил им и молодого короля. Насколько велико было было влияние Сидни на короля можно судить по тому, что Эдвард приобрёл не меньше дюжины самых лучших глобусов у великого фламандского мастера и с радостью оказал весомое покровительство синьору Кабото в организации плавания. Сидни со всей увлечённостью содействовал Кабото в поисках стоящих моряков для дальнего путешествия и, когда они остановили свой выбор на Ричарде Ченслере, взял полную заботу об этом моряке, в котором он нашёл не только толкового морехода, но и хорошего друга.
После взаимных приветствий Сидни спросил Уилаби, кто сей юноша, имея в виду Ронана. Узнав, что этот молодой и образованный джентльмен, горящий желанием исследовать неизведанные земли и морские пути, – новый участник их плавания, Сидни осмотрел шотландца с ног до головы и протянул тому руку со словами:
– Похвально ваше стремление, Ронан Лангдэйл. Как я бы желал отправиться с вами! Но, право, как я оставлю бедного короля на растерзание этим хищникам в лице его лордов, сановников, да и моего дорогого тестя Нортумберленда в придачу?
– К слову сказать, сэр Генри, а как себя чувствует его величество? – поинтересовался Уилаби.
При этом вопросе лицо молодого царедворца сразу потеряло весёлость и на него легла тень печали и тревоги.
– Увы, сэр Хью, – ответил Сидни, – касаемо этого у меня мало радостных вестей. Нынче Эдвард не проиграл со мной в мяч и получаса, как силы оставили его, он отпустил всех вельмож и отправился отдыхать в свои покои. А ведь, помнится, ещё месяц назад он мог играть час, а то и два. А ныне и лицо его стало тоньше и бледнее, и дыхание тяжелее и прерывистее. Лекари только ходят и качают своими мудрыми головами, а поделать ничего не могут.
– Ну что ж, будем уповать на Бога, что он не оставит Англию без монарха, – с надеждой в голосе вторил командор.
– Кстати, сэр Хью и Ченслер, мэтр Ди известил синьора Кабото, что готов уже через несколько дней приступить к обучению наших моряков секретам астрономии и навигации, – сообщил Сидни. – Дорогой Ричард, изволь привлечь к этим занятиям тех наших моряков, кого сочтёшь нужным, хотя бы вот и храбреца Ронана, не испугавшегося трудностей морского путешествия.
– Да я уж не преминул помыслить о том, Генри, – сказал в ответ навигатор. – Я, капитаны всёх трёх кораблей и Ронан Лангдэйл – вот та невежественная команда, которую предстоит принять на борт учёности капитану Ди.
Глава XXXVI
Леди Джейн Грей

Время, оставшееся до занятий по астрономии и навигации с мэтром Ди, Ронан провёл в радостном ожидании. Ещё бы! Ведь скоро на корабле «Эдвард Бонавентура» он выйдет в море и поплывёт на другой край земли!
После встречи во дворце Байнард с кормчим весь следующий день юноша не мог ни на чём сосредоточиться, он ходил по дому и пытался с каждым поделиться своей радостью. А поскольку командор проводил время у Кабото, встречаясь с партнёрами этого предприятия – негоциантами и сановниками, Гудинаф по своему обычаю сопровождал господина, а Габриель Уилаби естественно был занят торговыми делами, то единственный человек, на которого юноша мог выплеснуть поток восторженных фраз, оставалась Алиса.
Однако в отличие от Ронана девушка, напротив, в этот день была не похожа сама на себя. Она ходила нахмурившись и ни за что ругала слуг, мало улыбалась, большую часть времени проводила за вышиванием в компании Эффи и, казалось, избегала юного шотландца. Однако за обедом, где они оказались вдвоём, Ронану представился, наконец-то, удобный случай, и он начал было в восторженных тонах описывать ожидающее его увлекательное путешествие. Алиса сначала молчала, а потом сказала:
– Ну и плывите в ваш Китай. Там должно быть очень много молоденьких китаянок, похожих на маленьких обезьянок.
– Причём же здесь обезьянки, дорогая Алиса? – удивился Ронан.
– Дорогие – жемчуга и алмазы, золотые и серебряные безделушки, Мастер Лангдэйл. Я же не дорогая, ибо не имею цены. А созерцать обезьянок вам всем, похоже, больше по нраву, нежели миловидных девушек у себя на родине, раз мой отец, потом и дядюшка Хью, а теперь и вы собрались в этот дикий Китай, оставляя меня с этим противным Мастером Бернардом.
Алиса надула губки, что, надо сказать, получалось у неё просто изумительно, и отвернулась. Ронан недоуменно посмотрел на неё и пожал плечами, не пытаясь более заводить разговор на эту тему. Тем не менее, он не мог отказать себе в удовольствии наслаждаться обществом этой славной девушки и по окончании обеда попросил её сыграть что-нибудь на лютне или вёрджинел. Воспитание не позволило Алисе ответить отказом на просьбу гостя. Она исполнила несколько мелодий, и звуки музыки понемногу приподняли её настроение, после чего Ронану удалось, хоть и с некоторым трудом, вовлечь её в разговор. А, как известно, в приятной беседе забываются все огорчения и беспокойства, что случилось и на этот раз. Таким образом, до конца дня они продолжали оживлённо беседовать и разговаривали обо всём на свете, лишь тему плавания, моря и кораблей они больше ни разу не затрагивали. Ронан вспомнил печаль леди Уилаби из Рисли-Холл, и ему подумалось, что, должно быть, все женщины отпускают своих мужей в море с подобными чувствами. Однако неискушённый юноша никак не мог взять в толк, с чего бы новость о его, едва знакомом ей человеке, участии в плавании пришлась не по душе мистрис Алисе.
Даже такой серьёзный вопрос как религиозные воззрения не смог их рассорить. Девушка с необычайным пылом, близким к фанатизму говорила о своей, по-видимому, передавшейся ей от матери, приверженности к протестантской вере, что Ронану даже стало страшно за её рассудок. Он с опаской спросил, как мистрис Алиса относится к людям с другим вероисповеданием и может ли он, будучи католиком, рассчитывать на её благосклонность. На это девушка ответила неожиданно игривой улыбкой и заявила, что Мастеру Лангдэйлу на этот счёт беспокоиться не стоит, если только ему хватит ума, чтобы на каждом шагу не петь хвалу папе римскому.
– По правде говоря, я не в силах понять, почему люди разных вероисповеданий так ненавидят друг друга, жгут на кострах, разжигают кровопролитные войны, – признался Ронан, отчасти желая навсегда убрать религиозный барьер из их отношений, а кроме того, он действительно так считал. – Каждая из конфессий утверждает, что лишь она, и никто более, унаследует царствие небесное, прочие же, по их мнению, есть еретики, участь которых – гореть в аду. Порой я задавал такой вопрос отцу Лазариусу, моему наставнику, но он сердился и приводил такие замысловатые доводы, что я, с моими скромными знаниями Писания, логики и философии, никак не мог найти изъян в ходе его рассуждений. Хотя в глубине души я по-прежнему убеждён в неразумности выискивать правильную религию и ради достижения истины, – которая может оказать отнюдь не истиной, а дьявольским искушением, – убивать и калечить друг друга.
– Мастер Лангдэйл, я хоть по сравнению с вами полная невежда, но позволю себе дать вам небольшой советик, – с нежной и, казалось, понимающей улыбкой сказала Алиса. – Держите-ка эти мысли, с которыми вы со мной поделились, при себе. Право, я не хотела бы, чтоб вас сочли за еретика и богоотступника и сожгли на костре.
– Вы действительно не хотели бы этого?
– Мне было бы крайне жаль потерять друга из-за такого пустяшного вопроса, – заверила девушка. – Это была бы жестокая несправедливость.
Ронан торжественно пообещал ни с кем больше на эту тему не разговаривать. И их беседа вновь потекла легко и непринуждённо к взаимному удовольствию молодых людей.
В тот же вечер прибыл нарочный из Рисли-Холл с письмами для сэра Хью и Ронана. Уилаби был немало озадачен злосчастием, приключившемся с его сыном, но списал это на легкомысленные поступки Джорджа, которые могли приобрести ему недоброжелателей, особо ежели в дело была впутана какая-нибудь особа женского пола. Что касается Ронана, то ликующий юноша находился не в том состоянии духа, чтобы придать сколь-нибудь существенное значение каким-то туманным опасениям своего мнительного слуги; в ответ он написал Эндри, что всё складывается как нельзя лучше, и пока тому надлежит оставаться в поместье до получения от него особых указаний.
Но это были не единственные письма, полученные в тот день, ибо вернувшийся ближе к ужину Дженкин принёс своему господину ещё одно послание, которое произвело на командора более благоприятное впечатление, нежели письмо из Рисли. Уилаби пришёл к Ронану и предложил тому сопровождать его завтра во дворец Норвич к герцогу и герцогине Саффолкским.
– Клянусь честью, я найду мало удовольствия во встрече с герцогом и герцогиней. Но в этот раз Саффолки, как они сообщают в записке, привезли в Лондон моего внучатого племянника Тома. Пару лет назад, подобно коршунам, хватающим свою добычу, они стяжали опекунство над наследником Вуллатона, а всё из-за того, что герцог приходится мальчишке дядей по материнской линии. Так вот, этого-то мальчика, которого я люблю как сына, мне лишь и хочется увидеть, – объяснил Уилаби. – Да и тебе не пристало всё время дома сидеть сиднем, будто покалеченный в бою солдат, и эту вертихвостку мою племянницу развлекать.
Как ни приятно было для Ронана время, проводимое им в обществе своей новой знакомой, но отказаться от столь благосклонного предложения своего покровителя он не мог, и на следующий день они отправились во дворец Норвич. Чертоги эти находились, как и замок Байнард, на северном берегу Темзы, но гораздо дальше от Моста, в излучине реки недалеко от Винчестера и Уайт-холла. Поэтому, пока они плыли, у Ронана была возможность полюбоваться великолепными дворцами знати в окружении садов и парков (увы! серых и нагих в это время года), которые раскинулись вдоль берега Темзы. Через один из таких пустынных парков им пришлось пройти от пристани, чтобы попасть во дворец Саффолков.
Уилаби с явным облегчением узнал от дворецкого, что герцог с супругой просили их извинить, что не могут приветствовать лично доблестного сэра Хью, ибо обстоятельства потребовали непременного их присутствия в этот день при дворе.
Командора и Ронана ввели в большой зал дворца. А через некоторое время двери распахнулись и вошла молодая девушка за руку с мальчиком. Тот, увидав Уилаби, побежал ему навстречу.
– Дядюшка Хью, как здорово, что ты пришёл! – радостно заговорил мальчик и сразу же похвастался: – А я проскакал на лошади весь путь от Брэдгейта до Лондона без чьей-либо помощи.
– А разве лошадь тебе не помогла, дорогой Том? – спросил Уилаби.
– Чем же она могла мне помочь-то? – удивился мальчик.
– Ну, скажем, хотя бы тем, что она не брыкалась, не закусывала удила и не сбросила, в конце концов, тебя оземь, – с улыбкой сказал командор.
В это время к Уилаби и Ронану приблизилась девушка, вместе с которой пришёл Том. Небольшого росточка её фигурка тонула в пышном платье из малинового бархата, отороченном в плечах собольим мехом. Ярко-рыжие волосы, разделённые прямым пробором и заплетённые в густую косу, покрывал чепчик из алого шёлка с окаймлявшим его белоснежным рюшем. На открытой шейке красовались рубиновые бусы в два ряда с серебряным медальоном в виде цветка. А миловидное личико украшало множество веснушек, да-да, именно украшало, ибо они ничуть не портили лицо, а напротив, придавали ему выражение невинности и простосердечия. Взгляд больших тёмно-синих глаз был не по-девичьи задумчив. На вид она была едва ли старше уже знакомой нам Алисы, хотя и уступала ей в росте, равно как и живости лица.
– Леди Джейн Грей, позвольте мне представить вам моего подопечного и сотоварища по грядущему плаванию, молодого шотландского джентльмена Ронана Лангдэйла, – почтительно молвил Уилаби. – Хотя он и не может похвастать принадлежностью к королевскому роду, как вы, но он так же силён и храбр, как и ваши венценосные предки, а его ум и образованность хоть и не сравнимы с вашими, но делают из него учёнейшего молодого человека, каких я когда-либо знал. А это, надо признать, становится всё большей редкостью среди английской знати.
– Увы, сэр Хью, порой мне хочется быть простой девушкой, вольной в своей судьбе, нежели правнучкой Генриха Седьмого, которой как марионеткой правят алчные и честолюбивые кукловоды, – ответила девушка с печальной улыбкой. – Ну, раз вы изволите завладеть на некоторое время вниманием моего маленького кузена, который для меня словно солнечный лучик в непроглядной темноте моего семейства, то я с вашего позволения побеседую с молодым джентльменом, если он действительно такой умный и образованный, как вы его изображаете, и если он, конечно, не возражает против общения с несчастной девушкой. В последнее время мне так редко выпадает вживую пообщаться с умными людьми, разве что с нашим капелланом во дворце Брэдгейта, моим учителем Мастером Айлмером.
– Я буду счастлив произвести этот обмен военнопленными, леди Джейн, – сказал Уилаби. – Признаться честно, я не надеялся увидеть Томаса в Лондоне, и был весьма удивлён, когда мой ординарец сообщил о его нахождении во дворце Норвич. С какой такой стати ваши родители изволили привезти его в столицу?
– Им мало дела до их подопечного, сэр Хью, равно как мало дел и до их собственных детей. Моим родителям требовалось лишь, чтоб я прибыла в Лондон ради каких-то их целей – возможно, как бы выгодней для их кошелька выдать меня замуж. Но я проявила толику упрямства и настояла, чтобы Том поехал со мной. В последнее время мы с ним весьма сдружились, и мне хотелось чувствовать рядом с собой хоть одного человека, относящегося ко мне с подлинной добротой…
После подобных приветственных речей сэр Хью с Томом направились в парк, а леди Джейн и Ронан остались в зале. Юноша чувствовал себя немного смущённым, – ибо, как он уразумел из разговора, стоявшая перед ним юная леди принадлежала к английской королевской династии Тюдоров, – и не знал, с чего начать беседу.
– А вы читали Платона? – первой вдруг спросила девушка, взглянув на Ронана спокойным и в то же время любопытным взглядом.
Молодой шотландец немало удивился такому вопросу, ибо в те времена чрезмерная образованность среди женского пола была крайней редкостью. И не было ничего странного в том, что он одновременно почувствовал большую симпатию к девушке, обладавшей таким пытливым умом.
– Это имя мне кажется знакомым, леди Джейн. Определённо, этот автор встречался мне в ту пору, когда я изучал язык Эллады и логику.
– Если желаете, сэр, зовите меня просто Джейн. Признаюсь вам, я так устала от всех этих ненужных титулов и почестей, которые выглядят просто насмешкой, если знать о… – промолвила девушка и вдруг, спохватившись, замолкла.
– О чём, Джейн? Клянусь Богом, я никому не выдам ваших чувств. Хотя, если желаете, можете оставить их в себе, – сказал Ронан и подумал про себя: «Надеюсь, мне не отрубят голову и не поместят на Мосту за то, что я пропускаю слово «леди» перед именем этой особы».
– Мне неловко об этом говорить, – сказала девушка и вдруг решительно продолжила. – Хотя я не понимаю, почему надо стыдиться тех физических унижений, которые подчас приходится испытывать от самых близких людей. Ведь это, надо полагать, обычное дело в любой семье.
– Неужели такое возможно, Джейн, чтобы вам приходилось испытывать унижения здесь, в вашем доме? – удивился юноша.
– А разве в вашей семье детей не наказывают розгами, не дают затрещин, не щиплют и не дёргают за волосы?
– Нет, что вы! Моя матушка, покуда она не оставила этот бренный мир, была со мной неизменно очень ласкова. А батюшка проводил бо льшую часть времени в военных походах, а когда вернулся, то отправил меня познавать таинства наук.
– Увы, мне остаётся только позавидовать вам, Ронан, – со вздохом молвила девушка. – Мои родители, герцог и герцогиня Саффолкские, вовсе не рады моим знаниям. Они предпочли бы, чтобы я уподобилась им, проводя время в праздных развлечениях: пирах, скачках, соколиной охоте, увеселительных и азартных играх. Ах, как я была счастлива, когда жила при дворе Катерины Парр76, самой благочестивой и умной женщины, которую я когда-либо знала! Но мне пришлось вернуться в Брэдгейт к бездушным родителям вскоре вслед за тем, как бедная леди умерла после родов… А как вы полагаете, душа человека продолжает существовать после того, как умирает тело?
Поскольку Ронан никогда глубоко не задумывался над этим, то вопрос его озадачил, и он ответил просто – так, как его учили в церкви:
– Согласно тому, что говорят нам монахи, душа умершего попадает в ад или рай, либо в чистилище в зависимости от совершённых и не исповеданных при жизни грехов.
– Как! Неужели вы и впрямь верите во всю эту несусветицу про чистилище?
– Должен признаться, Джейн, поскольку мне самому там бывать ещё не приходилось, то в отсутствие личного опыта приходится прислушиваться к другим сведущим людям.
– Вы их называете сведущими! Да откуда они понабрались подобных лжезнаний, как не от таких же «сведущих» папистов, которые исказили всю веру и заставили её служить низменным прихотям католических попов? Вот за что мне нравится Платон. Этот мыслитель не принимал всё на веру, а путём рассуждений, доводов и умозаключений получал решение и таким путём приходил к познанию бытия. Я не зря спросила вас про существование души после смерти тела. Мне вот кажется, что душа существует вечно и подобна дню, который настаёт после каждой ночи, но в разных образах: то это пасмурный, и холодный зимний день, или яркий и солнечный весенний денёк, а может быть жаркий и душный. Так и душа: сегодня она живёт в теле, скажем, какого-нибудь вельможи или знатной дамы, а когда тело умирает, то душа вовсе не умирает вместе с ним, а отделяется от него и переходит в некую невидимую и неосязаемую сущность. Когда же настаёт пора, душа вновь соединяется с телом, но уже с другим. Это может быть только что появившийся на свет младенец, а может быть вылупившийся из яйца птенец или появившийся из личинки лягушонок.
– Право, не хотел бы я вновь родиться жабой! Что за участь! – воскликнул Ронан, удивляясь в то же время пытливости и живости ума леди Джейн. – Но куда же, скажите на милость, в таком случае деваются все знания, которыми человек обогатил себя в течение жизни? Ведь, когда рождается младенец, он ничего не знает и слова сказать не может.
– Все познания, несомненно, остаются у души, – уверенно ответила девушка. – Их нужно лишь припомнить. Порой мы читаем книги, занимаемся с учителями, полагаем, что узнаём новое. А в действительности мы лишь вспоминаем то, что когда-то уже знали. У вас разве не было ни разу ощущения при виде нового пейзажа или встречи с незнакомым человеком, что вы уже были в этом месте или встречали это лицо?
– Ну, хорошо. А как же объяснить то обстоятельство, что учёные мужи открывают новые законы природы, познают сущность вещей, а моряки узнают о существовании других земель? Ведь до них никто об этом не ведал, иначе такие познания дошли бы до нас в книгах и рукописях.
– Я тоже об этом уже размышляла и пришла к выводу, что приобретаемые человеком познания лишь отчасти являются «припоминанием», а в некоторой мере они состоят из новых, до того неведанных знаний. И таким образом, душа, переходя от тела к телу, обогащается новыми познаниями.
– Ежели, конечно, душа пребывала в теле человека, а не муравья или ящерицы, – добавил юноша. – Мне кажется, будто я уже где-то читал об этом.
– Вот видите, вы уже и «припоминаете», – с улыбкой заявила Джейн. – Впрочем, не исключено, что вы встречали подобные мысли у Платона… А скажите, Ронан, вы боитесь смерти?
– Хм… Клянусь небом, я ещё не видал человека, который не боялся бы умереть!
Девушка посмотрела сочувственно на своего собеседника и горячо воскликнула:
– А как же мученики веры, шедшие на костёр ради своих убеждений? Не сочтите мои слова за хвастовство, но я тоже нисколечко не боюсь смерти! – хотя с ужасом представляю себе картину лижущего меня пламени костра или занесённого над головой топора палача. Но как писал Платон, никто не знает, что такое смерть, и не есть ли она величайшее для человека добро, и, однако, все её страшатся как бы в сознании, что она – величайшее зло.
– Ну, право слово, это выше моих сил уразуметь, как это может быть, чтобы такая молодая и знатная леди не боялась смерти и небытия! – с неподдельным удивлением воскликнул Ронан.
– А я не боюсь, – настаивала Джейн, – потому как твёрдо знаю, что потеряю лишь это слабое и некрасивое тело, подверженное тысячам напастей. Главная же моя сущность, душа, останется в невидимом эфире, и со временем Господь Бог ниспошлёт ей другое тело, если, конечно, я буду вести добродетельную и благочестивую жизнь в нынешнем своём обличии. А если человека отличает злобность, недоброжелательность и алчность, то в будущем его душа может оказаться в теле какого-нибудь хищного создания, наподобие волка или паука. Так же и люди, которые проводят свою жизнь в пустых развлечениях, тщеславных помыслах и тому подобное, – вместо того, чтобы обогащать свою душу познаниями и украшать её богоугодными делами, раз ей посчастливилось оказаться в человеческом теле, – таким душам после смерти носившего их тела очень трудно будет вновь оказаться в теле человека. Вот почему я не могу одобрительно относиться к образу жизни моих родителей: ведь очень плох человек, ничего не знающий и не пытающийся узнать, ибо в нём соединились два порока. Тем не менее, мне их искренне жаль.
– Вы рассуждаете, Джейн, будто подлинный философ, – изумился юноша и спросил: – Но почему вам думается, что душа не исчезает после смерти человека, или, по крайней мере, не оказывается в раю или аду, как учит нас церковь? Ведь именно так полагает большинство людей и по этой-то причине, как мне кажется, они хотят испить из чаши удовольствия в течение своей земной жизни.
– У вас весьма пытливый ум, сэр, который делает из вас интересного собеседника, – ответила девушка. – Но ваш вопрос есть не иначе, как сомнение в вере в Бога. Ибо «чаша удовольствия», как вы это изволите называть, есть не что иное, как потакание самым низменным человеческим страстям – корыстолюбию и зависти, лени и празднолюбию, безудержному вожделению и словоблудию, злобности и бессердечию, словом, всему тому, что любая церковь, даже заблудшее в дебри невежества и само погрязшее в этих пороках католичество, считает за страшные грехи… Что же до рая или ада, то их толкование даётся священниками в таких понятиях, которые были бы доступны для уразумения самых безграмотных людей. Ведь даже в Библии нет ясного растолкования, что же такое ад и рай. А философ может считать адом то место, куда попадают души людей, осквернённые злыми делами и помыслами; а если им и предстоит вновь соединиться с телом, то лишь какого-нибудь животного, насекомого или рыбы. Ну, разве это не ад – навечно быть лишённым рассуждения и возможности познавать и мыслить? Рай же – с точки зрения мыслителя – это та часть невидимого эфира, куда попадают души стремящихся к познанию и к тому же добродетельные. И после некоторого времени блаженного пребывания в раю такая душа вновь возвращается на землю, обретает тело младенца и вместе с его вырастанием она «припоминает» старые свои познания и овладевает новыми.
– Ладно всё получается, – согласился Ронан. – Но если допустить, что новорожденные приобретают лишь «хорошие» души, то почему в конце жизни душа может стать «плохой»?
– Да потому, что ежели душа начинает потакать слабостям своего тела, которое всегда хочет только одного – получать удовольствие, то душа, можно сказать, «портится», подобно тому как гниёт упавшее с дерева яблоко. Она становится злобной, чёрствой и ленивой. Вот именно этим и объясняется, почему истинно верующие люди – протестанты – стремятся оградить себя от мирских излишеств. Римская же церковь, которая давно уже оторвалась от первоначального чистого христианства, в лице своих священников и монахов подаёт пример мирянам в сребролюбии и тщеславии, обжорстве и пьянстве и многих других грехах, которые они же так лицемерно и осуждают.
– Вроде, ваши мысли, Джейн, выглядят вполне стройно. Однако меня смущает то обстоятельство, что если изначально человеческое тело получает «хорошую» душу, а при расставании с ней есть вероятие, что вернёт в эфир «плохую», то количество «хороших» душ должно постоянно уменьшаться вследствие их порчи при нахождении в человеческом теле. Как вы это изволите объяснить?
– Мне приходил на ум подобный вопрос, и вот что я мыслю по этому поводу: некоторым «плохим» душам после долгого мучения в аду и странствованию по телам зверушек и насекомых, даётся шанс «исправиться», и с этим намерением Господь направляет их в тела новорождённых младенцев.
– И тут мне нечем возразить. Как у вас, однако, всё складно выходит! Просто удивительно, что такая великородная леди, да к тому же совсем ещё юная, занимает свой разум столь утончёнными философскими размышлениями.
– Тем не менее, в этом нет ничего странного, Ронан Лангдэйл, – молвила девушка чуть сердито. – Если в моих жилах течёт кровь английских королей, прославленных своим умом, разве мне не по силам обогащать мой разум познанием, а вместе с ним и возвышать душу? Впрочем, мне очень лестны ваши похвалы моих скромных успехов на благочестивом пути постижения истины. Признаюсь, мне не доводилось ещё встречать человека, который с таким вниманием выслушал бы родившиеся у меня мысли. Мои родители называют их глупостями, моя кормилица мистрис Эллен не столь образована, чтобы их уразуметь, у моих ровесниц, с которыми я встречаюсь в других богатых домах, куда изредка берут меня родители, на уме лишь наряды, украшения и балы, а у молодых людей – лишь честолюбивые и корыстные мысли. Скажу вам честно, вы мне сразу показались не таким как все, и хоть и не пристало девушке моего положения так говорить, но я была бы счастлива иметь такого друга, как вы, даже несмотря на ваш смешной северный говор и на то, что вы пока ещё пребываете в плену католической веры. Но, увы, друзей мне выбирают другие. К тому же вы вместе с Уилаби в скором времени изволите уплыть далеко-далеко.
– Поистине так, Джейн. Я уплыву туда, откуда встаёт солнце и гдё, должно быть, так всё не похоже ни на Англию, ни на Шотландию. Но я уверен, что моя душа никогда не сможет забыть о встрече с леди Джейн Грей, и будет «припоминать» о ней и в последующих жизнях. И от чистого сердца хочется пожелать, любезная девушка, чтобы вам достался супруг, могущий понять и разделить ваши мысли и рассуждения.
– А известно ли вам, что было время, когда меня прочили в супруги королю Эдварду, – спокойно, как ни в чём ни бывало сказала девушка. – Я, право, не знаю, ведал ли он сам о планах своих царедворцев и моих родителей. Однако, я слышала об этом краем уха, пока жила при дворе Катерины Парр. Да и мои родители не стеснялись обсуждать такую перспективу в моём присутствии – видимо, моё мнение их мало интересовало.
– Подумать только! – воскликнул Ронан и спросил со всей своей простотой: – Простите мою нескромность, но, должно быть, вам очень хотелось бы обвенчаться с молодым королём и стать английской королевой?
– Право сказать, Эдвард весьма умный и образованный юноша и стать его женой и королевой Англии сочла бы за великую честь любая знатная девушка. Но если бы он не был убеждённым сторонником протестантской веры, я бы всячески противилась этому браку. Но, как вам уже ведомо, я не вольна в выборе своей судьбы, как, впрочем, и большинство девушек из знатных английских семейств, а только лишь повинуюсь воле своих тщеславных родителей.
– По моему разумению честолюбие герцога и герцогини должно быть всецело на стороне этого союза. А значит, можно сказать, мне выпала честь беседовать с будущей английской королевой! – восторженно продолжал юноша.
– Едва ли, любезный Ронан, ибо у меня есть веские причины в этом сомневаться, – грустно произнесла девушка. – Я слышала из разговора моих родителей, как они были раздражены, узнав, что Нортумберленд вынашивает планы женить его величество на какой-то французской принцессе. Но опасаюсь, что и этому браку не суждено сбыться, хотя я и желаю Эдварду самого великого счастья. Дело в том, что два месяца тому назад я вместе с родителями присутствовала в замке Хэмптон Корт на праздновании пятнадцатилетия короля. Так вот, Эдвард совсем не улыбался и едва прикасался к пище, а лицо его было ужасно бледное и худое. И говорят, что здоровье короля продолжает ещё более ухудшаться, а лекари не могут ничего поделать. А это значит, что окружающие его величество сановники во главе с герцогом Нортумберлендским заново тусуют карточную колоду, и один Господь ведает, какая мне выпадет карта в их игре.
В этот момент от группы слуг, почтительно ожидавших в другом конце зала, отделилась одна дама, по-видимому, камеристка и, приблизившись к беседовавшим молодым людям, сказала хотя и учтивым, но добрым голосом:
– Моя госпожа, я с большим сожалением вынуждена прервать вашу беседу и сообщить, что прибыл посланец из Уайтхолла с повелением ваших родителей присоединиться к ним в этом дворце, где они ожидают вас уже через час.
– Благодарю тебя, добрая Эллен. И это вовсе не твоя вина, что тебе приходится порой приносить мне неприятные известия, – ответила девушка и, снова повернувшись к Ронану, сказала с кроткой улыбкой: – Вот вам подтверждение моих слов, сэр, о том, что моё тело летит в сторону, в которую дует ветер, или туда, куда рука игрока метнёт карту, и лишь душа вольна пока в своих странствиях по дорогам размышлений и фантазий. Но долго ли, как знать?
– Как жаль, леди Джейн, что наша встреча оказалась такой короткой, – сказал Ронан. – Я бы с большим удовольствием послушал ещё ваши рассуждения, которые кажутся мне плодом глубокого учения и долгих размышлений.
– Мне хотелось бы подарить вам что-нибудь в память о нашей такой короткой и в то же время длинной встрече…
Джейн огляделась по сторонам и сняла с пальца единственный перстенёк, украшавший её маленькую руку, который представлял собой тоненькое золотое колечко, декорированное узорами в виде лиан и чёрной эмалью и украшенное сверху изумрудным камешком, и протянула его юноше. Ронан поочерёдно попытался примерить кольцо на свои пальцы, но оно было так узко, что подошло лишь на мизинец.
– Это колечко перешло мне по наследству от моей царственной бабушки. Знайте, что когда вы его потеряете или оно пропадёт каким-либо иным образом, то, значит, моя душа оставила тело и перенеслась в обиталище блаженных душ в ожидании… – Джейн не закончила фразу, лишь многозначительно улыбнулась со смыслом, понятным лишь Ронану, сделала реверанс и быстро ускользнула в сопровождении камеристки Эллен.
Юноша глядел вслед этой невысокой девчушке, почти подростку, которая, несмотря на столь юный возраст, была умнее и рассудительней большинства людей, которых он когда-либо знал… Проводив леди Джейн взглядом, Ронан направился в парк искать там сэра Хью с мальчиком…
Вечером за ужином Алиса подметила появившийся на руке Ронан перстенёк.
– О, сэр, как я погляжу, вы не теряете даром времени, – язвительно заметила девушка. – Судя по кольцу на вашем пальце, вас, верно, можно поздравить с обручением.
– Что вы, мистрис Алиса! Это всего лишь подарок от чудесной девушки, с которой нынче я имел честь беседовать – леди Джейн Грей из рода Тюдоров. Она умна как Соломон, но не так весела и задорна, как дочка хозяина этого дома.
– А если бы, милая моя шалунья, – вставил Уилаби, – Ронан был бы настолько неблагоразумным, что сделал бы хоть один намёк на нечто большее, чем простая беседа, боюсь, что в лучшем случае он очутился бы в больнице святой Марии Вифлеемской, а в худшем - его бездыханное тело выловили бы из Темзы где-нибудь напротив Собачьего острова.
После этих слов Алиса, казалось, позабыла про Джейн Грей и лишь изредка косилась на перстенёк.
Глава XX XVII
Обучение
Наконец наступил день, когда наш герой вновь очутился во дворце Байнард, с тем чтобы вместе с Ченслером и капитанами почерпнуть кое-что из математики, астрономии и навигации. Для этой цели Кабото и Генри Сидни пригласили знаменитого учёного по имени Джон Ди…
Когда в назначенный час Ронан вошёл в уже знакомую нам комнату, у окна около тумбы с terrae globus оживлённо беседовали четыре человека, один из которых был навигатор, а других шотландец видел впервые.
– А вот, друзья, и наш юный аргонавт! – приветствовал вошедшего Ченслер.
– … который уже ходил в плавание – и с успехом! – продолжил другой из компании, – в поисках золотого руна, каковое, однако, оказалось не чем иным как молоденькой прачкой с Лондонского моста!
– … и который упустил свой приз, чем тут же не преминул воспользоваться заурядный лодочник, чей корабль так велик, что в его трюме вмещаются один сом и одна русалка, – добавил третий.
Очевидно, Ченслер не преминул рассказать своим компаньонам о приключении Ронана.
– Корнелиас, Вильям, я поведал вам о подвигах этого юноши не для того, чтоб питать ваше зубоскальство, чёрт возьми! – сказал навигатор. – Стивен, дружище, а ты встречай своего вассала… Ну-ну, Ронан, не стоит хмурить брови. Ты разве забыл наш уговор? Клянусь Посейдоном, мы по достоинству оценили твою храбрость. К тому же, никто не принуждает тебя становиться на колено и приносить клятву верности. Это не королевский двор, а компания бравых и иногда чересчур уж весёлых моряков. Знакомься: Мастер Стивен Бэрроу – твой капитан, Мастер Вильям Джефферсон – его сотоварищ на судне сэра Хью «Бона Эсперанца», а Мастер Корнелиас Дарфурт будет заправлять на «Бона Конфиденция».
Все собравшиеся в комнате моряки, включая и Ченслера, являли собой людей в самом расцвете жизненных сил: едва ли кому можно было дать больше тридцати лет. Обветренные, загорелые лица и уверенный смелый взгляд выдавали их ремесло.
Из этих людей на вид навигатор выглядел самым старшим и степенным, чему, вероятно, способствовали занимаемая им должность и возложенная на него ответственность, сообразно которым ему и приходилось себя держать.
Капитан Бэрроу казался самым немногословным из всех, но его малоречивость искупалась весомостью и обдуманностью каждого произнесённого им слова, которые он чеканил словно золотые соверены на монетном дворе. Взгляд его был строг и в то же время пытлив.
Дарфурта и Джефферсона, наоборот, отличала живость речи, а жаргонные словечки вылетали у них как брызги из-под форштевня. Судя по их разговору, эти капитаны отличались весёлым и в чём-то даже беспечным нравом.
Бэрроу бесцеремонно оглядел Ронана с ног до головы, оценил его статную фигуру, но усмехнулся на его наряд.
– Что умеешь? – спросил моряк, испытующе глядя на юношу.
– Сказать по правде, на большом корабле мне бывать не доводилось, – ответил Ронан. – Но будьте уверены, капитан, я быстро всё освою. К тому же, я питал надежду, что мои познания в некоторых науках могли бы оказаться полезными.
При последних словах юноша взглянул на Ченслера, как бы ища у него подтверждения, но навигатор в этот момент уже разговаривал с Дарфуртом и Джефферсоном, тщетно пытаясь умерить их весёлость.
– Ну-ну, – произнёс Бэрроу и добавил: – Похоже, тебе даже румбы компаса неведомы. Что ж, Вильям тобой займётся и научит всему, что требуется знать и уметь всякому моряку.
Кто такой этот Вильям Ронан спросить не успел, ибо в комнате в тот момент появился ещё один человек с весьма странной наружностью. Он вошёл плавной и неслышной поступью, и казалось, будто он скользит по воздуху, не касаясь земли. Высокий рост его говорил не о телесной мощи, а напротив, только подчёркивал неестественную худощавость фигуры. Молодое лицо – ибо по возрасту он вряд ли был старше кого-то из моряков – также было весьма необычно: быстрый пронизывающий взор являл резкий контраст с впалыми, бледными щеками, а взгляд, в котором светился ум живой и незаурядный, придавал глазам почти сверхъестественный блеск. Одеяние его, напрочь лишённое украшений, было всё чёрного цвета: шапочка, бархатный камзол, мантия до самых пят, панталоны, чулки и туфли, – что придавало виду вошедшего ещё больше загадочности и мрачной торжественности. За ним вошли двое слуг, таща с собой ларь, доверху набитый какими-то непонятными предметами, книгами и бумагами.
Навигатор тут же подошёл к этому странному человеку, с которым он, видно, уже был знаком, и бодро приветствовал его на моряцкий манер:
– Сэр, команда судна готова к хождению по океану учёности под началом кормчего Джона Ди.
Лёгкая сардоническая усмешка исказила тонкие губы учёного мужа.
– Путешествие по океану познания чревато стократ бо льшими опасностями и несчастьями, капитан, нежели путешествие по морским просторам, – ответил Ди. – Безмятежные воды истины таят под собой ужасные рифы сомнения и отрицания, ибо даже самая страшная морская буря не сравнится с ниспровержением догм и старых теорий. Тысячи жизней поглотил водоворот отыскивания lapis philosophorum77, судьбы легионов учёных мужей разбились о скалы прозрения, так и найдя спасительного берега истины… Итак, кто же эти смельчаки, дерзнувшие ныне приобщиться к вселенским познаниям?
Ченслер один за другим представил мэтру всех учеников. Напротив каждого Ди стоял не меньше двух-трёх минут, пристально вглядываясь ему в лицо пронизывающим взглядом. Казалось, он намеревался вкрасться в самые потаённые глубины сознания человека или даже узреть в чертах лица и цвете глаз его прошлое и будущее. Для Ронана, как и для остальных, так и осталось тайной, что же искал так долго в лицах моряков этот загадочный человек, больше похожий на мага и чародея, нежели на учёного.
Наконец, когда странное знакомство завершилось, по мановению руки Ди слуги принялись извлекать содержимое из принесённого ими ларя и раскладывать его на столе. Пока предметы появлялись перед учениками, Ди давал каждому название:
– Компас…, угломер…, астролябия…, квадрант…, карта мира от Геммы Фризиуса…, небесный глобус…, три части книги De Principiis Astronomiae Cosmographicae…, таблицы склонения, шесть частей книги «Elementa» Евклида.
Вместе с сундуком отдельно был принесён странный металлический предмет в виде креста около пяти футов в длину.
– Клянусь боцманским свистком, точь-в-точь как крест на куполе святого Павла, лишь размером поменьше, – высказался неунывающий Дарфурт.
– Нет, дружище, это видать маленькая мачта, потому как там где компас обязательно должна быть и мачта, – вторил товарищу Джефферсон.
Ди исподлобья зло посмотрел на шутников. Казалось, своим взглядом он хотел испепелить на месте обоих насмешников, дерзнувших так отзываться о ценнейшем предмете из его коллекции.
– Сей инструмент зовётся жезлом Иакова, глупцы, – сурово произнёс Ди. – Adhibenda est in jocando moderatio78. От имени герцога Нортумберлендского, синьора Кабота и ради вашей собственной жизни, каковой с большим огорчением я узрел страшную угрозу, я требую послушания в занятиях. В школе за нерадение и лень учеников карают лишь розгами, вы же, любезные, можете поплатиться жизнями, ибо учтите, что стихия к невежеству и шутовству бывает жестока и беспощадна, как зачастую безжалостны бывают звёзды к тем, кто не верит в их предсказания.
Далее Джон Ди поведал, какими познаниями он намеревается поделиться с моряками и в двух словах рассказал о каждом предмете, лежащем перед ними, и его предназначении.
Некоторые из этих вещей в той или иной степени капитанам и навигатору, разумеется, уже были известны, о других же они слышали или видели их в первый раз. Что до Ронана, то для юноши всё целиком и полностью представляло пока сущую загадку, кроме разве что книг Евклида, и он бросал на эти удивительные предметы взгляды, полные страстного любопытства.
Когда учёный муж закончил своё вступление, он внимательным взглядом окинул своих великовозрастных студентов.
Ченслер, хотя и внимал пристально каждому слову доктора Ди, но черты лица его говорили, что делал он это спокойно и без натужности, как знающий человек, многое уже повидавший и уверенный в своей способности воспринять новые знания.
По серьёзному лицу Бэрроу, нахмуренным бровям и складкам на лбу можно было заключить, что молодой капитан сосредоточенно силится вникнуть в смысл слов доктора Ди, но по напряжённому взгляду трудно было судить, насколько он в этом преуспевает.
Корнелиас Дарфурт выглядел несколько огорчённым, видимо, по причине того, что надолго лишился теперь возможности блеснуть своим блестящим, как он считал, остроумием.
Что было на уме у Мастера Джефферсона не смог бы угадать и самый матёрый физиономист, ибо нет более загадочного выражения лица, чем лёгкая улыбка вкупе с неожиданно добродушным, доверчивым взглядом, которое может скрывать за собой что угодно: от глубокой мудрости и осознания собственного превосходства до крайнего слабоумия.
Ронан же напоминал пятилетнего мальчишку, впервые изучающего азбуку, ибо он с таким жадным любопытством ловил каждое слово Ди, словно оно таило в себе ключик в огромный мир вселенского познания.
– Клянусь всеми знаками зодиака, у этого юноши глаза светятся ярче любой звезды на ночном небосводе, – заметил учёный, в словах которого можно было уловить поощрение.
Дальнейшее поведение доктора Ди немало всех удивило, ибо он сложил руки, опустил голову и принялся страстно шептать некую молитву. Надо сказать, что и каждый последующий день занятия начинались тоже с пламенного моления учёного.
В первый день их знакомства именитый учёный начал рассказывать морякам про математику, про её использование в мореходстве. Он много говорил про грека по имени Евклид и про его определения, законы, аксиомы и предложения.
Ченслеру, смышлёному от природы и обладавшему уже кое-какими знаниями, полученными от сэра Чеке, не представляло большой трудности следить за ходом рассуждения Ди. Гораздо труднее приходилось капитанам, привыкшим по большей части узнавать всё на практике. Дарфурт запустил руку в свою бородку, Джефферсон время от времени почёсывал затылок, а Бэрроу обхватил голову обеими руками и отчаянно тщился не упустить цепь рассуждений. Для Ронана большее из того, что говорил Джон Ди, уже было хорошо знакомо благодаря отцу Лазариусу, но он, тем не менее, сосредоточенно внимал учителю.
Занятия продлились до полудня, после чего Ди как опытный лектор задал своим студентам несколько вопросов, дабы понять, как они уразумели его урок.
Ченслер отвечал медленно, но безошибочно; Ронан – быстро и ясно; капитан Барроу запинался и подбирал слова, но ответы давал в основном правильные; Дарфурт отвечал бойко и весело и искренне удивлялся, узнавая от Ди, что каждый второй ответ был неверным; Вильям Джефферсон, так и не перестав чесать затылок, добродушно улыбаясь, также отвечал зачастую невпопад и неверно.
Перед уходом учёный наказал Ченслеру и Ронану, дабы они ещё раз растолковали своим товарищам недопонятые ими вещи. Помимо этого Джон Ди аккуратно записал незнамо для чего даты рождений своих учеников… Так завершился первый день обучения участников плавания…
Вечером Ронан поделился своими впечатлениями с Уилаби и Алисой. Он с восторгом рассказывал о первых занятиях, не забыв упомянуть про странного учителя.
– Выходит ведь, что и для плавания по морю математика нужна. А иначе для чего доктор Ди нам про евклидовы Elementa несколько часов толковал?… И всё же очень уж он загадочный, этот Джон Ди. Ежели судить по его знаниям, то он умнейший из учёных, а по виду так настоящий алхимик, маг и чернокнижник.
– Кто бы он ни был, – молвил Уилаби, – но по рассказам Сидни, сей учёный муж пользуется доверием и покровительством первейших сановников государства и даже самого короля. А ныне он нашёл кров во дворце Нортумберленда, пишет для герцогини некие научные трактаты и обучает младшего сына Дадли, Гилфорда, всяческим модным нынче у вельмож наукам – астрономии и математике. Они, видишь ли, равно как попугаи, подражают нашему молодому королю – дай Бог ему здравия и долгих лет! Но ходит молва, что и в астрологии он мастер хоть куда, этот Джон Ди, и гороскопы составлять силён.
– А по мне, так главное, чтоб он вас, Ронан в какую-нибудь зверушку не превратил, – с нарочитым испугом добавила Алиса, которая уже настолько успела сдружиться с юным Лангдэйлом, что ради забавы позволяла себе иной раз над ним подшучивать.
– Ну, ежели он в кого меня и превратит, так уж точно в лягушку, с которой вы, милая леди, так ласково меня сравнили, когда я приплёлся сюда пару недель назад, едва оправившись от недуга и еле волоча ноги или – если вам так угодно – перепончатые лапки, – поддержал игривый тон Ронан, испытывавший тайное удовольствие от любой, самой пустяковой болтовни с этой девчушкой.
– Говоря по правде, таким, сэр, вы мне напоминаете больше скорпиона, – съязвила Алиса.
– Это чему же я обязан, скажите на милость, такому странному преображению?
– А тому, что жалить у вас стало весьма хорошо получаться. Вот чему! – ответила Алиса, по своему обыкновению надув губки, осознавая наитием прелестницы, как очаровательно это у неё выходит.
Уилаби только ухмылялся над милой болтовнёй молодых людей. Он давно заприметил, как на щёчках его племянницы появляется слабый румянец, когда входил Ронан, и что юноше доставляло явное удовольствие находиться в обществе дочки негоцианта. Хотя Ронан и Алиса и старались за подобными взаимными колкостями насмешками скрыть свою росшую день ото дня симпатию друг к другу, но по большей части, казалось, таким притворством они пытались обмануть лишь самих себя…
Занятия с доктором Ди продолжались ещё около месяца. Обычно он приходил во дворец Байнард утром, неизменно в тёмном своём облачении, воссылал Богу страстную молитву и приступал к лекциям. После полудня, когда он исчезал в тёмных коридорах дворца, моряки и Ронан обсуждали между собой узнанное в этот день, а иногда и спорили и даже немного препирались. Изредка учёный передвигал занятия на послеобеденное время, объясняя это тем, что как невозможно заставить солнце подниматься на западе и садиться на востоке, так и он не волен управлять прихотями знати.
Первые две недели доктор Ди рассказывал о геометрии, её понятиях и законах, рисовал изображения различных фигур, объяснял их свойства и взаимодействия. Моряки поначалу не могли взять в толк, какое отношение имеют все эти мудрёные аксиомы и построения к их ремеслу, и лишь опытный Ченслер осознавал, что между геометрией и штурманским делом должна быть самая тесная связь.
Потом неожиданно Джон Ди оставил геометрию – к большому облегчению капитанов – и принялся за чтение лекций по астрономии, рассказывая про Землю, Солнце, Луну и прочие светила, украшавшие собой небосвод, и о том, по каким законам они движутся вокруг Земли. Разумеется, Ди также хорошо, как и Ронан, а вероятно, ещё даже лучше был знаком с работами Коперника, однако, к удивлению юноши, он полагал, что все планеты движутся не вокруг Солнца, а по эпициклам вокруг Земли. Тем не менее, в лице молодого шотландца он нашёл отличного помощника, который после уходов Ди с готовностью объяснял морякам недопонятые ими вещи.
Когда учёный убедился, что первейшие основы геометрии и астрономии его студенты уяснили уже достаточно хорошо, он перешёл к объяснению практического использования всех этих знаний в мореплавании.
Вот здесь и дошло дело до тех приборов и иных предметов, принесённых Ди ещё в первый день. Естественно, морякам стало гораздо интересней, ибо они стали осознавать наконец-то ценность полученных ими знаний для мореплавания. Теперь уж Ченслеру и Бэрроу пришлось пособлять Ронану, что они делали, надо сказать, не без ехидного удовольствия, потому как желали показать безбородому юнцу, что настоящий моряк не тот, кто штудирует книги и слушает лекции, а тот, чья кожа давно пропиталась морской солью.
Мы вовсе не хотим сказать, что Ченслер и иже с ним не испытывали благодарности к юноше за помощь в овладении геометрией и астрономией, но ущемлённая капитанская гордость и задетое моряцкое самолюбие взывали к «отмщению», которое выразилось, впрочем, лишь в чувстве снисходительного превосходства, с которым моряки наперебой объясняли Ронану устройство компаса и квадранта.
Однако и сами капитаны и даже Ченслер открыли для себя много удивительного. Так, к примеру, жезл Иакова и астролябия являлись доселе неизвестными им инструментами, и Ченслер чувствовал себя на седьмом небе от счастья, узнав, как с помощью этих предметов и ещё часов находить долготу в любом месте океана.
Никогда они также не видали и такой подробной карты, какую однажды им вручил Джон Ди в конце занятия. Она состояла из нескольких полотен разного размера и формы. Европа была вырисована во всех мельчайших подробностях, с указанием названий городов, рек, морей и островов. Чтоб развернуть эту карту потребовалось полностью расчистить стол. В верхнем левом углу карту украшало причудливое изображение компаса, от которого во все стороны расходились тридцать две линии – по числу румбов. Все названия красивым почерком были аккуратно выведены на латинском языке. Здесь можно было различить даже границы государств, хотя они и были в те времена весьма условными.
Моряки, как дети – игрушку, облепили стол и каждый пытался отыскать на карте те моря и порты, где ему довелось побывать. Так, Ченслер расположился у нижнего края карты, где было очерчено Средиземное море, и выискивал там уже известные читателю острова его плавания в Ливадию. Капитаны рыскали в левой части полотна там, где Британия разделялась Каналом и Немецким морем с остальной Европой, и, находя знакомые названия, радостно указывали на них друг другу. Лишь Ронан не спешил принять участия в этом забавном исследовании. Он задумчиво стоял около верхней части карты, где были нарисованы места, по которым, по его разумению, им предстояло плыть, и то смотрел вопрошающе на карту, то бросал недоумённый взгляд на глобус. Казалось, юношу мучает какой-то вопрос. Он поискал глазами их учителя, но Джона Ди в комнате уже не было.
– Так ведь она неправильная! – вырвалось у Ронана.
Моряки как один подняли головы и удивлённо уставились на юношу.
– Смотри-ка, Корнелиас, да наш в море не бывший моряк, похоже, лучше тебя паясничать умеет! – оскалился Джефферсон. – Растолкуйте-ка Ронану что к чему, доктор Ди.
Никто не ответил, ибо пока все разглядывали карту, учёный исчез, тихо и незаметно.
– Ха, похоже, наш мыслитель под покровом тумана поднял якорь, распустил свои чёрные как ночь паруса и неприметно покинул гавань, – произнёс Корнелиас Дарфурт.
– А мне так чудится, будто он попросту растаял в воздухе как призрак, – добавил Вильям Джефферсон. – Все маги так и уходят, исчезая словно фантомы, точно вам говорю. А кто есть ещё наш доктор Ди, как не кудесник? Простому смертному разве по силам столько познаний в себе держать? А может статься даже, что за эти знания он отдал душу дьяволу!
– Якорь тебе в глотку, Вильям! – воскликнул Дарфурт. – Посуди сам, разве может человек, который так страстно молится перед каждым делом, быть в плену у врага рода человеческого?
– Ещё как может! – не сдавался Джефферсон. – Помнится, был у нас на «Розе» корабельный священник, каждый божий день читал нам проповеди и молитвы. Так, представь себе, познакомился в порту Роттердама с какой-то потаскушкой – моряки своими глазами видели, ей богу, – и на корабле от него одна лишь Библия и осталась-то.
– Ронан, а почему ты усомнился в верности карты? – спросил молчавший доселе Стивен Бэрроу.
– Я имел в виду, капитан, что пропорции между разными частями карты должны сильно разниться.
– И что же заставило тебя так полагать, юноша? Все приборы и инструменты доктора Ди кажутся мне весьма полезными и непогрешимыми, – присоединился к разговору навигатор. – Неужели он снабдил бы нас неверной картой?
– Так вы гляньте на глобус! – ответил Ронан. – Ведь Земля круглая, а карта плоская. А можно ли плоскую карту приложить к шарообразной поверхности так, чтобы изображения на карте и глобусе полностью совпали?
Все моряки разом задумались.
– Хм, чёрт возьми, а ведь верно! – произнёс Ченслер, хмуря лоб. – Мне это и в голову не пришло. Так ведь выходит, что карта правильной вообще быть не может.
– Вот именно, сэр. А я так разумею, что чем меньший участок Земли изображён карте, тем меньше искажения, коими, верно, можно и пренебречь, – сказал Ронан.
– Что ж, вот назавтра и спросим у Ди, чтоб он нам всё растолковал, – молвил Ченслер.
Излишне говорить, что на следующий день Ди целиком и полностью подтвердил соображения юноши, добавив при этом много чего другого…
Наступил январь 1553 года. Занятия с Джоном Ди подходили к концу. За это время Ченслер и капитаны хорошо узнали Ронана, и изначальное их снисходительное высокомерие постепенно переросло в дружеское расположение, хотя юноше и давали понять о его более низком положении в иерархии флотилии. Ронан с удовольствием осознавал, что моряки приняли его в свою семью, и был не прочь считаться младшим из членов морского клана. Поначалу, правда, воспитанного юношу коробила вульгарная и жаргонная речь моряков, особенно капитанов Джефферсона и Дарфурта, а их насмешки порой вызывали в его душе волну негодования и злости. Но Ронан рассудил, что раз уж он выбрал для себя этот тернистый путь, то и не пристало ему роптать на препоны. Он старательно подавлял в себе порывы оскорблённого самолюбия и скоро привык к своему положению, принимая с добродушной улыбкой колкости со стороны капитанов…
Ди исполнил свои обещания Каботу и снабдил моряков компании самыми новыми на то время познаниями в науке навигации. Главное, чего он достиг, это научил их безошибочно, или с небольшой долей погрешности, определять местоположение корабля при помощи небесных светил и своих хитрых инструментов. Узнали его подопечные и как пользоваться картами и глобусом. Но не у всех моряков познания усваивались одинаково, как и брошенные на разную почву семена всходят по-разному. Да и не все, как оказалось впоследствии, уяснили себе неоценимую пользу этих познаний. Кто-то был смышлёней, но ленив и беспечен, другой, напротив, с трудом вникал во всё новое, но преисполненный желанием корпел над бумагой, силясь вникнуть в суть знания.
Больше всех успехами мог похвастаться Ричард Ченслер, что и неудивительно, ведь у него уже был практический опыт плавания в качества штурмана, да и образование, равно как и способности к нему были лучше, чем у остальных моряков. Стивену Бэрроу учёба давалась труднее всех, но благодаря его старательности и трудолюбию пропасть между ним и навигатором была не такая уж и большая. Вильям Джефферсон и Корнелиас Дарфурт, хоть и считались бывалыми капитанами, но учениками оказались посредственными.
Успехи юного шотландца в учёбе были блестящими, но мы намеренно не сравниваем навигатора с Ронаном, как нельзя сопоставлять опытного военачальника даже с самым умнейшим из его воинов. Однако новоиспечённому моряку необходимо отдать должное, как это сделал и Джон Ди. Учёный муж достаточно скоро увидел в Ронане талантливого школяра, одарённого незаурядными способностями к наукам. Юноша быстрее всех схватывал знания, которыми делился Ди, мгновенно справлялся с любыми его задачками и порой задавал наставнику такие вопросы, на которые тот был не в состоянии сразу и ответить. В последний день обучения Ди отвёл Ронана в сторонку и сказал непривычно вкрадчивым голосом:
– Я хочу быть искренен с тобой, мой юный друг, и поведать, что способности к познанию, дарованные тебе всемогущим Господом, немало удивили меня. Признаться, не случалось прежде мне знавать ни одного ученика, которому я мог бы произнести столь хвалебные речи. Однако, я говорю так вовсе не для разжигания тщеславной гордыни в твоей душе, а для поощрения тебя к будущим успехам на поприще учёности.
– У меня не хватит слов, чтобы высказать вам мою благодарность за просвещение невежественного школяра, – почтительно отвечал Ронан, – и выразить восхищение вашими величайшими познаниями. Но, всё же, я надеюсь, что ближайшие месяцы, а может статься, и годы я проведу в далёком странствии.
– Как! И неужели у тебя никогда не посещало желания посвятить себя служению Афине, богине мудрости и покровительнице наук? Зачем тебе уподобляться морякам, сим вечным скитальцам, рискующим жизнью ради хлеба насущного? Поведаю тебе один секрет: ныне я подыскиваю прилежного и толкового ученика для помощи в моих удивительных опытах, кои обещают дать необыкновенные результаты. Поверь, любой из студентов Сорбонны, которых я учил когда-то евклидовой геометрии, с радостью бы занял сие место. Но, увы, я не припомню, чтоб хотя бы один из них обладал талантами, подобными твоим.
Ди замолчал, давая юноше время поразмыслить над его словами. Ронан мало-помалу начал смекать, к чему клонит учёный, и поначалу такая будущность показалась ему весьма заманчивой. Но бросив взгляд на столпившихся в другом конце комнаты моряков, юноша вспомнил, почему он здесь, и снова в его сознании всё стало на свои места.
– Я весьма польщён вашим предложением, доктор Ди, – ответил Ронан, пытаясь найти слова для вежливого отказа. – Однако, чтобы вы ни говорили, не пристало малограмотному юноше с далёких северных предгорий, получившему скромное образование в тенетах монастыря, становиться помощником прославленного учёного. Я давно выбрал для себя иное поприще и надеюсь быть полезным в путешествии.
– Твоя скромность похвальна, молодой человек, но, право, она чрезмерна. Воистину было бы очень жаль, если такие дарования затерялись бы среди безбрежных морей, как маленькая звёздочка на небосводе исчезает в мириаде себе подобных. И неужто ты действительно полагаешь, что сей вояж понесёт ущерб и будет обречён на неудачу, лишившись одного из своих матросов? Зато наука приобрела бы талантливого прозелита и распахнула бы перед ним врата своих тайн!
– Почтенный доктор Ди, я осознанно и с большим желанием присоединился к этому предприятию, отдавая себе отчёт, что теряю возможность заниматься науками. И ни одному человеку не удалось переубедить меня, – твёрдо ответил Ронан.
– Ну, хорошо, – как будто согласился Ди, раздосадованный, однако, в тайне души неожиданным отказом от столь великодушного своего предложения, и после минутного раздумья продолжил: – До отплытия кораблей осталось ещё несколько месяцев, и я полагаю, тебе было бы интересно посетить мою лабораторию и понаблюдать за исследованиями. Не так ли? О, в твоих глазах засверкал огонёк любопытства!
– Но чем я обязан такому благосклонному приглашению, если я правильно уразумел ваши слова? – вопросил Ронан.
– Что ж, юноша, придётся открыть тебе великую тайну. Суть её в том, что человек в состоянии предвидеть события, которые случатся в будущем. Один из путей узнать тайну будущего есть созерцание в ночные часы небесных светил и вычисление их сочетаний. Я провёл несколько бессонных ночей, всматриваясь слезящимися глазами в ночное небо дабы прочитать там судьбу самого даровитого из моих учеников. В конечном счёте вышло, что согласно дате твоего рождения и вычисленным мною сочетаниям небесных тел, в следующие сто дней тебя ждут необычные события. Увы, мне не удалось разобрать суть этих событий, ибо небо зачастую было скрыто облаками и не все звёзды и созвездия можно было правильно узреть. Но я принялся рассуждать логически и сопоставлять факты, что привело меня к следующему выводу: раз такому даровитому школяру будут сопутствовать незаурядные вещи, то пусть они случатся в моей лаборатории. Отсюда следует, что необходимо увлечь тебя моими опытами, и тогда они принесут удивительные результаты и приведут к небывалым открытиям! Моё предложение тебе скорее нужно бы считать честолюбивым и корыстным, нежели великодушным. Как видишь, я выложил карты на стол и честно поведал тебе о своих планах.
«А не обманывает ли меня этот учёный, астролог и бог знает кто ещё? – подумал юноша. – А с другой стороны, какой ему смысл дурачить меня, да и как можно считать за лгуна этого именитый учёного, который столько всего знает? Да что я потеряю-то, кроме пары месяцев безделья? Зато увижу, как великий учёный проводят опыты и достигает новых познаний. Впрочем, все равно странно это».
Ронан поднял голову и встретил пронзительный взгляд Джона Ди; казалось, этот загадочный человек читал все его мысли. И юноша понял, что никак не сможет отказаться.
Глава XXXVIII
Страсти дворца Элай
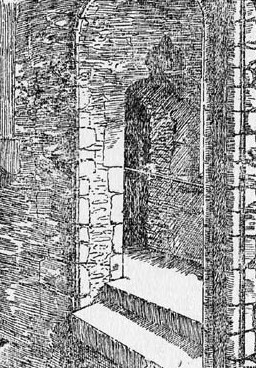
Через два дня как обычно Ронан сел в лодку на пристани у Моста, но в это раз он велел лодочнику грести к дворцу Элай. Они пересекли главное течение реки, миновали Байнард и свернули во впадавшую в Темзу речку под названием Флит, проплыли под двумя-тремя мостами и, когда речка начала сужаться и превращаться в ручей, хотя ещё достаточно широкий, лодочник пристал к берегу и указал на вытянувшееся вдоль реки большое и тёмное здание, высокие готические окна которого, казалось, надменно глядели на людишек за окружавшей его стеной. Чуть поодаль за стеной виднелись кровли и башни других строений этого мрачного сооружения.
Чтобы попасть во дворец Ронану пришлось пройти по невзрачной улице с протекавшим по самой её середине грязным ручьём и свернуть в переулок, после чего он вдруг оказался перед массивными крепостными воротами с башнями по бокам, аркой и железной решёткой. Перед вратами лениво прохаживались два вооружённых до зубов стражника.
Накануне Ронан поинтересовался у Дженкина, что ему ведомо о дворце Элай и его обитателях. Ординарец криво ухмыльнулся и ответил:
– Покуда у королей в почёте была месса, то в роскошных чертогах обитали епископы, подобно жирным медведям в тёплой берлоге, а как молодой Нед зажёгся новой верой, то хитрый лис Дадли быстро смекнул что к чему, оборотился в протестантского льва и занял подобающую своему царственному положению великолепную пещерку. Уж не советовал бы я вашей милости совать голову в пасть льву.
Ронан только усмехнулся на предупреждение Гудинафа, которое он счёл за малодушие и осторожность: ведь ему и дела нет до Нортумберленда, он же идёт в Элай по приглашению доктора Ди…
Один из стражей преградил юноше путь и грубо спросил, кто он таков. Ронан выглядел как простой горожанин, так как оставил палаш дома, поскольку не видел смысла брать его для занятий научными опытами, хотя на всякий случай на поясе под плащом у него висел кинжал. Юноша ответил, что направляется к Мастеру Джону Ди, и поинтересовался как в этом лабиринте зданий разыскать его комнату.
Стражники многозначительно переглянулись между собой, чему юноша не придал особого значения, и один сказал:
– Что ж, пойдём, приятель.
Он провёл Ронана вдоль стены, открыл дверь примыкавшего к ней невзрачного дома и спустился вниз по каменной лестнице, освещая путь факелом. После достаточно долгого шествия по тёмным переходам они оказались в каком-то мрачном подземелье.
«Чудно как-то. И как же это доктор Ди наблюдает за небесными телами из подвала?» – подумал юноша.
– Ну, вот и пришли, приятель, – сказал стражник, открывая тяжёлую дверь и пропуская вперёд Ронана.
Юноша шагнул в тёмный проём, ожидая увидеть в мерцании свеч поглощённого работой учёного мужа. Однако вместо этого его встретила кромешная тьма, а дверь за спиной захлопнулась с оглушающим грохотом и послышался скрежет задвигаемого засова. Ошеломлённый Ронан бросился на дверь и принялся колотить по ней со всей силы, но вскоре поняв, что это ни к чему не приведёт, озадаченный пленник сел на каменный пол спиной к двери и принялся обдумывать своё положение.
«С какой стати, интересно, меня здесь заперли? Неужели Ди заманил меня во дворец Элай, чтобы вот так бросить в подвал? Нет, не может такого быть, ибо уж он-то достаточно умён, чтобы не совершать подобные бессмысленные поступки. А что если меня бросили сюда без его ведома? Но тогда с какой целью?»
Около получаса Ронан ломал голову над произошедшем, пока неожиданно снова не раздался скрежет засова и пленника не ослепил свет факелов. На юношу набросились сразу несколько человек. Сопротивляться им не имело смысла, и Ронан покорно позволил связать себе руки и отобрать кинжал, его единственное оружие. Шотландца повели по длинным подземным коридорам, которые, по всей вероятности, были проложены подо всем дворцом. Наконец они поднялись по каменой винтовой лестнице, вившейся меж тесных стен и закончившейся наверху дверью. Два дюжих конвоира крепко схватили Ронана за руки и ввели в комнату.
– Так-так, сэр Реджинальд, это по твоему мнению и есть покуситель, злоумышлявший поднять на меня руку? – спросил стоявший посреди комнаты человек, чья гордая осанка, богатая одежда и орлиное перо на бархатной шапочке изобличали персону высокого звания, и он надменным взглядом окинул Ронана.
– Он самый, ваша светлость, – отвечал Реджинальд, крепкий немолодой уже человек с мечом и в кольчуге. – Этот молодчик говорит с сильным шотландским акцентом; а у шотландцев, как все знают, есть веские причины ненавидеть Джона Дадли, герцога Нортумберлендского, особенно после того, как при вашей помощи их начисто разбили в сражении у Пинки. У злодея под плащом обнаружили спрятанный там кинжал, которым преступник и намеревался по всей вероятности поразить вашу светлость. Больше ничего подозрительного при нём найдено не было, но я бы обратил внимание на кольцо у него на мизинце: иногда даже небольшие мелочи дают веские улики.
Его сиятельство кивнул головой, и два стражника, несмотря на отчаянное сопротивление пленника, едва не сломав ему палец, стянули с его мизинца перстенёк, подаренный юноше леди Джейн Грей, и вручили сэру Реджинальду. Тот повертел колечко в руках, поднёс к своим глазам, прищурился, силясь что-то в нём разглядеть, и вдруг на лице его заиграла зловещая улыбка.
– Предчувствие не обмануло меня, ваша светлость, – торжественно заявил герцогский паладин. – На внутренней стороне кольца искусным ювелиром выгравирована надпись, и столь мелкими буквами, что мои старые глаза еле их разобрали… Maria Regina 79!
При последних словах по побледневшему лицу сановника пробежало облако страха и ненависти.
– Дьявол! Она ещё не королева и надеюсь, никогда ей не будет. Ну что ж, теперь всё ясно как божий день! Я хорошо сделал, что приблизил к себе этого Джона Ди: он помог избежать мне великой опасности.
Во время этого диалога Ронан стоял посреди комнаты, тщетно силясь понять происходящее здесь действо. Но когда он услышал имя учёного, то непроизвольно рванулся, однако хватка державших его рук была железной.
– Глядите, ваша светлость, – заметил сэр Реджинальд, – коршун трепыхается, потому как знает свою вину.
– Это не коршун, – презрительно бросил герцог Нортумберленд. – Это всего лишь перепёлка, которая попала в ловко расставленные тобой силки. Но с её помощью мы поймаем и орлицу. Какое счастье, что такой преданный мне рыцарь руководит моей стражей и оберегает меня и мою семью. Что ж, охота оказалась весьма удачной, и дичь стоит приготовить таким образом, чтобы блюдо вышло как можно более вкусным. Ты меня понимаешь, Реджинальд?
– Хоть я и далёк от поварского искусства, – ответил сей доблестный палладин, – но полагаю, что блюдо будет не столь аппетитным без сочной приправы в виде показаний этой птахи.
– Ну, пусть твои молодцы и займутся приготовлением сего смачного соуса, – велел сановник. – Уберите с моих глаз этого мерзавца и позовите Джона Ди.
– Но, сэр! – вскричал Ронан, осознавая, что попал в какую-то смертельную переделку. – Скажите, в чём моя вина?
– Он ещё спрашивает, лживый притворщик! – негодующе воскликнул герцог, отвернулся прочь и нетерпеливо махнул рукой.
Выполняя повеление Нортумберленда, Ронана с ещё меньшими церемониями быстро выволокли из комнаты через хитро скрытую в стене дверь. Снова был долгий путь по запутанным подземным переходам, и наконец юношу втолкнули в какой-то каземат, погружённый в пугающую темноту. Стражники зажгли факелы на стенах, и оказалось, что ужасная темнота была менее страшна, нежели вид освещённого узилища.
Вдоль стен расположились разнообразные хитроумные приспособления, главной целью которых было заставить имевшего несчастье попасть сюда пленника сказать то, что от него ждали, и неважно насколько эти слова соответствовали действительности. Посреди помещения стоял большой стол с устроенными по его краям вращавшимися деревянными блоками, на которые были намотаны крепкие верёвки, свободные концы которых лежали на столе и, казалось, кровожадно приглашали в свои объятиях руки и ноги пленника, чтобы растягивать его тело до тех пор, пока суставы и сухожилия несчастной жертвы не начнут разрываться. Около жаровни на решётке во всей своей зловещей красе, словно вертела для жарки дичи, располагались всякой формы пруты и стержни для пыток раскалённым железом. Были здесь и другие не менее ужасающие орудия для терзания человеческой плоти, описание которых, впрочем, мы оставим воображению читателя.
Пленнику намеренно дали вдоволь насмотреться на ожидающие его ужасные предметы, с целью, что он поймёт напрасность скрывать свои злодейские намерения. Затем в комнату пыток вошёл сэр Реджинальд, с грустью взглянул на Ронана, вздохнул и молвил:
– Как жаль старому солдату, с честью прошедшему через горнило войн, видеть молодое тело, обречённое на позорные мучения! На протяжении веков в этой комнате пыток истязали еретиков, врагов церкви и государства, добиваясь от них признаний в ереси и злонамеренности. Её долго не использовали по назначению, хотя все инструменты выглядят как и сотню лет тому назад. Клянусь душой! мне ненавистны столь жестокие меры в отношении несчастных пленников. Я всем сердцем желал бы, чтоб ты, юноша, избежал ожидающих тебя страшных мучений. Но для этого ты должен как на духу поведать мне все подробности намечавшегося злодейства, после чего поставить свою подпись под показаниями.
– Но мне невдомёк, сэр Реджинальд, в чём меня обвиняют, – испуганным голосом сказал Ронан, ибо он не настолько был храбр и безрассуден, чтобы не ужаснуться ожидавшей его участи.
– Как, юноша! Ужель ты столь несмышлён, что не ещё сего не уразумел?! Нам доподлинно ведомо, что ты подослан высокородной леди – да простит её Господь! – чьё имя было начертано на кольце. Шотландский акцент, спрятанный кинжал! Какие ещё улики требуются для доказательства злого умысла? Ты можешь облегчить свою участь и избежать ужасных пыток, лишь если честно поведаешь нам об этом деле, и потом подтвердишь свои слова перед лицом Тайного Совета. Хотя я и не в силах обещать, что судьи пощадят твою жизнь, ибо твой проступок иначе как государственной изменой не назовёшь, зато ты избежишь страшных мук, которые в противном случае ожидают тебя в этой комнате, и если умрёшь, то быстро и достойным твоего преступления образом.
– Но я ничего не знаю про это ваше Дело! – воскликнул до смерти перепуганный Ронан. – Я пришёл сюда с одной целью – дабы встретиться с доктором Ди и понаблюдать за его научными опытами. А вместо этого меня хватают, словно величайшего злодея и страшат ужасными пытками.
– Что ж, это была хорошая уловка с твоей стороны, чтоб проникнуть во дворец Элай, – заметил сэр Реджинальд. – Но не говори, якобы ты и вправду пришёл к Ди, потому как именно сей учёный муж и предупредил герцога о грозящей ему опасности. К тому же у тебя на пальце было кольцо с выгравированными на нём словами «Королева Мария », что полностью тебя изобличает.
– Этот перстень подарила мне одна юная леди, в жилах которой течёт королевская кровь Тюдоров, – попытался объяснить Ронан. – Я имел честь общаться с ней около часа, и это было давно, ещё до Рождества.
– Юная леди? Ну ты и шутник, приятель! Кажется, ты забываешь, в каком положении находишься, и что тебя ожидает, ежели ты будешь упорствовать и отрицать, что не подослан во дворец Элай с целью убийства герцога Нортумберленда.
– Клянусь честью, я не заслужил этого ложного обвинения! – с жаром воскликнул Ронан.
– Честью? – усмехнулся Реджинальд. – Да откуда она у такого злодея, как ты, которому к тому же не достаёт духу признаться в коварных замыслах своей госпожи и который трусливо отрицает очевидное!
– Но это какая-то нелепая ошибка, сэр! – не сдавался Ронан. – У меня нет никакой госпожи, и вы, видимо, меня с кем-то путаете. Я осмелюсь снова повторить и сказать это с чистой совестью, что пришёл в это злосчастное место с единственной целью встретиться с доктором Ди.
– Видит бог, не хотел я напрасных человеческих страданий, – молвил старый воин. – Честному солдату пытки ненавистны, равно как и человеческая трусость. Но, увы, твоё упрямство не оставляет мне иного выбора.
– Господи! Да вы все с ума посходили! Позовите хотя бы Джона Ди, и он сразу же подтвердит ошибочность вашего суждения обо мне, – взмолился юноша.
– Я так разумею, что сейчас учёный муж выслушивает благодарности от герцога за своевременное предостережение, и он, может быть, только рад, что удалось предотвратить злодеяние и схватить посягателя, – ответил старый воин, и на его лицо опустилась туча неумолимой суровости. – А ты, несчастный упрямец, готовься к страшному испытанию на прочность твоего юного тела.
Сказав так, сэр Реджинальд отвернулся и велел стражникам приступать. У Ронана не осталось ни малейшей надежды на благоразумие своего инквизитора, фанатичность которого в служении Нортумберленду затмевала всякий здравый смысл. А когда исчезает надежда на людей, остаётся лишь, как правило, уповать лишь на Бога. Так и Ронан, не будучи чересчур набожным, в минуту тяжкого испытания принялся про себя воссылать молитвы всевышнему.
Подручным Реджинальда, похоже, ещё ни разу не приходилось пользоваться этой комнатой по назначению, и они долго обсуждали между собой предназначение каждого приспособления и решали с чего лучше начать. Ронан тем временем лежал связанный на кипе соломы в углу и вскоре, решив, что уже достаточно помолился для того, чтобы быть услышанным вседержителем, дабы отвлечься от ужасных дум он вознамерился занять свой пытливый разум перемножением чисел друг на друга. Сначала это были двухзначные числа, потом трёхзначные. Юноша так увлёкся этим занятием, что не заметил как оказался распростёртым на дыбе, том самом страшном столе посреди комнаты; и лишь когда почувствовал боль от натянувшихся мышц и суставов, он пришёл в себя.
* * *
Примерно через полчаса после того как увели Ронана в комнату герцога Нортумберленда вошёл Джон Ди. Он поклонился и просил извинить его за медлительность с приходом, сославшись на невозможность прервать опыт.
– Скажите, любезный Джон, как продвигаются дела с манускриптом про знаки зодиака, коих происхождение и толкование для судеб человека просила вас описать моя благоверная Джейн? – спросил Нортумберленд. – Моя дорогая супруга желает преподнести мне подарок на Сретение; голубка и не догадывается, что мне всё ведомо об её благом намерении.
– Видимо, леди заметила склонность вашей светлости к астрологическим прогнозам и вознамерилась преподнести достойный подарок любящему супругу, – ответил Ди. – Работа почти готова, и мне осталось лишь описать двенадцатый знак – Рыбы. Хотя, надо признать, я испытываю некие трудности с отождествлением Северной и Западной рыб этого созвездия Афродите и Эроту, но надеюсь за оставшиеся дни найти логическое решение этой задачи. Однако, я прошу вашу светлость, не подавайте и виду, что вам известно, над чем я работаю; зная вашу любознательность, я не мог не уведомить вашу светлость о поручении герцогини.
– Само собой разумеется! – сказал герцог. – Я вовсе не собираюсь огорчать мою жену и к тому же ставить в неловкое положение вас, человека, которому я, можно сказать, обязан жизнью.
– Жизнью? Вот как! – подивился учёный. – И чем же я заслужил такую благодарность вашей светлости?
– Скоро узнаете, Ди, – с довольной ухмылкой сказал Нортумберленд. – Мне сегодня как никогда нужна благосклонность планет. Верно ли я понял в прошлый ваш визит, что исходя из карты моей судьбы и неблагоприятного расположения светил, мне угрожает несчастье посредством некоего молодого человека?
– Это так же верно, как и то, что одна из ярчайших звёзд небосвода Sirius находится в созвездии Canis Major80, – подтвердил учёный. – Вот рисунок, из которого явствует, что покуда Юпитер, эта звезда Зевса вновь не войдёт в Дом жизни и сочетается с Солнцем, над вашей судьбой будет довлеть Венера, которая сегодня находится в Доме смерти и собирается в ближайшие дни покинуть его, но снова вернётся туда через шесть месяцев.
– О! Я знаю, кто эта Венера! – воскликнул герцог, и ненависть исказила черты его благородного лица. – Но почему вы полагаете, что угроза мне исходит именно от юноши?
– Простите, ваша светлость, но я не могу раскрывать тайны моей науки непосвящённым, иначе законы звёзд могут быть превратно истолкованы и их использование приведёт к ложным результатам, что опорочит великую науку астрологию. Поверьте мне, таковые заключения я делаю на основе долгих наблюдений за ночным небом и скрупулёзным поиском сочетаний небесных светил.
– Что ж, похоже, сия наука не обманывает, ибо одно из ваших предвидений уже сбылось! – торжественно заявил герцог.
– Неужели? О, я никогда не сомневался в правильности астрологии! Нужно лишь научиться верно истолковывать посылаемые ею знамения. И вот сегодня эта наука и моё искусство целиком и полностью повинуются моему покровителю герцогу Нортумберлендскому и приносят свои благодатные плоды. Позвольте же полюбопытствовать, ваша светлость, какое именно из моих предсказаний сбылось?
– Как раз то, дорогой Ди, о подтверждении коего я вас только что спрашивал – о смертельной опасности от юношеской руки. Мой старый военный товарищ сэр Реджинальд, который управляет дворцовой стражей и моими телохранителями, после разговора со мной велел всем и особенно привратникам быть начеку. Они-то вот ныне и задержали молодого душегуба, замышлявшего моё убиение. Ах, каков злодей!
– На основание чего вы заключили, что он намеревался убить вашу светлость? – спросил Ди. – Ибо для подобного conclusio нужные веские argumenta.
– Как же! Во-первых, злоумышленник совсем ещё безбородый юнец. Потом, под одеждой у него нашли припрятанный кинжал. Судя по речи, он принадлежит к шотландцам, а кто как ни я помогал несчастному Сомерсету в последней войне между Англией и Шотландией; и немало среди этой кровожадной нации найдётся желающих отомстить мне. Вдобавок, у этого малого на пальце было вот это кольцо с надписью Maria Regina. А вам должно быть, известно, что молва называет нас с леди Марией Тюдор заклятыми врагами, и хотя я отношусь к ней с дружеским участием как к старшей сестре юного короля, но не могу ручаться в таких же чувствах с её стороны – скорее наоборот. Слава богу, что парламент признал их с леди Екатериной незаконнорожденными. Но ручаюсь, что она все равно лелеет мечты о престоле и, чтобы попытаться вскарабкаться на него, страстно жаждет смерти моего подопечного, короля Эдварда. Разумеется, ей хотелось бы устранить со своей дороги главного защитника его величества и оплот протестантской веры – герцога Нортумберлендского. Видите, даже сторонники этой леди чтят её уже как королеву, судя по надписям на своих кольцах. Такому проницательному уму как ваш, дорогой Ди, должно быть, ясно, что мои доказательства против злодея более чем убедительны, и к тому же, они подкреплены составленным вами гороскопом. Впрочем, это мне только на руку. Сей юный приверженец папства и леди Марии, которого фанатизм довёл до посягательства на жизнь первого министра английского королевства, уже, по всей вероятности, даёт признательные показания в комнате пыток, а коли ещё нет, то там предостаточно всяческих инструментов, которые могут заставить говорить даже немого.
– Следовательно, вас можно поздравить, – сказал Ди, – ибо подобно нам, учёным, выдвигающим гипотезы, доказывающим теоремы и таким образом шаг за шагом продвигающимся к разгадке тайн вселенной, и вы, ваша светлость, также делаете успешные шаги по достижению ваших политических целей, которые бесспорно направлены на благо великой Англии.
– И всё благодаря вам, учёнейший Джон Ди, – не уставал расточать благодарности герцог, который находился в очень хорошем настроение в предвкушении того, как представит в Тайном Совете, а затем и в парламенте улики против Марии Тюдор, что даст основание взять её под стражу и не допустить восхождения на престол королевы-католички, когда не станет Эдварда. – Ежели бы не ваш точный астрологический прогноз, могло бы случиться непоправимое, – продолжил Нортумберленд, – ибо меня не столько пугает собственная судьба, сколь волнует будущее нашего королевства… Кстати, знаете ли, каким презабавным образом злоумышленник намеревался проникнуть во дворец? Ручаюсь, вы не догадаетесь даже при помощи всех ваших звёзд, какие только есть на небосводе.
– Осмелюсь заметить, ваша светлость, что Звёзды предназначены не для разгадывания злых помыслов, а для предсказывания человеческих судеб, – произнёс Ди, сверкнув глазами.
– Разумеется, доктор Ди, разумеется, – благожелательно продолжил Нортумберленд. – И всё же смеха ради я скажу вам: видите ли, молодчик пытался миновать стражей на воротах, придумав байку, что якобы… идёт к вам, дорогой Ди. Да-да, не удивляйтесь! Но откуда же невежественному шотландцу было знать, что великий Джон Ди благодаря небесным светилам и великой науке астрологии всё это предвидел!
Учёный муж побледнел и спросил:
– Как же звали этого юношу?
– Хм… Не припомню, чтобы при мне произносили его имя. Да и стоит ли, право, забивать голову такими мелочами? – ответил герцог.
Чело Ди покрыла грозовая туча, которая, казалось, вот-вот разразиться неистовым штормом с ураганным ветром и страшными молниями. Но учёный муж лишь мрачно сказал:
– Боюсь, что вы могли допустить огромную ошибку, которая тяжким камнем ляжет на мою совесть, ибо вероятно, что это – тот самый молодой человек, которого я пригласил в свою лабораторию и который должен был прийти именно сегодня. Ах, как я забыл об этом и позволил ему угодить в лапы ваших сбиров! Но, быть может, ещё не поздно спасти его от мучений! Заклинаю вас, герцог, пусть меня немедленно отведут в эту страшную комнату.
Нортумберленд недоуменно пожал плечами, серебряным свистком призвал телохранителя из-за двери и отдал соответствующие приказания. Он был явно раздосадован.
– Проклятье! – только и произнёс герцог, когда Джон Ди в сопровождении одного из телохранителей Нортумберленда покинул его комнату. Ещё бы! Ведь единым мигом рушился такой изумительный замысел, в одночасье возникший и обратившийся во прах. Эх, почему бы этому юнцу и в самом деле не быть подосланным убийцей! Тогда Марию можно было бы обвинить в государственной измене! И одному Богу известно, как она выкрутилась бы из этой ситуации.
Таковы были мысли Джона Дадли, герцога Нортумберлендского.
* * *
Когда боль стала почти невыносима – а может быть даже чуть раньше, – Ронан, не имея причин изображать из себя страстотерпца, заорал благим матом и таким страшным голосом, что натягивавшие верёвки стражники опешили и остановились.
– Не хочешь ли ты что-нибудь сказать? – спросил сэр Реджинальд, не оборачиваясь, ибо зрелище пыток было само по себе ему весьма противно, равно как и возложенное на него герцогом поручение.
– Одумайтесь, сэр! – взмолился юноша. – Вы мучаете невиновного человека! Неужели у вас нет сына или дочери, которые также могли бы стать жертвой наговора? По виду вы честный человек, так неужели вас не будут мучить угрызения совести, когда вы узнаете – надеюсь рано или поздно это случиться – о моей непричастности к этому ужасному обвинению?
Старый рыцарь задумался, видимо, впечатлённый увещеваниями мученика. Однако верность своему долгу и преданность Нортумберленду в конце концов возобладали, и он глухим голосом сказал стражникам:
– Продолжайте!
Те вновь нажали на рукоятки воротов по обеим сторонам дыбы. И опять раздался вопль страдальца. Но на этот раз мучители не ослабили своей хватки.
В этот страшный момент дверь каземата распахнулась и в комнату вошла, нет – чёрной птицей влетела, будто призрак, высокая фигура человека в тёмном одеянии.
– Остановитесь, заклинаю вас Гекатой! – прозвучал грозный окрик.
Скованные ужасом, оторопевшие стражники прекратили своё занятие, а сэр Реджинальд с негодованием обернулся к прервавшему допрос и рука его потянулась к рукояти меча. Лишь Ронан испытал несравненное чувство облегчения, ибо узнал голос доктора Ди.
Учёный муж бросился к дыбе с возгласом:
– О, Ронан! Что эти гнусные истязатели сделали с тобой?
– Пока что ничего непоправимого, доктор Ди, – ответил Ронан сквозь зубы и даже попытался изобразить улыбку. – Но если они немедленно не ослабят верёвки, то, ей богу, мои конечности разорвутся как перетянутая тетива лука.
Ди именем герцога приказал немедленно освободить юношу, которого тотчас же отвязали, аккуратно сняли с дыбы и положили на солому в углу. Пока Ронан приходил в себя, Ди объяснил сэру Реджинальду, что произошла страшная ошибка, и что герцог велел освободить юношу и доставить к нему.
Хотя старый воин и чувствовал себя смущённым за допущенную оплошность, но с другой стороны он был доволен тем, что с юноши пало такое страшное обвинение. Пусть это было и не на пользу Нортумберленду, думал сэр Реджинальд, зато Господь не допустил неправедных дел. К тому же, упорство, с каким молодой человек отстаивал свою правоту, изначально породило сомнения в душе честного солдата и вызывало искреннее уважение к страдальцу.
Примерно ещё через полчаса юноша наконец-то смог подняться и, поддерживаемый с обеих сторон доктором Ди и сэром Реджинальдом и превозмогая боль в конечностях, он покинул страшную комнату.
Когда Ронана ввели в кабинет герцога, тот как ни в чём не бывало улыбнулся и произнёс:
– Судя по тому, что ты вернулся на своих ногах, либо людям сэра Реджинальда не хватило усердия, либо наш любезный мэтр Ди ещё более всемогущ, чем я предполагал. В любом случае я весьма рад, что тебе не причинили большого вреда. Увы, доктор Ди не удосужился предупредить охрану дворца о твоём приходе, а стражники оказались чересчур бдительными и переусердствовали в выполнении своего долга.
Ди и Реджинальд стояли, молча потупив головы, прекрасно осознавая несправедливость слов герцога – как, впрочем, и он сам, – но разумно предпочли принять вину на себя. Ронан тоже молчал, не понимая, зачем его снова сюда привели.
– Мне хотелось бы, молодой человек, – продолжил Джон Дадли, – чтобы это маленькое недоразумение осталось между нами, и всё здесь тобой услышанное погрузилось бы в омут забвениея, как только ты покинешь эту комнату. – Герцог вопросительно взглянул на Ронана. – Разумеется, двери этого дворца открыты для ученика доктора Ди, как впрочем, и для других школяров и учёных мужей, которые пользуются моим покровительством.
– Благодарю вашу светлость, – ответил Ронан, у которого на уме было лишь одно: поскорее выбраться из этого страшного дома. – Клянусь честью, я не поведаю никому и слова о произошедшем нынче недоразумении.
– Вот и хорошо, – удовлетворённо молвил герцог. – И последнее. Поскольку я обязан вернуть тебе твою собственность, а именно, вот этот перстенёк, то не мог бы ты удовлетворить моё любопытство: откуда он у тебя? Надеюсь, ты благоразумно не будешь делать из этого тайну?
– В этом нет никакого секрета, – простодушно ответил Ронан. – Я уже говорил сэру Реджинальду при допросе… то есть, я хотел сказать, при нашей с ним любезной беседе, что мне его подарила юная леди, в жилах которой течёт королевская кровь. Она приходится правнучкой королю Генриху Седьмому и её зовут леди Джейн Грей.
– Джейн Грей… – повторил Нортумберленд, после чего вдруг впал в глубокую задумчивость, которую никто не осмеливался прервать.
Вдруг лицо герцога озарила торжественная улыбка, смысл которой был понятен лишь ему одному. Джон Дадли принялся мерить шагами комнату, видимо, обдумывая новую, осенившую его блестящую идею, и иногда повторяя имя девушки. Он так увлёкся выстраиванием в голове своих политических планов, что не скоро вспомнил, что не один в комнате. Затем вдруг увидев неожиданно перед собой Ронана, герцог махнул рукой, давая понять, чтобы его оставили одного…
Ронан с доктором Ди вышли на свежий воздух, который тут же наполнил лёгкие юноши зимней прохладой. Учёный муж счёл необходимым проводить ослабшего Ронана до самого Саутворка. Пока они плыли в лодке, Ди выразил надежду, что нынешнее злоключение не охладит рвение его ученика к науке. На это молодой шотландец честно признался, что уже вдоволь насмотрелся за последние пару часов, и у него нет никакого намерения вновь встречаться с герцогом, а уж тем паче с комнатой пыток.
– О, дорогой Ронан! Мне будет очень жаль, ежели ты не увидишь perpetum mobile, который создал при помощи синьора Кардано, и не глянешь в чудесный камень, в коем при определённых условиях можно узреть… грядущее. Приходи завтра, и – клянусь великой наукой! – никто не посмеет коснуться тебя. А Нортумберленд про тебя, должно быть, и вовсе уже забыл, уж поверь мне, ибо голова у него забита государственными заботами, политическими интригами и всяческими честолюбивыми помыслами. Приходи непременно, и обещаю, что стража при воротах встретит тебя с почтительным трепетом, подобно тому, как смертные встречают полнолуние…
И на следующий день Ронан снова предстал перед высокими вратами дворца Элай.
Глава XXXIX
Именитые учёные
Душу юного шотландца ещё не покинуло сомнение в правильности своего вторичного прихода в место, в первый же день оказавшееся таким негостеприимным.
Накануне Алиса очень удивилась его быстрому возвращению и сразу засыпала вопросами. Ей явно было любопытно, каков он, этот таинственный учёный и не оборотил ли, ежели не тело, то душу Ронана в какую-нибудь неведомую ипостась. Наслышавшись разговоров от своих невежественных подруг по приходу святого Олафа про всяческих магов и чернокнижников, девушка очень беспокоилась за Ронана; к тому же давеча она ненароком подслушала тираду Гудинафа о мрачном дворце. К своему вящему ужасу она поняла, что её опасения оказались небезосновательными, ибо Ронан, сославшись на недомогание (едва ли кто после тесного знакомства с дыбой мог похвастаться отменным самочувствием), отправился в свою комнату и даже не вышел к ужину, попросив принести его наверх. Заглянувшему к нему сэру Хью он также пояснил, что ему несколько нездоровится и должно сегодня отлежаться. Впрочем, от Уилаби не укрылась затаённое беспокойство Ронана, но командор счёл это за увлечённость юноши науками, не стал досаждать ему лишними расспросами и оставил в покое…
И вот теперь юноша снова вступил в мрачные чертоги Элай. Стражники, предупреждённые на сей раз о его приходе, пропустили Ронана через небольшую калитку в воротах, сразу за которой его встретил сам сэр Реджинальд. Он приветливо улыбнулся и сказал:
– Добро пожаловать в Элай, Ронан Лангдэйл! Доктор Ди мне кое-что поведал о тебе, и я всемерно благодарю Бога, что не причинил давеча большого вреда такому отважному юноше и к тому же даровитому школяру. Надеюсь, ты не в обиде на старого воина, который всего лишь обязан выполнять приказы своего повелителя. Впрочем, я по твоему лицу вижу, что ты ещё не забыл минувший день. Ну-ну, не держи зла на старика. Дабы возместить нанесённую тебе вчера обиду я самолично провожу тебя к Мастеру Ди.
Ронан, смущённый такой помпезной, как ему показалось, встречей, поблагодарил в мыслях доктора Ди и также простил в сердце сэра Реджинальда за вчерашнее.
Они пересекли несколько длинных анфилад, извилистых коридоров и внутренних двориков. Никогда ещё Ронан не видал столь странного дворца, запутанного словно лабиринт: видимо, всевластные английские епископы строили и достраивали его здания на протяжении не одного века, в результате чего он принял столь замысловатые очертания. Далее сэр Реджинальд с Ронаном прошли мимо небольшой старинной церкви, служившей, по всей вероятности, фамильной часовней для хозяев дворца, затем углубились в раскинувшийся позади парк или сад, выглядевший в это время года пустынным и невзрачным, и, наконец, у дальнего его конца остановились перед одиноко высившейся башней. Было совершенно непостижимо, с какой целью строители воздвигли её в этом месте, столь обособленно от других зданий дворца, и эта непонятность придавала башенке ещё более таинственный вид.
Сэр Реджинальд попробовал открыть дверь, но она не поддалась, тогда он постучал большим прибитым к двери массивным железным кольцом, наполовину уже изъеденным ржавчиной. Звук ударов отозвался глухим эхом позади двери, которая через некоторое время открылась, и на пороге появился сам Джон Ди.
Учёный поблагодарил великодушного Реджинальда за оказанную любезность в препровождении юноши в сию обитель науки, пропустил Ронана внутрь, вежливо поклонился воину, пытавшемуся глянуть через его плечо, и затем бесцеремонно захлопнул дверь перед его носом. Сэр Реджинальд иронично ухмыльнулся и пошёл прочь, бормоча вслух:
– Вот уж верно говорят, что все эти учёные, астрологи и чудодеи – с превеликими странностями. Взять хоть этого старого итальянца, надутого как петух, да и голос у него кукареканье напоминает. А доктор Ди с его вечными тайнами и тёмными одеждами! Говорят, на валлийском наречии «ди » и значит что «чёрный» …
Ронан тем временем оглядывался внутри башни. На первом её этаже было темно, ибо окон здесь не было вовсе, и лишь слабый свет фонаря позволял заметить несколько узких дверей по сторонам и поднимающуюся вдоль стены деревянную лестницу. Откуда-то сверху доносилось мерное еле слышное постукивание, будто гном-кузнец колотил по наковальне в своей маленькой кузне, или же сверчок выбрал одинокую башню местом своего житья.
Ди стал подниматься по лестнице и пригласил юношу следовать за ним. На следующем ярусе было гораздо светлее из-за открытых оконных ставен, горевших шандалов и тлеющих в камине углей. Посреди комнаты за столом, напряжённо углубившись в чтение, сидел человек.
– Синьор Кардано, – сказал Ди по-французски, – вот юноша, про которого я давеча вам толковал.
Человек нехотя поднял голову, как бы недовольный, что его оторвали от дела, и действительно, беспокойный и сердитый взгляд на его смуглом лице выдавал раздражительный характер. Что касается внешности, то в наше время сказали бы, что облик его напоминал Мефистофеля: короткие волосы, от природы чёрные, но сейчас уже седые, оставляли открытым большой покатый лоб; из-под тонких длинных бровей глядели тёмные глаза с горящим в них злым огоньком; орлиный нос, острые скулы, испанская бородка ещё более подчеркивали сходство с вышеупомянутым персонажем. Необычности этого человека добавляла одежда иностранного покроя.
– Надеюсь, что сей жалкий юнец не будет мешать нашим занятиям, – бросил Кардано также на французском языке. – Но более всего меня волнует, Ди, как бы он не разболтал кому ни попади все наши секреты.
– Я ручаюсь за него, Hieronimus.
– Фи! Мне недостаточно вашего ручательства, синьор Ди, – раздражённо заявил Кардано и воскликнул капризным тоном: – Пусть молодчик сам поклянётся кровью Христовой, что ни слова, здесь услышанного, не вынесет из этих круглых стен!
Поначалу Ронана возмутил презрительный тон вздорного итальянца, но почувствовав лёгкое прикосновение руки доктора Ди, юноша овладел собой и смиренно произнёс требовавшуюся от него клятву. Надо заметить, что юный шотландец, сам по себе простой и доверчивый, начинал уже тяготиться атмосферой чрезвычайной таинственности, которой в этом дворце была окутана, казалось, каждая фраза и каждый уголок. Однако, любопытство перевесило всё и даже бестактность и необузданность нрава синьора Кардано.
Удовлетворённый клятвой, итальянец вновь склонился над лежавшей перед ним бумагой и принялся водить по ней пальцем.
– Удалось ли вам обнаружить ущербность сей perpetuum mobile, или же мой рисунок не совсем понятен? – спросил подошедший к нему Ди.
– Чертёж ваш вполне ясен, Ди, – сказал итальянец. – Однако, почему вы разумеете, что число молоточков должно быть нечётным?
– О, Hieronimus, я исхожу из простого рассуждения, что одно опрокидывание молоточка создаёт парное ему движение противоположной дуги окружности маховика; ежели число грузил вдоль окружности будет парное, то движение вниз и движение вверх будут компенсировать друг друга, и мы не получим прироста прибавочной силы; а без новой силы движение рано или поздно закончится. Подобно и планеты, коих число нечётное, движутся вечно вокруг нашей Земли.
– Пусть движение планет и безостановочно, о чём и не поспоришь, – согласился Кардано, – но всё же, я твёрдо убеждён, что создать действенный perpetuum mobile это всего лишь иллюзорная мечта, недостижимая как Солнце и погубившая уже немало даровитых механиков, уподобившихся легкомысленному Икару. Мне было бы тягостно видеть вас, carissime, в их рядах.
– Я не исключаю вашей правоты, Hieronimus, но мне должно в сём увериться. Usus est optimus magister81 – настаивал Ди.
– Абсурд! Nihil ex nihilo fit!82 – в свою очередь упрямо твердил Кардано. – И глупцу понятно: дабы двинуть камень с места, надо приложить усилие. Вы же, carissime, хотите смастерить не что иное как приспособление, которое само по себе двигало бы камни!
– Но что же в таком случае двигает планеты вокруг Земли, любезный Hieronimus, как не вселенский perpetuum mobile, устройство которого мы пока не ведаем? Однако, ежели мы создадим perpetuum mobile здесь, в нашем подлунном мире, то тем самым не только получим ключ к разгадке тайны вселенского движения, но и обретём дармовую рабочую силу, каковая будет вместо людей приводить в движение все механизмы! – с вящей убеждённостью произнёс Ди, а, подумав, добавил: – К тому же сие открытие озолотит человека, овладевшего секретом дарового источника движения!
– Несчастный! По вашему бредовому разумению планетами движет perpetuum mobile! А по моим представлениям, вселенское движение подвластно неведомым ещё человечеству силам, происхождение коих божественно, как и всё в мире!
Пока учёные горячо и долго спорили между собой, Ронан огляделся и нашёл источник странного постукивания. То было большое колесо, около трёх футов в диаметре, стоявшее в дальнем углу комнаты и неспешно, крутившееся безо всякой видимой на то причины. Юноша подошёл ближе, чтобы рассмотреть диковинный механизм. По диаметру колеса с наружной стороны на равном друг от друга расстоянии были прикреплены несколько десятков грузиков, по форме своей напоминавших миниатюрные молотки. Когда при движении колеса молоточек оказывался на самом верху и начинал двигаться дальше вместе с колесом, то он опрокидывался вниз и тем самым как бы толкал колесо, заставляя его крутиться дальше. При этом опрокидывании и раздавалось то странное постукивание, звук которого чуткий молодой слух уловил ещё внизу. Забыв обо всём на свете, Ронан заворожёно смотрел на медленное, ритмичное движение колеса, которое неутомимо крутилось с неизменной скоростью, и казалось, будет так вращаться вечно. Это самовращение выглядело крайне неправдоподобно и напоминало настоящее волшебство. Подумать только, колесо крутилось само по себе! Его не двигала ни вода или ветер как в мельницах, ни пружина как в часовом механизме, и, тем не менее, оно двигалось, двигалось благодаря самому себе же!
Невежественный обыватель шестнадцатого века, несомненно, приписал бы это чудодейственное движение колдовству и чёрной магии, ибо в ту пору ещё сильны были предрассудки и вера в чародейство. Ронан же быстро смекнул, что именно заставляло колесо вращаться, и он как образованный человек, разумеется, не мог не изумиться простоте и гениальности этого механизма.
Из волшебного оцепенения юношу вывели подошедшие к чудесному устройству Ди с Кардано, всё ещё шумно дискутируя. Итальянец оживлённо жестикулировал, иногда переходил на крик и призывал в свидетели деву Марию и поимённо всех святых, в то время как Ди хранил невозмутимый вид, отвечал вразумительно и с какой-то мрачной торжественностью.
Остановившись у колеса, Кардано некоторое время внимательно взирал на него, что-то подсчитывая в уме, а потом возвестил, разом разрушив всё магическое очарование, охватившее Ронана:
– Оно останавливается, останавливается! Я же говорил вам, Ди, что оно не будет вращаться долго, а тем паче вечно! Час назад один полный оборот совершался на счёт восемьдесят три, а сейчас уже на девяносто восемь. Contraption inutilis83! Мне искренне жаль вас, carissime. Оставьте же сию напрасную затею бездарям-механикам, коих снедает зависть к истинным гениям, подобно нам с вами, и кои тщетно грезят о славе и золоте.
– Хм… Вероятно, я недостаточно смазал соединения механизма, – задумчиво молвил Джон Ди. – Завтра я накажу слугам достать мне лучшего в Лондоне масла и запущу perpetuum mobie ещё раз. Или же поразмышляю над тем, дабы вместо падающих грузиков поместить ёмкости, внутри которых при вращении ртуть перетекала бы из одного конца в другой, подобно тому, что я видел на чертеже в Лейдене.
– Не уподобляйтесь Сизифу, amico mio! – увещевал сотоварища Кардано. – Однако, кажется, я слышу стук в дверь. Судя по урчанию в моём животе, это, должно статься, прибыл наш обед.
И в самом деле, внизу стояли девушка-кухарка с мальчиком, помогавшем ей принести трапезу из дворцовой кухни. А готовили в Элай превосходно. Если кратко, то обед для учёных затворников из башни в саду состоял в тот день из гуся в гренках, жаркого под слоем розмарина, угрей в кляре, пирогов и, разумеется, большого кувшина вина…
В конце трапезы, запив всё прекрасным рейнвейном, итальянец произнёс ублаготворённым тоном:
– Повара Нортумберленда достойны всяческих похвал. Но стоит признать, у шотландского архиепископа потчевали куда лучше, да простит меня его светлость.
– К месту заметить, Hieronimus, мой юный ученик, равно как и вы недавно прибыл из Шотландии. Не могли вы ненароком встречаться там, в холодной северной стране? – полюбопытствовал Ди и добавил, обращаясь к Ронану: – Наш почтенный итальянский учёный, будучи в шотландском королевстве, исцелил тамошнего архиепископа Гамильтона от пренеприятнейшей хвори, чего ни шотландские, ни английские лекари сделать были не в силах.
– Да что там шотландские и английские! Сего государственного мужа врачевали первейшие светила лекарского искусства со всей Европы. Но никто, никто, кроме меня , не смог облегчить его страданий и избавить от противной напасти! – заявил Кардано, горделиво вскинув голову, потом глянул на Ронана и добавил: – А шанс моей встречи с вашим учеником в оной ещё более дикой, чем Англия стране равнялся одному к ста тысячам.
– О! В исследовании шансов вам нет равных, Hieronimus, – восхищённым тоном произнёс Ди. – К слову сказать, я прочитал вашу рукопись про игру в кости.
– Ну и каково же ваше суждение, Ди, о моей гениальной Liber de ludo aleae? – поинтересовался Кардано, не ждавший, разумеется, ничего, кроме похвал.
– Ежели бы я был, подобно вам, приверженцем азартных игр, то не преминул бы воспользоваться сим руководством, – ответил Ди. – Однако, помимо элегантно изложенных моральных соображений в вашем манускрипте наличествует и здравое научное зерно, могущее заинтересовать любого математика.
– Вы, должно быть, имеете в виду те страницы, где писано про окружение возможных случаев и вероятие событий?
– Именно, Hieronimus! Сии идеи, несомненно, можно использовать и для предсказаний будущих явлений. В отличие от невежественных вещателей, лже-провидцев и прочих шарлатанов мы с помощью науки – астрологии и математики – будем в силах наперёд предсказывать события, кои произойдут как в скором времени, так и через месяцы и годы!
– Однако же, у меня зародилась замечательная идея, Ди! Раз уж мы завели речь о шансах и вероятиях, то где, как не в игре в кости можно испытать действенность моих мыслей?
– Должен заметить, что я не играю в азартные игры, к коим как самим по себе я отношусь весьма неодобрительно, – осторожно ответил Ди.
– Ох, как вы не правы, carrissime! Поверьте мне, игра в карты, кости и триктрак питает человека живительной силой, не даёт закоснеть его чувствительности и развивает проворность мышления. К тому же при правильном подходе к игре, о чём вы, конечно же, прочитали в моей рукописи, можно выучиться получать от неё выгоду.
– В таком случае, синьор Кардано, почему вы до сих пор не стали богачом? – наивно спросил Ронан, доселе молча слушавший разговор учёных мужей.
– Я гораздо богаче, нежели ты полагаешь, юнец! – негодующе вскричал Кардано. – Ежели я и не обеспечен земными благами, то я богат такими глубокими познаниями, кои рано или поздно озолотят меня! Ди, призываю вас в свидетели, что этот молокосос осмелился бросить вызов мне, величайшему из учёных!
– Простите, синьор Кардано, я ничуть не намеревался оскорбить вас, – попытался оправдаться Ронан. – Невозможно усомниться в вашей выдающейся учёности, как нельзя усомниться в глубине морской бездны. Я лишь полюбопытствовал, почему вы доселе не использовали свои познания для обогащения посредством азартных игр.
– Я усматриваю толику правды в словах юноши, Hieronimus, – вступился за ученика доктор Ди. – Ежели я был бы таким приверженцем азартных игр как вы, и познал бы секреты выигрывания, я бы отверг всех графов и герцогов с их подачками и посвятил бы себя лишь чистой науке.
– Хорошо же, я вам докажу мою правоту! – выкрикнул итальянец, вскочил из-за стола и через минуту вернулся с деревянным стаканом и высыпал на стол пять маленьких кубиков из слоновой кости. – Ну, кто будет со мной играть?
– Увы, синьор Кардано, я не могу принять ваше радушное приглашение, – бесстрастно ответил Ди, – ибо давно поклялся перед Богом, что не притронусь ни к костям, ни к картам.
– Тогда ты! – воскликнул итальянец, ткнув пальцем в Ронана.
– Но я и понятия не имею об этой игре и её правилах, – смущённо ответил юноша. – Вдобавок, я сомневаюсь, что игра в кости есть безвинное занятие, а не тенета дьявола.
– Прочь сомнения и страхи, несмышленый ты человек! Кости – столь же безвинная игра, как и шахматы и требуют такого же благоволения небес, – увещал Кардано.
– Ну, не знаю, право… – неуверенно молвил Ронан.
– Ты должен бросить кости, юноша, ибо сие занятие будет вовсе не игрой, а expertio disciplinaris84, дабы развеять высказанные тобою сомнения и проверить мои предположения, – сказал итальянец и словами своими припёр юношу к стенке, не оставив тому ни малейшего шанса к отступлению. – А чтобы ты не мог ссылаться на неопытность, мы сыграем в самую простую разновидность сей древнейшей игры.
Кардано оставил только два костяных кубика и объяснил правила. Они несколько раз бросили кости и на весьма маленькие ставки. Удача сопутствовала то одному игроку, то другому. Постепенно Ронан почувствовал, как лёгкий азарт начинает охватывать его, подобно тому, как задор завладевает мальчишками при состязаниях в силе и быстроте.
И в самом деле, поначалу игра напоминала весёлую детскую забаву, приносящую лишь удовольствие. Особенно настроение юного шотландца поднялось, когда он выиграл четыре броска подряд. Ронан начал уже насмешливо посматривать на соперника.
– Похоже, Фортуна опять отвернулась от меня, – сокрушённо промолвил итальянец. – Может быть, она станет благосклонней, ежели я перестану жадничать и увеличу ставку, скажем, в десять раз. – Кардано вопросительно посмотрел на молодого соперника.
– Идёт, – согласился юноша, уверенный, что раз уж ухватил за хвост удачу, то никак не упустит теперь её из своих рук.
Снова бросили кости, и опять выиграл Ронан. Даже сквозь смуглую кожу старого итальянца было заметно, как побледнело его лицо. Но Кардано потребовал увеличить ставку ещё в десять раз!
– Ради бога, остановитесь пока не поздно, Hieronimus! – попытался унять его азарт Джон Ди. – Вы же видите, что нынче вам крайне не везёт. Должно быть, в сей день сочетания небесных светил не благоволят вам и сулят потери в азартных играх.
Однако сдержать Кардано уже было невозможно. Глаза его горели лихорадочным огнём, губы были плотно сжаты, а руки слегка дрожали. Кости снова были брошены, и вмиг всё изменилось: лицо итальянца воссияло неописуемым восторгом, и он благодарственно воздел руки к небу – на этот раз выиграл он, и, вдобавок, выиграл при наибольшей ставке!
Ронан поначалу удивлённо воззрился на соперника, пока, наконец, не осознал, что произошло. Он почувствовал, будто на него опрокинули бадью ледяной воды, и растерянно смотрел то на доктора Ди, сидевшего в глубоком раздумье, то на злосчастные кости, вызывающе разбросанные на столе, и был абсолютно не в состоянии понять, как же это он умудрился выставить себя таким глупцом. И уж совсем не по себе стало юному шотландцу, когда он обнаружил, что бывших при нём денег не хватит, чтобы рассчитаться с Кардано. Но довольный выигрышем и враз подобревший итальянец любезно согласился подождать до следующего дня.
– Ну, чем сей выигрыш не доказательство верности моего метода? – торжествующе сказал победитель.
– Что ни говорите, а я никак не возьму в толк, как вдруг так разом я лишился всех денег, – сокрушался Ронан, в голосе которого досада смешивалась с обидой. – Могу только сказать, что никто прежде не одурачивал меня так ловко, словно я малое дитя, как сделали это вы, синьор Кардано. Верно, Господь меня наказал за то, что я поддался дьявольскому искушению и сел играть с вами в кости.
– Ну-ну, не стоит вешать нос, iuvenis. Ты потерял какие-то жалкие монеты, но приобрёл многоценный опыт и при том позволил мне увериться в истинности моих рассуждений. Более того, я открою тебе секрет моего выигрыша, дабы ты не считал меня обманщиком и мог бы сам применять сей способ в азартных играх, – благодушно сказал итальянец.
– Сомневаюсь, что я когда-либо ещё возьму в руки эти проклятые кости или сяду за карточный стол, – удручённо заметил Ронан.
– Хм… Дело твоё, но не торопись зарекаться, – продолжал Кардано. – А сейчас внимай моим словам, iuvenis… Ежели, к примеру, подбросить крону, то каков шанс, что монета упадёт монаршим ликом вверх? Один к двум, не так ли? Предположим, в первый раз выпала королевская голова. А ежели бросить крону ещё раз, что выпадет на сей раз?
– Опять один к двум, что выпадет лик, ясно как божий день! – ответил Ронан.
– Пусть будет, как ты разумеешь, – согласился учёный муж. – Допустим опять, что крона упала головой вверх, и мы намереваемся вновь бросить монету. К какому результату ты склоняешься в третий бросок?
– Да какая разница, сколько раз метать монету? – недоумевал юноша. – Ежели кидать крону честно, то всякий раз шанс, что выпадет голова, будет равняться шансу, что выпадет герб. Либо голова, либо герб. И в четвёртый, и в пятый раз!
– Вот и я так полагал прежде, – глубокомысленно изрёк итальянец. – Но потом я принялся рассуждать логически, словно древний философ. Ведь выпадение пять раз подряд одной стороны монеты есть явление, встречающееся весьма редко, так что пальцы устанут от подбрасываний. Сие событие, несомненно, имеет крайне мало шансов на осуществление, хотя ежели бросать полчаса, оно наверняка произойдёт… Таким образом, когда у нас одна сторона выпала четыре раза подряд, то выпадение её в пятый раз представляется маловероятным, ибо приведёт к осуществлению крайне редкого в нашем понимании случая. Естественно ожидать, что, скорее всего, произойдёт более частое событие, а именно – когда на пятый раз выпадет другая сторона монеты… Куда реже одна сторона выпадает пять раз кряду. В оном случае я вправе ещё более ожидать, что в шестой раз более вероятно выпадет противоположная сторона монеты. Итак, я утверждаю, что чем большее число подряд выпала одна сторона монеты, тем меньше вероятие выпадения сей стороны в последующий раз! Сие было явственно доказано моим выигрышем. Вспомните, как я поднял ставку многократно сразу после того, как четыре раза кряду выпала голова. И поначалу я был весьма разочарован, когда голова выпала и в пятый раз. Но я был уверен, что в шестой раз шансов, что выпадет герб, было гораздо больше, нежели в пятый. Так и случилось, хвала Господу!
Кардано торжествующе оглядывал своих собеседников, погружённых в обдумывание его слов. Ронан силился вникнуть в смысл рассуждений итальянца, однако, то ли неискушённость в столь замысловатых материях, то ли огорчение от проигрыша мешали ему осмыслить умозаключения итальянского учёного. Джон Ди, напротив, быстро ухватил нить рассуждений Джероламо Кардано, но ответ его был туманен:
– Ваши доводы, Hieronimus, показались мне на первый взгляд вполне логичными, каковыми и пристало быть умозаключениям именитого учёного. И всё же должен признаться, что мне они напоминают скорее энтимему, чем доказанную теорему. Возможно, я ещё мало сведущ в вопросах шансов и вероятий, что и не позволяет мне оценить по достоинству ваше утверждение… Позвольте же мне спросить, синьор Кардано, почему вы до сих пор не напечатали вашу книгу об игре в кости? В наше время она пользовалась бы огромным спросом.
– Она ещё не закончена, Джон Ди, – фыркнул итальянец. – Вы даже не найдёте там сего истинного утверждения, кое вы снисходительно обозвали энтимемой. Но настанет время и человечество прочтёт мою Liber de ludo aleae!
– Уверен, что не для того, чтобы проигрывать деньги, как соблаговолил ныне сделать наш дорогой discipulus85, – заметил Ди не без доли сарказма.
Итальянец позволил себе не обратить внимания на колкость Ди, и бросил взгляд на Ронана, на котором и в самом деле лица не было. Юноша никак не мог забыть свой глупый проигрыш и всё досадовал на собственное неразумие, ему было неприятно и стыдно.
– Как же нам утешить молодца, а, Ди? – спросил Кардано. – Вернуть ему деньги было бы против всех правил, да и он сам как честный человек, полагаю, не взял бы их обратно.
– Да и вы, Hieronimus, навряд ли расстались бы с выигрышем, – ехидно обронил Ди, которому было искренне жаль юношу, и он корил себя за то, что позволил Ронану втянуть себя в игру.
– Ну, хорошо, iuvenis, так уж и быть, я поведаю тебе ещё один ценнейший секрет! – торжественно произнёс итальянец, словно собирался рассказать о спрятанном кладе. – С его помощью ты будешь властен над тайнописью и сможешь обмениваться тайными записками, не опасаясь, что их прочтут, попади они в руки твоих недоброжелателей.
Ронан поднял голову и заставил себя сделать вид, что заинтересовался словами Кардано, не ведая ещё, как сильно в будущем ему пригодится подобная тайнопись. Итальянец же извлёк откуда-то тонкую деревянную дощечку со стороной около десяти дюймов. Прямыми линиями вдоль и поперёк дощечка была расчерчена на клетки, часть из которых, около четверти, была аккуратно вырезана. Затем Кардано показал, как с помощью этого инструмента можно составить зашифрованное послание и как его прочитать: он приложил дощечку к чистому листу бумаги, заполнил подряд все вырезанные клетки, затем повернул дощечку на четверть оборота и снова вписал буквы в пустые ячейки, и так повторил ещё два раза. После этого учёный муж дал дощечку Ронану и предложил ему прочитать написанное. Юноша быстро смекнул, что достаточно приложить дощечку к бумаге и поворачивать её на четверть оборота, пока буквы в отверстиях не начнут складываться в слова. И скоро он прочитал:
– Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare86…
И снова Ронан вернулся в дом Уилаби не в духе. Стыд не позволил ему поведать кому-либо о своём глупом проигрыше в кости, а на все вопросы о дворце Элай и докторе Ди он отвечал, что дал клятвенное обещание ничего об этом не рассказывать.
– Бедный Ронан, – сказала Алиса, когда осталась наедине с сэром Хью. – Он вот уже второй день почти не улыбается и аппетит за ужином у него был хуже некуда. Очень уж я опасаюсь, дядюшка, что все эти учёные занятия завлекут милого юношу в колдовские сети чёрной магии. Вот!
– Эх, наслушалась ты, красавица, досужих разговоров, вот тебе и мнится всякая ахинея, – с улыбкой ответил Уилаби. – Лучше бы ты пошла и развеяла задумчивость молодца игрой на вёрджинел или лютне. Заметил я, что уж больно ему по душе слушать, как ты извлекаешь из инструментов чудесную музыку.
– Правда, дядя Хью? – спросила девушка чересчур уж обрадованным голосом, тут же смутилась, а её щёчки покрыл нежный румянец. – Я хотела сказать, вы и в самом деле полагаете, что мне стоит попытаться развеселить нашего гостя с помощью музыки?
– По моему разумению, это лучшее, что ты можешь сделать, егоза, – ответил командор.
– Спасибо, дядюшка, – ответила Алиса и убежала разыскивать Ронана…
На следующий день по просьбе Ди юноша должен был придти в башню в очень ранний час, ибо им предстояли опыты, которые, по словам учёного мужа, надобно начинать в ночное время при полной Луне.
Ронан приближался к обители наук по тёмному саду, изредка освещаемому царицей ночи, когда она милостиво изволила показывать себя из-под туманного одеяния. После вечера, проведённого в обществе очаровательной Алисы, все горести сразу забылись, и настроение у него было приподнятое. На ум юноше пришли стихи какого-то античного поэта:
Звезды близ прекрасной Луны тотчас же
Весь теряют яркий свой блеск, едва лишь
Над землёй она, серебром сияя,
Полная, встанет.
Очарованному предрассветной тишиной и серебристым лунным сиянием, Ронану захотелось задержаться в ночном саду ещё на пару мгновений и пройтись вокруг башни. Когда он оказался на другой её стороне, то услышал голоса, раздававшиеся из приоткрытого окна, того самого, через которое Ди и Кардано наблюдали обычно ночное небо. Влекомый любопытством юноша подошёл вплотную к стене и приложил ухо к каменной кладке, полагая, что не совершит ничего зазорного, послушав речи мудрецов.
– Смотрите, Hieronimus, Марс находится в созвездии Стрельца, что для нашего короля свидетельствует о том, что на его судьбу может повлиять некий могущественный человек, отмеченный печатью воинственности. Учли ли вы сие обстоятельство в карте судьбы Эдварда?
– Разумеется, Ди, я принял во внимание все сочетания светил, как велит великая и безошибочная астрология. Но все предсказания звёзд и планет для английского короля будут также лживы и обманчивы, как шулерский пятый туз в карточной колоде, ибо судьба юноши начертана на его лике!
– Как так, Hieronimus?
– Я готов поставить тысячу крон против одной за то, что юный английский кесарь не доживёт до следующего Рождества! Ежели я увидал бы хоть один шанс на его выздоровления, разве в силах был бы я отказаться от той преогромной беспроигрышной ставки, иначе говоря – денег, предложенных мне герцогом Нортумберлендским за излечение короля?
– Так значит, Нортумберленду известно о неизбежной смерти Эдварда?
– В своей речи я дал понять ему, что питаю мало надежды на выздоровление короля, и полагаю, он верно истолковал мои слова.
– Но для чего, Hieronimus, вы утруждаете себя наблюдением за небесными светилами и составляете карту судьбы Эдварда, ежели он обречён на столь раннюю кончину?
– Я хоть и намного старше вас, Ди, но не против ещё немного пожить на этом свете и хотя бы увидеть мою родную землю. Посчитайте-ка, коли я предреку смерть королю и на сём основании откажусь от начертания карты монаршей судьбы, сколько дней мне дадут прожить после оного глупейшего поступка. А? Да меня тут же обвинят в шарлатанстве и колдовстве или в шпионаже и подстрекательстве к раздорам! Нет, не такой я ещё осёл, чтоб гибнуть ради упрямой преданности истине!
– Но ведь Нортумберленд и Чеке ждут от вас гороскоп короля, и наверняка они рассчитывают увидеть благожелательное отношение светил к юному Эдварду. Право, ума не приложу, как вы выберетесь из неприятного положения, Hieronimus.
– Ну, так они и получат то, что хотят! Видите ли, carissime, моё самое большое желание ныне это покинуть вашу холодную страну как можно скорее, но мои договорённости с Нортумберлендом держат меня в Лондоне до апреля. И дабы дождаться сего благословенного месяца, я предоставлю им благожелательную карту судьбы короля.
– Но сие будет astro falsum, что опорочит нашу науку…
– …и вызволит меня из неприятного положения. Не так ли, Ди?
Тут окно захлопнулось, и Ронан остался в кромешной тьме, ибо тяжёлые облака заволокли всё небо.
«Выходит, что истинная наука может становиться ложной, когда приближается к сильным мира сего, – подумал юноша, – равно как восхитетльное вино теряет свой вкус и делается отвратительным, будучи перелитым в бутыль, где прежде держали уксус»…
Ди встретил Ронана со словами, что всё уже готово к началу и не хватает только его.
Глава XL
Медиум
Лицо доктора Ди, освещённое светом фонаря, как всегда было таинственно и непроницаемо, лишь в глазах читалось предвкушение чего-то великого. Учёный провёл Ронана в небольшую комнатку на самом верхнем этаже башни. Ставни снаружи были закрыты, а окна внутри плотно завешены драпировкой, так что ни единый лучик света извне не проникал в комнату. Посредине находился круглый столик, а на нём горела одинокая свеча. Её ровный свет падал на лоскут алой шёлковой ткани, прятавший под своим покровом некий предмет.
– Человечество издавна терзается вопросом, что ожидает в будущем нас всех и каждого в отдельности, – начал Ди. – Сие ведомо лишь одному вседержителю, но благостный Бог не оставляет нас своей милостью и посылает нам через ангелов знаки, кои, однако, закодированы таким образом, дабы не каждый смертный мог их уразуметь, а лишь избранные. И в основе оного знания лежит математика и числа. Так, применяя математику к небесным светилам, мы получаем науку астрологию, позволяющую начертать карту жизни индивидуума. Но и астрология имеет свои пределы, ибо она в основном даёт лишь общие предвидения событий и не позволяет получить ответов на многие вседневные вопросы, кои относятся, как к будущему, так и к прошлому и настоящему. Ныне я вознамерился испробовать сей methodus87, дабы искать помощи и советов у ангелов, носителей божественных знаний. Много раз мы вдвоём с синьором Кардано пробовали добиться результата, однако же, увы, нам ничего не открылось, что, вероятно, связано с нашей чрезмерной искушённостью в науках и обременённостью мыслей. Посему я и вознамерился испробовать в сих опытах не столь сведущего индивидуума, и ты, Ронан Лангдэйл, с твоей юношеской наивностью и простосердечием показался мне наиболее подходящим для созерцания человеком, которого мы зовём medium.
– Для созерцания? – удивился Ронан.
Джон Ди совлёк покрывало, и под ним оказалось диковинное зеркальце. Странность его заключалась не столько в причудливой серебряной оправе, покрытой непонятными кабалистическими знаками и узорами, и не в резной подставке, напоминавшей то ли змея, то ли дракона, а в самой поверхности зеркала. Это было не стекло, а некий тёмный, почти чёрный материал, отполированный до такой степени, что отражаемое в нём пламя свечи было словно настоящее. В тёмной комнате могло показаться, будто горят две одинаковые подлинные свечи, если бы не отблески серебряной оправы.
– Для проникновения в тайны, наиболее значимые для индивидуума, – продолжал Ди, – люди издревле пользуют отражающие плоскости, как, например, зеркала, специальным способом изготовленные. Однако же, самыми пригодными для сих целей считаются зеркала, сделанные из obsidianus lapis88, самого загадочного камня на Земле; он впитал в себя силу животворящего Огня и посему обладает разными магическими свойствами.
Далее Джон Ди объяснил юноше, в чём состоит суть опыта и что тому предстоит делать. Прежде чем приступить учёный муж предложил Ронану помолиться, и сделать это искренне от всего сердца, дабы отбросить прочь все отягчающие душу и сознание помыслы. Сам Ди и показал пример такого проникновения моления. На целых полчаса он погрузился, казалось, в некий потусторонний мир, где не существует ничего материального, а лишь одна его душа, взывающая к всемогущему Богу.
Юноша попытался последовать примеру доктора Ди, но его молитвы часто ослабевали и прерывались потоком хаотических мыслей, которые в итоге напрочь вытеснили из головы священные тексты, так что Ронан просто сидел и ждал, когда же закончится эта тягостное подготовление к опыту.
Наконец Ди вышел из молитвенного транса и велел Ронану сесть чуть сбоку от обсидианового зеркала, дабы в его тёмной поверхности не было никаких отражений.
– А теперь, юноша, употреби своё время на глубинное созерцание сего obsidianus lapis, – молвил учёный. – И ежели мы подготовили свои души должным образом, то через некое время тебя посетят образы, ниспосылаемые ангелами. Образы сии могут претворяться в видениях и звучаниях. Тебе долженствует лишь пересказывать мне всё, что ты видишь и слышишь. И что бы тебе ни привиделось, не позволяй страху закрасться в твоё сердце, ибо ангелы не жалуют недоверчивых и сомневающихся душ и неохотно общаются с ними.
После подобных наставлений Джон Ди занял место на скамье у стены, оставив юношу перед магическим зеркалом. Ронан с полной доверчивостью к словам учёного принялся пристально вглядываться в обсидиановый камень, в то время как его учитель замер в торжественном ожидании явления ангельских знамений или иных посланий из потустороннего, зазеркального мира…
Сколько прошло времени трудно было судить, ибо казалось, что оно совсем остановилось в этой мрачной комнате, освещённой лишь единственной чахлой свечой, чьё слабое потрескивание только и напоминало о материальности происходящего. Ди напряжёно и усердно ждал знамения, а Ронан с не меньшим тщанием всматривался в глянцевую поверхность. Однако обсидиановое зеркало стойко хранило незыблемый тусклый блеск, отражая лишь тёмную пустоту и не желая выдавать своих тайн.
Надо заметить, что у человека, вовлечённого в однообразное, монотонное занятие, а тем более не имеющего внешних возмущений, за которые могли бы зацепиться его органы чувств, мысли скоро начинают блуждать по своей прихоти и рано или поздно становятся полностью неуправляемыми. Примерно то же самое произошло и с Ронаном, который поначалу тщился различить что-либо в магическом зеркале, но поскольку ничего не менялось и оттуда не исходило ни видений, ни звуков, через некоторое время внимание юноши притупилось. И хотя взор его продолжал бесцельно блуждать где-то в глубине обсидианового камня, различные мысли потихоньку подсознательно начали закрадываться в непривычную к ленивому покою голову. Можно предположить, что мысли эти были связаны как с его недавним прошлым, казавшимся теперь таким далёким, хотя и остававшимся частью его бытия, так и с нескорым будущим, являвшимся ему, наоборот, в самых ярких красках. Сознание юноши как бы раздвоилось – одна часть его выискивала образы в obsidianus lapis, в то время как другая обратилась к воспоминаниям и грёзам.
Трудно объяснить, что произошло в дальнейшем и что явилось этому причиной, было ли то реальностью, либо фантастическим плодом игры неподвластных мыслей. Однако перед взором Ронана вдруг предстала странная картина, и он даже вскрикнул от изумления. Ди встрепенулся, словно большой чёрный ворон в предвкушении конца битвы, обещающей раздолье для стервятников.
– Что тебе видится? Говори! – с нетерпением молвил учёный муж.
– Вот мутная мгла рассеивается, и из неё выступает чья-то сумрачная тень, – произнёс юноша.
– Лицо! Ты видишь лицо?
– Нет, оно окутано темнотой. Но теперь этот неясный силуэт растворяется и я вижу длинную вереницу монахов, идущих в молчаливой процессии.
– Кто-нибудь из них ведом тебе? – продолжал спрашивать Ди, быстро записывая ответы медиума.
– Кажется, в них есть что-то знакомое, но их головы покрыты капюшонами и я не могу сказать, кто они. Удивительно, но трава и вереск не мнутся под их поступью… Вот странное шествие, напоминающее траурное, удаляется вдаль по обширной пустоши и вот-вот исчезнет меж далёких холмов. О, Боже! Самым последним в веренице иноков шествует тот сумрачный силуэт, представший предо мной изначально… Всё покрылось густым белесым туманом, и я снова ничего не могу различить.
– Не прекращай всматриваться и вслушиваться, и да появятся знамения вновь!
Несколько минут прошли в тишине, и вдруг Ронан вновь молвил:
– Снова туман рассеивается, и я вижу… бескрайнюю водную гладь, сколь хватает глаз. А по этим безбрежным просторам плывёт корабль и, судя по распущенным и надутым ветром парусам, достаточно быстро.
– А нет ли там других кораблей поблизости? – тихо спросил Ди.
– На всём морском просторе мне видится только один корабль. Борта у него крутобокие, а мачты касаются облаков, на палубе весело суетятся матросы, но почему-то одежда на них не моряцкая, а как у придворных щеголей.
– А есть ли на том корабле флаги и вымпелы? – спросил учёный.
– Есть, но чем боле я силюсь их различить, тем дальше удаляется корабль, и вот я вижу одни лишь паруса на самом горизонте. И снова море пустынно и угрюмо… Но вот опять!
– Что? Что ты видишь?
– Снова появляется эта мрачная тень, которая сопровождает каждое моё видения. Она как бы летит над водой по воздуху и вслед за кораблём. Везде, получается, что она кого-то догоняет! Но вот этот преследователь поворачивается ко мне передом и хохочет диким смехом.
– А лицо? Ты можешь его разобрать?
– От фигуры веет жутким страхом, и мне противно и боязно всматриваться в неё.
– Не бойся, Ронан! Сие всего лишь видение, где ангелы могут представляться нам наравне с демонами.
– Я пытаюсь приблизиться и различить черты мерзкого духа, но он всё ускользает куда-то в тень, словно не желает показывать своего обличия. Но вопреки своему страху, я следую за ним, догоняю и вот, кажется, сейчас, ещё мгновение, я увижу его… О, Господи!
Ронан отшатнулся от зеркала и в ужасе закрыл лицо руками… Ди подождал немного и сказал ободряюще:
– Не пристало разумному человеку бояться призраков, обитающих в потустороннем мире и посещающих нас в виде видений. Но стоит опасаться василисков, принимающих человечье обличье и живущих среди нас.
– Поистине, сэр! Вы, правы как всегда, доктор Ди, – ответил юноша, приходя в себя. – Но столь ужасен был облик в зеркале, что будь на моём месте человек послабее духом, он умер бы от страха.
– Опиши вид оного чудовища, юноша.
– Я видел лишь лицо, или морду, или – о, Господи! – я не в силах дать имя тому, что мне представилось. Мнится мне, что сам сатана выглядит более пристойно, нежели эта дьявольская образина. По виду это была волчья морда, злобная и жестокая, страшный оскал являл огромные клыки, на которых пенилась кровавая слюна. Но глаза! – они были как у самого подлого представителя рода человеческого – столько в них было хитрости и коварства, лютой ненависти и алчности, и глядели они осмысленно.
Ди всё тщательно записал, потом долгое время хранил молчание, обдумывая видения Ронана и тщетно пытаясь найти взаимосвязь между различными сценами, явившимися в обсидиановом зеркале. Наконец он сказал:
– Видимо, не только ангелы небесные могут вещать посредством obsidianus lapis, но и отверженные ангелы преисподней являются в дьявольском обличии, дабы отпугнуть смельчака, осмелившегося проникнуть в потусторонний мир. Чувствуешь ли ты в себе силы продолжать сей опыт, юноша? Ибо ныне мы получили небывалый результат, и было бы непростительной оплошностью останавливаться на достигнутом! Нам долженствует продолжить немедленно, пока не порвалась та тонкая связь, соединившая твоё сознание с зазеркальным миром.
– Ради науки, доктор Ди, я готов вновь окунуться в мир манящих и пугающих видений, – решительно заявил Ронан, которому было одновременно и страшно и любопытно.
Опять юноша уселся напротив зеркала и направил в него свой взор. На этот раз прошло гораздо меньше времени до того, как поверхность зеркала зарябила в глазах медиума, и после того, как волнение зеркальной глади успокоилось, Ронан произнёс:
– Я снова вижу корабль, и не один, а целых два. Но странное дело, они плывут не по морю, а по облакам!
– А звёзды? Видишь ли ты звёзды или иные светила? – вопросил Ди. – Они о многом могут сказать.
– Только белоснежные облака, и поверху и исподнизу, и ничего более, ни берегов, ни неба… Вид этих кораблей мрачен – паруса обвисли, ни одного человека на палубе, не слышно ни звуков команд, ни крика и ни слова, как будто корабли плывут средь облаков сами по себе. Какая-то зловещая тишина царит вокруг.
– Внемли и созерцай, и делай сие со спокойным духом, – наставлял учёный. – Да охранит нас Господь от злых демонов!
– Вот среди облаков вырастает огромная белая гора… Корабли подплывают к ней и останавливаются, – продолжал юноша, словно в забытье, ровным безучастным голосом. – Ничего не происходит… Ах! Снова я вижу этот жуткий тёмный образ с получеловечьей-полуволчьей мордой. Он стоит, искорёжившись, на горе и смеется дьявольским хохотом… Но вот я более ничего не вижу. Всё исчезло, рассеялось, так же как и появилось.
– Помедлим ещё, – сказал Ди. – Видения могут возникнуть вновь.
Около часа после этого Ронан вглядывался в зеркало, но обсидиановый камень хранил свой ровный безмятежный блеск, будто решив, что и так чересчур приоткрыл свои тайны. Впрочем, у нас нет твёрдой уверенности, что то было действительно магическое действие obsidianus lapis, а не игра романтического юношеского воображения, воспалённого всеми последними событиями.
Ди был весьма доволен результатами опыта, хотя он и уповал на иные видения. Учёному мужу не стоило труда догадаться, как ему чудилось, что магическое зеркало связало потусторонний мир с Ронаном, заместо того, чтобы использовать юношу как посредника между ангелами и им, Джоном Ди. И теперь он размышлял, как исправить сей недочёт, ибо он жаждал обрести связь с ангелами лично и войти с ними в общение, дабы получать знамения для себя. «Вероятно, необходимо более тщательное моё подготовление к сему общению, – размышлял Ди. – Молитвами и постом я убью в себе суетные помыслы, дабы очистить душу и сознание для melius perseptio89.
В дальнейшем разговоре Ди всячески выказывал свою признательность юноше, хвалил и благодарил его и в результате условился встретиться с Ронаном через несколько дней, чтобы продолжить удивительный опыт. У юного шотландца, весьма польщённого таким к себе отношением именитого учёного, и мысли не возникло отказаться от дальнейшего участия в необыкновенных деяниях, которые он принимал за научные опыты, как, впрочем, и сам Ди. С такими радужными мыслями и ощущением причастности к великой науке Ронан покинул дворец Элай и направился в Саутворк…
Целый день был проведён в одинокой башне в дворцовом саду. Начинало смеркаться, небо было затянуто плотными облаками и шёл сильный холодный дождь. Лодок у олдборнского моста не было, и Ронану пришлось пешком пробираться через город. Лондонские улицы выглядели серыми и невзрачными. Редкие прохожие старались обойти лужи и спешили поскорее добраться до своего крова и тёплого очага – те, кто, разумеется, обладал подобной роскошью. В лабиринтах тёмных улочек, по которым сновали личности сомнительных занятий, можно было бы легко заблудиться или стать жертвой воров и грабителей. Однако, ориентируясь по шпилю собора святого Павла, менее чем за час бесстрашный шотландец добрался до Моста, ворота которого, к счастью, были ещё открыты, и вскоре юноша был уже на другом берегу Темзы, предвкушая наслаждение гостеприимным кровом Габриеля Уилаби, вкусным ужином, а главное – милым щебетанием Алисы…
Дождь лил как из ведра и на улицах образовались огромные грязные разливы, которые приходилось обходить. А поскольку время было уже позднее, то Ронан вынужден был сбавить шаг и смотреть себе под ноги, чтобы в ненастной мгле не угодить в лужу.
До жилища негоцианта Уилаби оставалось каких-нибудь две-три сотни шагов, и Ронану уже чудились ароматные запахи, задорный смех Алисы и треск ярко пылающего огня в камине. Юноша так размечтался и погрузился в свои мысли, что чуть было не сбил с ног человека, шедшего ему навстречу. Тот тоже двигался, низко опустив голову, а столкнувшись с Ронаном, споткнулся и чуть было не свалился в огромную лужу, но поймал равновесие и устоял на ногах.
– Ох, простите, сэр! – извинился юноша и поднял глаза на прохожего.
Человек был ниже него ростом и с ног до головы закутан в плащ.
– Mile diabhlan! – выругался незнакомец и посмотрел на своего нечаянного обидчика.
Их взгляды встретились и оба остановились в немом изумлении. Хотя черты лица были скрыты, но глаза человека показались Ронану очень знакомыми. Юноша вглядывался и силился припомнить, кому же из его знакомцев они могли принадлежать. Его визави, напротив, как только оправился от внезапной встречи, вновь опустил голову и сделал шаг в сторону, где была лужа, лишь бы скорее миновать Ронана, что он тут же и исполнил и зашагал прочь, сердито бормоча что-то неразборчивое себе под нос.
Ронан обернулся и продолжал глядеть вслед незнакомцу, пока вдруг из клубка сопоставлений в его голове не созрела неожиданная догадка, и юноша сообразил, чьи глаза он видел.
– Эй, Фергал, – крикнул он вслед, – стой, погоди!
Но человек только прибавил шаг, и вскоре промозглая тьма поглотила его.
Надо заметить, что вся эта встреча заняла гораздо меньше времени, необходимого, чтобы прочесть Pater Noster. Много дольше простоял после Ронан, прямо посреди улицы под проливным дождём, ошарашенный столь неожиданной встречей.
«А был ли это Фергал? – вопрошал себя юноша. – Мало ли у кого ещё на свете такие колючие глаза, белесые ресницы и хитрый взгляд. Да что я, в самом деле! Откуда здесь взяться этому заносчивому монашку из Пейсли? К тому же этот человек чертыхнулся. А разве может инок так святотатствовать? И вообще непонятно, с чего эта встреча меня так встревожила, словно мальчишку, узревшего волка в лесной чаще… Хм, но с другой стороны, ведь он выругался на гэльском наречии! А всем в монастыре было ведомо, что Фергал родом из Горной страны. Да и на вид тот человек был приземист и крепок, под стать монаху из Пейсли. Да, но ежели это был Фергал, то почему он не остановился, когда я его окликнул? Хоть нас и нельзя было назвать приятелями, но зачем чураться старых знакомцев? Или всё же я обознался?»
Обуреваемый противоречивыми догадками и соображениями Ронан вошёл в дом негоцианта и сразу же направился искать командора. Сэр Хью в эту минуту в своей комнате с помощью Гудинафа менял промокшее одеяние, ибо он тоже вернулся совсем недавно. Когда зашёл его подопечный, командор, уже облачённый в вечерние одежды, разговаривал со своим слугой.
– А вот и наш школяр явился! – приветствовал юношу Уилаби. – Что нового во дворце Элай, дружок?
– О, ежели бы мне было дозволено пересказать вам, сэр Хью, в каких нынче я участвовал опытах, вы бы мне ни за что не поверили. Ей богу, столь это было чудно и неестественно! Скажу лишь, что я собственными глазами лицезрел столь диковинные вещи, и мне явились такие странные видения, словно я витал среди неземных духов. Но не об этом я желал вам поведать, – прервался юноша и рассказал командору о странной встрече.
Уилаби на секунду задумался и спросил у своего ординарца:
– А ты что про это разумеешь, всеведущий Дженкин?
– С позволения вашей милости и по моему скромному разумению, – сказал Гудинаф, – фантасмагории, виденные молодым джентльменом днём, судя по всему, так запали ему в душу, что донимают его и ночью. Как бы, не дай боже, ему чего мерзкого не привиделось ещё и во сне.
– И в самом деле, Ронан, – вторил своему ординарцу Уилаби, – посуди сам, откуда здесь взяться какому-то шотландскому монаху. Клянусь душой, в темноте и в такую мерзостную погоду мало ли что может привидеться, не трудно и обознаться. Лучше поспеши-ка переодеться. У тебя такой вид, словно ты ещё разок в Темзе искупался.
Часть 6 Западня
Глава XLI
Мастер Ласси
Дверь открылась, и в комнату еле втиснулась Грейс Питоу – почтенная вдова, немолодая и пышнотелая. В одной руке у неё была свеча, а в другой медный поднос с огромной кружкой эля и с большим ломтём хлеба, на котором дымился кусок телятины.
– Эй, получите ваш завтрак, Мастер Ласси, – прогорланила Грейс Питоу. – И почему, спрашивается, я должна подавать еду ему в комнату, словно какой знатной особе. Мой покойный муженёк и тот подобных почестей от меня сроду не удосуживался. Ежели бы Господь не призвал его раньше времени, стала бы я постояльцев в доме держать!
Тот, кого она назвала Мастер Ласси, молодой ещё человек, рыжеволосый и с хитрым взглядом, лишь усмехнулся и ответил:
– Я терплю от вас гораздо больше мучений, мистрис Питоу. К тому же я плачу вам немалые деньги за эту жалкую каморку, да ещё в убогом домике и, что совсем никуда не годится, в самом что ни на есть городском захолустье.
– Мучений! Захолустье! Великий Боже! И как только совесть вам позволяет так говорить про бедную женщину и её кров! Да я в жизни и мухи-то не обидела, разве что пару разков моего Джона чурбаном приложила; ну так уж он сам был виноват – нечего было в «Серебряном Олене» так напиваться, что мошенники все его карманы обчистили… А коли не по нраву мой домик в Свином переулке, так не смею неволить; почему бы вам не перебраться в «Дельфин» или «Серебряный Олень» на Бишопгейт-стрит – ох, уж и знатные подворья в округе, и плата за постой там столь же знатная, да и компании шебутные собираются: хочешь, тебя в кости обыграют, иль желаешь, в карты одурачат… Не нравится ему, видите ли, мой аккуратный и тихий домик в Свином переулке с доброй и заботливой хозяйкой!
– Ну-ну, не стоит клокотать и бурлить подобно вареву над огнём, любезная мистрис Питоу. От ворчания кровь густеет, чернеет и превращается в дёготь – всем про то ведомо, – ответил Ласси. – А вот насчёт моих мучений, так неужто ваша память настолько плоха, милейшая хозяйка, что вы позабыли, как опочивали давеча, не дождавшись возвращения вашего постояльца? Mile diabhlan! Как же долго я наслаждался перед закрытой дверью волшебной мелодией вашего раскатистого храпа, который был слышен, поди, на весь переулок, и который по своему громогласию не уступит волынке. Я чуть ли не битый час колотил в дверь, чтоб вас пробудить, любезнейшая мистрис; и от этого стука проснулись все соседи – как собаки, так и люди; хотя вполне вероятно, что их разбудил ваш громоподобный храп, нежели моя тщетная борьба с запертой дверью.
– Это вы сами во всём и виноваты, Вильям Ласси, – возразила хозяйка. – Добропорядочные люди не шляются затемно по городским улицам! И с какой стати я обязана караулить, когда вы соизволите вернуться? – продолжала возмущаться Грейс Питоу, хотя про себя думала совсем иначе: «Такой опрятный молодой человек, на вид не бедный и вежливый – как правило. А чем он там занимается в сумерках, да почто мне знать-то. Говорит, что бродит по окрестным лугам да болотам, смотрит, какие там травы растут. Хм, ума не приложу, ну какие травы зимой-то можно приметить, окромя прошлогодней пожухшей соломы».
Мастер Ласси, видимо, догадывался о подлинном отношении к себе хозяйки, потому как сказал с ироничной улыбкой:
– Вот об этом я и намерен молвить, мистрис Питоу. С каждым днём мне приходится уходить всё дальше и дальше от города, и я не всегда успеваю возвратиться до наступления темноты. Так что, будьте любезны, хозяюшка, не дрыхнуть до моего прихода, иначе мне и в самом деле придётся другое жилище подыскать.
Почтенная вдова ещё поворчала для видимости и со вздохом ответила:
– Ну что же с вами поделаешь? Только взамен вы должны обещать, Мастер Ласси, что не будете заставлять бедную женщину таскать вам завтраки вверх по лестнице точно белка по дереву. Они будут дожидаться вас на кухне, и ежели вы не соизволите вовремя спуститься, то уж пеняйте на себя, коли ваша еда покроется ледяной коркой.
Вильям Ласси почёл за лучшее согласиться на эту сделку, нежели препираться с ворчливой хозяйкой, которую он тут же, не переставая улыбаться, выпроводил из комнаты и жадно набросился на еду…
Читателю не надо быть чересчур прозорливым, чтоб уяснить, что под личиной Мастера Ласси скрывался никто иной, как наш старый знакомец – монах по имени брат Галлус, или просто Фергал. Хотя, надо признать, он необычайно изменился с того времени, как покинул аббатство.
Оказавшись в Лондоне, для того чтобы меньше привлекать внимания к своей особе, он счёл нужным выдумать себя иное имя, более «саксонское», нежели его настоящее. За то короткое время, на которое мы упустили его из виду, сильно изменились не только внешность и повадки бывшего монаха, но и его речь и манера держать себя. Как мы отмечали раньше, Фергал обладал прекрасными способностями к подражательству. Возможно, из него вышел бы неплохой мим и лицедей в каком-нибудь бродячем театре, если бы его не сжигала неугасающая и противоречивая страсть разыскать и уничтожить Ронана Лангдэйла, которого он по неким причинам считал сыном своего заклятым врага – барона Бакьюхейда.
За время погони Фергал, несмотря на страшные тяготы дороги, не упускал случая присмотреться к попадавшимся на пути людям – к их повадкам, одежде, интонации и манере говорить. Он норовил подражать их речи, которая была совершенно иной, нежели привычный для него шотландский язык. Удивительно, но оказалось, что этот необыкновенный дар к подражательству позволил ему достичь гораздо большего, чем неважная способность к сознательному обучению.
В Лондоне Фергал поселился в небольшом домике у вдовы Питоу, который стоял на самой окраине города, неподалёку от Епископских ворот за старым городским валом. По сравнению с остальным городом место это было относительно глухое и безлюдное; сады и огороды отделяли Свиной переулок от Бишопгейт-стрит, в то время как с другой стороны простиралась огромная пустошь. Всё это как нельзя лучше устраивало Фергала, который представился хозяйке как Вильям Ласси и объяснил, что прибыл с севера страны из Камбрии с намерением заняться торговлей лекарственными травами и снадобьями в городе Лондоне, где, как он слышал, народ был хоть и зажиточный, а хворал ещё пуще, нежели в глубинке. Этим же он объяснял и свои отсутствия днями напропалую – якобы ему нужно было осмотреть все окрестные поля и луга, дабы выяснить, где и какие целебные растения здесь произрастают. Фергала не смутило, что была зима, и он разъяснил наивной хозяйке, что может по виду почвы и деревьев догадаться о растущих здесь в тёплое время года травах. Таким образом, исконно горец, затем монах, а ныне агент шотландского регента, с помощью денег последнего и своих уникальных талантов Фергал внешне перевоплотился в заслуживающего доверие и уважение добропорядочного лондонского горожанина.
За утомительные месяцы пути Фергал чуть осунулся, у него появилась придававшая его виду большего возраста и вящей степенности небольшая бородка, которая вместе с отросшими, торчащими из-под отороченной мехом шапочки рыжими волосами отнюдь не напоминала о недавнем его иноческом прошлом.
Столица Англии оказалась необыкновенно большим городом, и у Фергала ушло немало времени, чтобы освоиться здесь. Он постарался исходить город вдоль и поперёк, – насколько это вообще было возможно, – чтобы узнать и запомнить расположение главных улиц, площадей, церквей, мостов, дворцов и прочих приметных ориентиров. Незаурядные способности Фергала оказались как нельзя кстати в этом большом городе. Смешавшись с толпой на какой-нибудь рыночной площади или засев в таверне, он внимательно прислушивался и присматривался, как и что говорят люди вокруг, как жестикулируют и кривят физиономии, как ругаются и божатся. И вскоре Вильям Ласси сам был в состоянии выражаться тем же языком и такими же фразами и словечками, что и большинство местных жителей. Никто бы и не поверил, что ещё несколько лет назад этот индивидуум вообще не знал ни слова по-английски. Он даже как заправский лицедей умудрился скопировать ужимки и мимику обитателей английской столицы.
И вот теперь, преобразившись в добропорядочного горожанина, Фергал мог, ничего не опасаясь, заняться поисками Ронана. Благодаря чрезмерной разговорчивости обитателей Рисли ему стало известно, что Хью Уилаби намеревается возглавить плавание в Китай, корабли для которого строятся где-то на Темзе. И поскольку Ронан уехал из Рисли вместе с Уилаби, то значит, в первую очередь, необходимо найти в Лондоне этого дербиширского дворянина, а через него, вполне вероятно, можно выйти и на след Лангдэйла – где котёл, там и поварёшка. Такова была цепочка рассуждений Фергала. Поэтому он первым делом принялся за поиски места на берегу, где строятся корабли для путешествия в Китай, будучи уверенным в том, что непременно рано или поздно застанет там Уилаби как одного из самых главных людей во всём этом деле.
Много дней он бродил по извилистым берегам Темзы, норовя отыскать нужные ему корабельные верфи. А задача эта, надо сказать, была не из лёгких, потому как в то время множество разномастных кораблей строились разом на обоих берегах реки от самого Лондона и до Грейвсенда. К тому же погода стояла отвратительная; зима в этот год выдалась не столько морозная, сколько сырая и промозглая, ибо беспрестанно шёл мелкий студёный дождь и холодный ветер пробирал до костей. Также и короткие зимние дни сильно ограничивали поиски. Неутомимый Фергал покидал своё жилище в Свином переулке, едва начинал брезжить рассвет, и возвращался, когда сумрак ночи уже окутывал городские улочки, что было так не по нутру – как мы уже успели заметить – благонравной Грейс Питоу.
Свою лошадку бывший монах продал, едва прибыв в Лондон, так как большой надобности в ней уже не было, и посему Фергал прочёсывал берега Темзы на своих двоих, что привыкшему к хождению по пустошам и холмам горцу было гораздо сподручнее. Но первый этап его поисков, похоже, завершился, потому что как раз накануне среди многочисленных мастерских и верфей Фергал наконец-то нашёл то, что искал.
Все предшествующие дни преследователь рыскал по обоим берегам реки к западу от города, вплоть до самого Вулиджа, в котором он обнаружил большое скопление строящихся судов. Фергал было обрадовался, что, казалось, наконец-то нашёл нужное ему место. Однако к большому его разочарованию ни один из кораблей, строившихся на верфях или стоявший в доках Вулиджа, не предназначался для плавания в Китай. Такое же огорчение постигло его и в Детфорде, где также было несколько доков и верфей. Фергал настолько выбился из сил в тот день, что перспектива тащиться по грязной дороге обратно в Лондон отнюдь его не вдохновляла, и он вопреки ужасной неприязни к воде позволил себе нанять лодку в Детфорде, велев лодочнику грести к Лондонскому мосту.
Неожиданно посматривавшего с лодки на сумрачные берега реки, усталого Фергала осенила мысль: ведь таким способом намного сподручнее обследовать Темзу! И он вознамерился на следующий же день так и поступить.
Впрочем, пускаться в новое плавания по реке на утлой лодчонке ему не пришлось. Перед последним изгибом русла, когда до Моста оставалось не более двух миль, сквозь пелену дождя Фергал вдруг различил на правом берегу мачты строящихся кораблей. Откуда-то вновь взялись силы и, узнав у лодочника, что местечко то зовётся Редклиф, он велел пристать к берегу и высадить его.
На пристани и на берегу суетились люди, перетаскивающие тюки, ящики и бочки на стоявшую у деревянного причала барку. На площади перед пристанью высились два больших здания, располагались складские постройки и конюшни, далее за которыми виднелись дома поменьше. В излучине реки напротив берега стояли на якоре несколько разномастных кораблей. В общем, всё говорило о том, что Редклиф был моряцким и торговым городком, где одни суда снаряжались в дальние плавания, другие же, наоборот, сгружали привезённые товары.
Чуть поодаль, ярдах в двухстах на пологом, спускавшемся в реку откосе из-за деревянных построек раздавались стуки топоров и молотков, визжание пил, крики людей. Пробравшись между мастерскими, Фергал увидел большую площадку, в центре которой поддерживаемые деревянными конструкциями высились остовы трёх больших кораблей, чьи мачты зоркий взгляд горца и заприметил с лодки.
Суда выглядели почти готовыми, но по кипевшей кругом работе можно было судить, что дел у корабельщиков ещё хватает. Одни из них, облепив борта, стучали молотками и смолили обшивку, другие под навесом неподалёку усердно рубили, пилили и стругали. Из одной постройки, по-видимому, кузни, разносился стук молотов, а из трубы валил густой дым. Какой-то малый с длиннющей мерной планкой, гораздо больше его самого, то и дело выбегал из другого домика; что-то измерив на одном из остовов, он возвращался внутрь и через несколько мгновений появлялся вновь. В дальнем конце верфи стояла запряжённая двумя тягловыми лошадьми большая повозка, откуда несколько человек с трудом сгружали тяжеленную бухту каната, доставленную, вероятно, из другого места.
Фергалу не стоило большого труда выяснить у работных людей на верфи, что за суда они строили. Те с важным видом и гордые за своё дело ответили ему, что «корабли эти, гружёные купеческими товарами, поплывут на восток по северным водам до самого Китая». Услыхав это, у Фергала не осталось сомнений, что именно об этом плавании и обмолвился ему словоохотливый поп в Рисли. Преследователь довольно усмехнулся – теперь ему оставалось лишь подстеречь, пока Уилаби не объявиться на верфи, а уж там по его следам можно и Ронана отыскать…
Закончив завтрак и наградив любезнейшей улыбкой хозяйку, которая после упоминания о её храпе никак не могла согнать с лица обиженную гримасу, Вильям Ласси по грязным переулкам и дорожкам лондонских предместий в предрассветной туманной мгле направился в Редклиф.
Чем дальше он удалялся от домика мистрис Питоу в Свином переулке, тем заметнее менялось выражение его рыжей физиономии. В дверях его приветливый лик сиял благодушием и доброжелательностью. Стоило, однако, Фергалу повернуться спиной к дому, как выражение любезности уступило место насмешливой и саркастической ухмылке. Ещё через несколько шагов тень озабоченности на миг легла на его лицо, которое вскоре уж превратилось в морду иступлёно летящей по следу гончей, почуявшей запах дичи. И наконец, когда городские улочки остались далеко позади, лик Фергала принял свой обычный хитрый вид с азартным огоньком в глазах.
Менее чем за час путник добрался до Редклифа – так недалеко этот городок оказался от Свиного переулка. Несмотря на непогоду, работа на верфи тем временем кипела уже вовсю. Многолюдно было и на пристани и площади перед ней – моряки и грузчики, торговцы и домохозяйки, приказчики и ремесленники составляли разношерстную толпу снующих во все стороны людей. Фергал с самым озабоченным видом присоединился к этому людскому скопищу, внимательно меж тем следя за улочкой, ведущей к верфи. Занятые своими делами, с надвинутыми на глаза шапками и капюшонами, закутанные в плащи и куртки, чтобы защититься от секущего холодного дождя, люди мало обращали внимание на слонявшегося среди них незнакомца с бегающим взглядом.
В этот день провидение благоволило к Фергалу, вероятно, чтобы вознаградить его за бесплодные дни, потерянные в тщетных поисках на речных берегах. Не прошло и пары часов, как через площадь проехали два всадника и направились в сторону верфи.
По виду они составляли разительный контраст между собой. Один из них, в шапке с высокой тульей и измокшим белым пером, тщился защитить свою могучую фигуру просторным подбитым мехом плащом, кутаясь в него до самых глаз; судя по тому, как уверенно он держался в седле, человек этот, вероятно, был неплохим наездником.
В позе другого седока, не такого высокого и дюжего, напротив, чувствовалась вымученность и неловкость, а лицо его было открыто брызгам дождя и порывам ветра, от которых не спасал даже подвязанный тесёмками головной убор. Однако, он даже и не помышлял укрыться от непогоды, не клонил головы и не отворачивал от ветра. На нём была толстая шерстяная куртка и короткая накидка поверх неё.
Фергал тут же поспешил пристроиться позади ездоков и пошёл как бы невзначай вслед за ними в сторону строящихся кораблей. Он даже сдвинул кверху свой убор, чтобы лучше слышать разговор всадников.
– Чтобы вы ни говорили в пользу верховой езды, командор, а я всё же предпочитаю передвигаться по воде, – произнёс всадник в куртке. – Ни грязи тебе, ни рытвин. Ей богу, сэр, лучше бы мы сели в лодку и приплыли сюда как подобает настоящим морякам.
– Помилуй Бог! Наверняка и лодочника-то не сыщешь, жаждущего в такое ненастье пуститься по Темзе в своей утлой посудине, которую ежели не волны, так дождь залил бы выше борта, прежде чем мы проплыли бы и половину пути, – возразил верховой с пером на шапке. – Да вот мы уже и на месте, – с этими словами он ловко соскочил с лошади.
– Право слово, сэр, этот лёгкий бриз и невесомая изморось по сравнению с поджидающими нас штормами шквалами равно, что сточная канава и Темза, – отпарировал его спутник, пытаясь также быстро спуститься на землю; однако он оказался не столь проворен и правой ногой неуклюже застрял в стремени.
Сановитый компаньон не стал дожидаться своего нерасторопного товарища и, спеша укрыться от дождя, повёл лошадь под навес. Тем временем Фергал, заметив затруднение верхового, подошёл и услужливо помог тому высвободить ногу.
– Благодарю тебя, приятель, – сказал спешившийся всадник. – Ты с этой верфи?
– Нет, сэр, я продаю травяные настойки и прочие лечебные эссенции, с вашего позволения, – ответил знахарь. – Если вам угодно избавиться от какой-либо хвори, вы смело можете обратиться ко мне, и, ручаюсь, у вас всё как рукой снимет.
– Лучшее для меня лекарство это свист ветра в парусах, да ласкающий душу плеск морских волн, – произнёс моряк, за какового его можно было принять, судя по речи.
– Ну, в таком случае, может быть, у вашего компаньона есть потребность в каком лечебном снадобье? – вкрадчиво поинтересовался Фергал, желая выведать имя сановитого всадника.
– Боюсь и здесь ты прогадал, приятель, и понапрасну будешь предлагать свой товар. Всё, что нужно моему товарищу, так это войско, которым можно командовать во славу Господа и великой Англии, – уклонился от услуг знахаря моряк и пошёл вслед за товарищем.
– Mile diabhlan! – сквозь зубы процедил ему вслед Фергал.
Тем временем откуда-то появился юркий молодой паренёк, по-видимому, подмастерье с верфи, которому приехавшие поручили своих лошадей, а сами направились в мастерские, где в кузнечных печах пылал огонь и можно было немного обсохнуть и согреться.
Как только подросток, устроив лошадей в конюшне, снова показался в дверях, под козырёк крыши к нему подошёл, оглядываясь, Фергал и, отряхивая капли дождя со своей накидки, подосадовал:
– Ух, который уж день льёт, словно запруду небесную прорвало.
– Да уж, вернёхонько, сэр! – согласился молодой подмастерье.
Фергал выудил из-за обшлага своей куртки небольшой оловянный сосуд с бренди, со смаком отхлебнул глоток и протянул флягу подростку:
– Согрейся, приятель!
– Ого, сэр! Спасибочко, – ответил молодой корабельщик, сделав нескромно большой глоток. – Ну, надо идти товарищам подсоблять палубу смолить.
– Погоди-ка малость, дружище. А скажи, что за господа сюда пожаловали, чьих лошадок ты только что в этот сарай упрятал? Кажись, важные птицы.
– А! Так, то ж как раз те люди, причём из самых главных у них, которые на этих вота кораблях-то и поплывут скорёхонько. Они, поди, из Лондона явились глянуть, как работа тута идёт. А дело-то споро движется, ей богу.
– А как зовут этих командиров, тебе известно?
– Не, имён я не припомню уж. Да и почто мне свои извилины напрягать? Вот как ставить рёбра у корабля, что мастера шпангоутами именуют, это уж накрепко в голове моей засело. А слова мудрёные и имена там всякие в памяти моей долго не задерживаются. Припоминаю лишь, что который повыше из этих двоих, тот вроде бы самый важный у них, сэром его неким величали.
– Сэр Хью Уилаби, быть может? – предположил Фергал и в стремлении оживить память паренька опять предложил тому флягу.
– Во, точно! Как пить дать Уилаби! – воскликнул юный корабельщик, обрадованный таким проблеском своей памяти, снова глотнул крепкого напитка из дружелюбно протянутой ему фляги, вытер рот рукавом, набросил капюшон и отправился было помогать своим товарищам.
– Да что ты, приятель, так рвёшься спину гнуть? – остановило его Фергал. – А не желал бы не столь тяжким образом на жизнь зарабатывать? Ну, сказать к примеру, пошёл бы ты в услужение к какому-нибудь богатому человеку?
– Я? Да ни за что на свете! Вы что, дядечка? Чтоб я, да прислужником! Мне больше по нраву стоящим делом заниматься. Вот подучусь малость, сам корабельных дел мастером стану, буду такие парусники строить!… Ух! А вообще-то мечтаю я когда-нибудь сам на эдаком корабле в море поплыть, далече-далече за горизонт, туда, где, говорят, небо с землёй сходится… Эх, оставьте уж, сэр, ваш трёп про лакейство для бездельников и лизоблюдов. Ну, прощевайте! Заболтался я тута с вами, перед сотоварищами совестно, – на одном дыхании выпалил паренёк и, не оборачиваясь, припустился бегом туда, где кипела работа.
Фергал насмешливо ухмыльнулся вслед мальчишке и тут же забыл о его существовании, погружённый в собственные мысли: «Так, стало быть, Уилаби у них один из самых главных и с кем-то там ещё явился сюда из Лондона. И, наверняка, после осмотра этих посудин полетит обратно в своё тёплое и сухое лондонское гнёздышко. Ага! вот скоро я и найду тебя, Лангдэйл, когда разузнаю, где обитает этот самый сэр Хью, с которым ты вместе упорхнул из Рисли. Славненько, что эти деревенские обыватели такие дурачины болтливые – что поп-огородник, что ребятня». И бывший монах отошёл подальше и стал дожидаться, когда же Уилаби, один или со своим спутником отправится обратно в Лондон, намереваясь последовать за ним.
Примостившись около какого-то сарая, Фергал увидел, как вскоре Уилаби со своим компаньоном-моряком и ещё двумя корабелами, по-видимому, старшими на верфи, подошли к строящимся судам. Компаньон сэра Хью потрогал корпус, постучал по дереву кулаком, затем ладонью и обратился к корабельщикам. Те стали что-то живо ему объяснять, жестикулируя руками, показывая то на один корабль, то на другой. Затем моряк проворно вскарабкался на палубу и некоторое время провёл там, скрытый от взгляда Фергала высокими бортами. Уилаби в это время стоял молча с серьёзным видом, внимательно прислушиваясь к разговору. Иногда командор и его товарищ – а это был не кто иной, как Ричард Ченслер – возвращались в здание кузнечных мастерских, чтобы там, в тепле и сухости продолжить разговор с корабелами, а судя по долетавшим оттуда запахам и утолить свой голод. Фергалу же, продрогшему и голодному, оставалось лишь завидовать им и злиться на весь божий свет; ибо всё, на что мог рассчитывать он, это толстая войлочная куртка и остатки бренди в полупустой фляге.
Через два или три часа, показавшихся Фергалу вечностью, осмотрев корабли и выяснив все интересовавшие их вопросы, Уилаби и навигатор оседлали отдохнувших лошадей и наконец-то направились обратно в сторону Лондона.
Всякому понятно, что следовать за верховыми пешком на протяжении нескольких миль – да так, чтобы дюже не отстать и не привлечь к себе излишнего внимания, – задача не из лёгких. Однако та досадная напасть, что так раздражала и тяготила Фергала в течение всего дня и которую он клял всеми грехами ада, а именно – мерзостная погода, теперь сыграла в его пользу…
Закутавшийся до самых глаз в плащ командор и мало обращавший внимание на непогоду моряк ехали не спеша и бок о бок, тщательно выбирая дорогу, чтобы не попасть копытом лошади в прятавшиеся под водой ямы и колдобины, а также, чтобы разговаривать друг с другом, не надрывая горло, силясь перекричать дождь и ветер. За всю дорогу им ни разу не пришло в голову оглянуться назад, где в сотне шагов от них, укутанный пеленой дождя то шёл, то бежал некий человек, у которого не было намерения ни отстать, ни приблизиться, и в котором Ченслер мог бы узнать помогшего ему спуститься с лошади продавца целительных трав и снадобий.
– Признаться, мне с трудом вериться, что на этих скромных по размеру кораблях возможно преодолеть тысячи миль по океану, – говорил Уилаби. – Что ты думаешь об этих судах, дорогой Ричард? Насколько они надёжны?
– Ежели вы ждёте от меня мнение воина, командор, то вам, должно быть, видней, как защищать корабли от разбойников, – ответил Ченслер. – Если же вас интересует разумение купца, то я ещё не видал более вместительных трюмов у английских торговых кораблей.
– По правде говоря, я хочу услышать мнение опытного моряка, кормчий Ченслер. Ты наверняка заметил, что в морском деле я разбираюсь пока не более чем повар в искусстве осады крепости, а потому каждое твоё слово будет для меня алмазом в короне успеха нашего похода.
– Что ж, сэр Хью, тогда спешу развеять все ваши опасения касательно мореходных качеств этих судов. Вы заприметили, какой низкий бак у кораблей, словно длинный клюв альбатроса?
– А как же! Я первым делом и обратил внимание на это обстоятельство, которое меня и смутило. Видел ли ты большой корабль, стоявший на якоре напротив пристани в Редклифе? Так у него целая неприступная башня спереди высится, самое настоящее фортификационное сооружение: сверху удобно и нападения отбивать и корабли неприятеля атаковать.
– Уж точно, командор, это в вас воин говорит; а знающие корабельщики толкуют, что подобная конструкция как у наших судов придает кораблю большей остойчивости, быстроходности и поворотливости, – возразил кормчий. – И я с ними, сэр, согласен целиком и полностью – мореходность у них самая что ни на есть лучшая из всех видов сотворенных людьми средств, которым приходилось плавать по морям со времён Ноева ковчега. Видал я одного такого купца в Бискайском заливе с вымпелами Антверпа и герцогства Брабантского – летел быстрее чаек. Но ежели борт о борт сражаться, то, правда ваша, уступят они крутобортым кораблям с высоченными надстройками. Впрочем, я сомневаюсь, что в северных водах нам повстречается столь грозный противник. Мнится мне, что нашим главным врагом будет ужасный холод, который царит в тех краях.
– А я к тому же слышал, будто в Северном океане льдины встречаются потолще самых мощных крепостных стен. Как же наши суда преодолеют такое препятствие? – поинтересовался Уилаби, проявляя свойственную хорошему военачальнику предусмотрительность.
– Ну, а коли уж нам придётся столкнуться со льдами, – рассуждал навигатор, – то главное не подходить к ним чересчур близко, иначе они сожмут корабль в свои тиски как щипцы для колки орехов и раздавят как скорлупу. Не ведаю, верно то или нет, однако, моряки, которые до северных берегов Норвегии доходили, такие байки сказывают.
– Выходит тогда, что лишь мастерство кормчего способно справиться с этой страшной опасностью. Ну что ж, вся надежда на тебя, дорогой Ричард.
– Полагаю, не стоит нам раньше времени беспокоиться, сэр Хью. Первое и самое важное обстоятельство, которое синьор Кабот верно учёл, это то, что отплывать надо весною, чтоб попытаться за тёплые летние месяцы весь путь преодолеть. А во-вторых, вы не обратили внимания на большие металлические пластины, что в лабазе на верфи были уложены?
– Неужели ты думаешь, что от моего намётанного глаза что-то может укрыться? Мне показалось, это какие-то заготовки для кузнечных дел мастеров.
– Не совсем так, командор. Этими пластинами, сделанными из самого твёрдого свинца, обвесят нижнюю часть корпуса кораблей, дабы придать им большей прочности на случай встречи со льдинами. Но говоря по правде, это изрядно утяжелит суда и убавит их быстроходности, о чём я и толковал строителям; но они ссылаются на повеление синьора Кабота, а уж он-то, надо полагать, разумеет, что делает – чай, моряк бывалый. Да и наши купцы на всё пойдут, лишь бы товары уберечь.
– На всё, говоришь. Да кабы не так! – возразил Уилаби. – Пушки-то вознамерились поставить полу-кулеврины; хорошо хоть железные, а не бронзовые.
– Да зачем же нам мощные пушки? Посудите сами, командор, ведь в тех суровых непригодных для жизни краях, где, сдаётся мне, и людей-то нет вовсе, нам придётся сражаться не с вражескими армиями, а разве что с дикой и неизведанной природой… К месту сказать, сэр Хью, поспеем ли мы своевременно поставить пушки? А то слыхал я, что королевский флот строится шибко быстро, а им артиллерия надобна пуще нашего.
– Пушки будут у нас к сроку, Ричард, клянусь тебе! Их ещё по осени в Суссексе заказали, где у Мастера Леветта самые лучшие плавильные печи для пушек стоят. Чудно право, но, знаешь ли, сей прославленный на всю Англию пушечный литейщик является на самом деле не кем иным как тамошним викарием. Не странно ли, что человек, проповедующий слово Божие и спасающий души людей, вместе с тем изготовляет орудия для погибели их телес!
– Что же в этом удивительного, сэр? Духовенству ведь всё едино, как с еретиками расправляться – сжигать ли на кострах или расстреливать из пушек. Впрочем, не мне об этом судить. Да к тому же, как моряку мне и неважно, кто будет кулеврины для английских кораблей лить, лишь бы на пушки те можно было положиться как на попутный ветер и чтобы стреляли они с такой же точностью, с какой Polaris каждую ночь появляется точно на севере.
Весь путь до города беседа командора и кормчего протекала примерно в таком духе. Ченслер делился с Уилаби своими глубокими, как океан познаниями в мореплавании, в то время как неискушённый в морском деле сэр Хью справлялся и выспрашивал. Не преминул командор и полюбопытствовать, какое впечатление произвёл его подопечный на Ченслера.
– Ей богу, в его голову знания впитываются как соль в кожу моряка, – ответил кормчий. – Со временем он может стать искусным штурманом, если пожелает. Хотя у доктора Ди о нём как будто было иное мнение.
– Как! Неужели сей магистр всех наук не доволен способностями юноши? – удивился Уилаби. – Не могу в это поверить! С какой целью тогда он пригласил Ронана в свою мастерскую во дворце Элай?
– Мнится мне, что как раз потому доктор Ди и позвал молодца, сэр Хью, что он весьма высокого мнения о талантах вашего протеже и, вероятно, намеревается склонить его к занятиям науками.
– Вот как! Впрочем, я не удивлюсь, Ченслер, если подобная задачка окажется не по зубам даже этому учёному мужу, как не смогли её одолеть и такие неучи, как мы с тобой…
Разумеется, Фергалу, державшемуся на почтительном расстоянии от беседовавших, не удалось услышать ни единого слова из их разговора; да и навряд ли он много бы понял из этой беседы. Оказавшись на заполненных народом лондонских улицах, Фергал отважился почти вплотную приблизиться к всадникам, но всё, что ему удалось услышать, были слова дружеского прощания, после которых путники направились в разные стороны. У соглядатая не возникло затруднения, какой путь избрать, и он, разумеется, последовал за Уилаби.
Вскоре они пересекли Мост, и чуть спустя Уилаби вошёл в большой кирпичный дом, в то время как слуга повёл лошадь в конюшню куда-то позади здания. Фергал некоторое время проторчал на противоположной стороне улицы, чтобы убедиться, что сэр Хью действительно проживает в этом доме, и запомнить вид самого здания. Вскоре совсем стемнело, ибо день подошёл к концу, а низкие набухшие облака заволакивали всё небо.
Мокрый, будто рыба в Темзе, замерший, словно мартышка в снежной Лапландии и с аппетитом как у медведя после зимней спячки Фергал побрёл в направлении Лондонского моста. Он то клял эту промозглую погоду всеми грехами ада, то вспоминая, что именно вследствие такого ненастья он смог проследить за Уилаби, возносил благодарность небу, то вдруг поднимая вверх признательный взгляд и видя, на что оно похоже, снова начинал распекать эту «божескую обитель, похожую на дырявое сито». Раздираемый подобными сентиментами по отношению к небесам, Фергал тщательно обходил огромные разливы на улице и мечтал поскорее перебраться на другой берег и найти там какую-нибудь таверну, где жарко пылает очаг, подают зажаренное мясо ягнёнка с изюмом, приправленное розмарином и без ограничения наливают эль и вино. Но не успел он пройти и пары сотен шагов, как, пытаясь обойти пересекавшую улицу широкую лужу по узкой не залитой водой боковине, вдруг столкнулся с каким-то человеком, шедшим ему навстречу. Раздосадованный помехой и необходимостью либо ступить в лужу, чтобы пропустить незнакомца, или же сделать несколько шагов в обратную сторону, Фергал выругался и поднял голову, чтобы взглянуть на наглеца, преграждавшего ему путь.
Невзирая на темноту, кошачьи глаза горца различили в обидчике того, чей образ преследовал его днём и ночью, и кого он, с одной стороны, ненавидел давно и яростно, а с другой – боялся и в некотором роде даже любил.
Но поскольку Фергал хотел скрыть от Ронана своё здесь присутствие и уж тем паче свои помыслы, то при такой нежданной встрече его естественным желанием было остаться неузнанным, а потому-то он и поспешил поскорее разойтись и принять сердитый, недовольный вид.
Глава XLII
Арчи

На Вестчип, и так одной из самых оживлённых улиц города, в тот день было особенно многолюдно, вероятно, по причине выдавшегося, наконец-то, хорошего денька, первого за всю зиму.
Для лондонских кумушек и хозяек представилась отличная возможность посудачить и поделиться последними сплетнями, потому как на деле Вестчип представляла собой огромный рынок, растянувшийся вдоль почти всей улицы и занимавший всю её ширину. А где как не в таких людных местах можно удовлетворить своё любопытство свежайшими слухам?
На прилавках лежали горы мяса, в основном солёного ввиду зимы, всевозможная рыба – свежая, солёная и сушённая. Зелени и свежих овощей было мало и стоили они очень дорого, зато много было всевозможных рассолов и сушённых трав. Пекари предлагали разнообразные мучные изделия – от дорогих пшеничных хлебов и румяных булок до дешёвых ячменных лепёшек. Чего здесь только не было – зерно, мука, сладости, лесные орехи, мёд, пиво и эль, всяческие изделия городских ремесленников и, конечно, заморские товары и диковинные восточные фрукты и сладости. На фасадах выходивших на Вестчип домов висели кованные и намалёванные на деревянных щитах изображения различных товаров – в зависимости от того, что продавали в лавке под вывеской. Всего было в изобилии на этой улице и для любого кармана, только не пустого.
Разномастная толпа покупателей и торговцев шумно гудела на все голоса, среди которых нередко слышалась и чужестранная речь. Бойкие продавцы во все горло расхваливали свой товар. Домохозяйки и кухарки переходили от прилавка к прилавку, от повозки к повозке, выбирали припасы, торговались с продавцами и, в конце концов, договорившись, доставали из глубины складок своей одежды кошельки, расплачивались с торговцами, складывали товар в свои вместительные корзины и продолжали дальше свой путь в лабиринте ларей и повозок.
В этом огромном торжище между пёстрыми прилавками и навесами торговцев сновал подросток. Поношенная, кое-где протёршаяся и потерявший свой цвет куртка скрывала худобу паренька и была до такой степени велика ему, что опускалась почти до колен, рукава были сильно подвернуты и засалены, а непонятной формы шапчонка прикрывала нечесаную голову своего хозяина. На неумытой острой физиономии, словно крысиные, горели хищные и голодные глазёнки. Он жадно пожирал взглядом всю эту снедь, разложенную на лотках, рот его был полон слюней, но денег у него, равно как и крошки во рту, не было со вчерашнего вечера – после того, как он проиграл в кости последние два фартинга своему дружку, такому же беззаботному вертопраху, как и он сам.
В это время на дальнем конце рынка раздался грохот подъехавшей повозки, сопровождаемый режущим ухо звуком горна. И уже бывалый люд в предвкушении развлечения понемногу потянулся к тому месту, где стоял высокий деревянный помост с возвышавшимся посередине него столбом.
– Преступников привезли! – раздавались весёлые возгласы.
– К позорному столбу окаянных! – задорно кричали другие.
– А что они натворили-то?
– Да вот сейчас и узнаем.
Повозка остановилась рядом с помостом, в центре которого стоял вертикальный столб. От него на высоте четырёх-пяти футов расходились в стороны четыре деревянные рамы, внутри каждой было закреплено по две доски, оставлявших при сочленении три круглых прорези.
Сопровождавшие повозку стражники с алебардами выволокли из большой железной клетки, укреплённой на колымаге, четырёх индивидуумов весьма жалкого вида: троих мужчин и одну молодую женщину. Одежда их была в беспорядке, волосы спутаны. Глаза осуждённых конфузливо смотрели в землю. Лишь девица, не чувствуя никакого смущения, выпрямила спину и глядела прямо перед собой, а в её горделивом и бесстыдном взгляде читался вызов собравшейся толпе.
На помост поднялся один из отряда стражников, по виду их капитан, который, понимая торжественность события и свою значимость в нём, развернул свиток, подождал, пока один из его сослуживцев привлёк внимание людей пронзительным звуком медного горна и, еле разбирая написанные слова, медленно и громко прочитал, особенно отчетливо произнося имена преступников:
– Согласно решению… мирового судьи Уолбрука… приговариваются… к трём часам… позорного столба нижеперечисленные:… Джон Холси…, Дэвид Четвуд…, Джон Спарроу… и Джойс Петхэм… – за содержание публичного дома и… участие в неблагопристойных и богопротивных… прелюбодейских и содомских занятиях.
На физиономиях некоторых внимавших глашатаю появились лукавые ухмылки; на других лицах, принадлежавших в основном к почтенным матронам и честным добропорядочным горожанам – или считавших себя таковыми – отобразилось чувство гадливости и презрения; и лишь очень малая часть зрителей глядела на осужденных с жалостью и состраданием, спрятанными под маской безразличия.
Следом за речью глашатая на помост, подталкивая тех алебардами, доставили осуждённых, приподняли верхнюю доску в каждой раме, поместили на нижнюю часть шею и запястья рук несчастных, снова опустили верхнюю доску вниз и закрепили две половины щита между собой на замок. Получилось, что голова и кисти рук преступников были как бы выставлены на всеобщее обозрение на одной стороне щитов. После этого по приказу капитана осуждённые начали медленно двигаться по кругу друг за другом, вращая позорный столб.
Толпа оживилась, началось веселье – то, за чем все здесь и собрались. Среди зрителей раздались издевательские выкрики:
– Смотрите-ка, смотрите! А у этой потаскухи никакого стыда нет, как она гордо смотрит-то!
– А отчего ей стыдиться-то? Сегодня её отпустят, а завтра она в другой бордель пойдёт.
– А глядите-ка, какое лицо-то пунцовое у того «джентльмена», вон тот, что самый молодой и в бархатный камзол выряжен! Ну-ка, расскажи нам, красавчик, да поподробнее, как вы там друг друга тешили-то. Ха-ха-ха!
Кто-то из толпы не выдержал, выхватил корнишон из рассола и запустил в женщину на помосте, угодив ей в спину.
– Вот с кем тебе дружбу водить надо!
Раздался дружный гогот. И вслед за первым метким броском в неблагочестивых нарушителей закона полетели протухшие яйца, кости, требуха и даже камни.
– А вон тот-то, глядите, еле ноги волочит. Это он, верно, от содомских утех так обессилел!
Собравшиеся зрители заржала ещё пуще. Заметим, что то были самые пристойные шутки и восклицания, которыми по этическим соображениям мы и ограничимся. Охочая до зрелищ беснующаяся толпа продолжала всячески глумиться и издеваться над горемычными сладострастниками, имевшими в тот день несчастье быть пойманными, хотя, вероятно, добрая половина зрителей едва ли сама могла похвастаться благопристойностью своего поведения…
Юнец подошёл к окружавшей помост толпе зевак и протолкался в первый ряд. Увидав приговорённых к позорному столбу, он присвистнули от удивления и прошипел сквозь зубы:
– О, дьявол! Да это же Джойс, сестричка моя! Опять-таки попалась, бедная курочка. Эх, не повезло тебе нынче.
Он зло взглянул на веселившуюся вокруг публику. Душа его вознегодовала при мысли о том, как они смеют издеваться над его сестрой, эти бездушные и жестокосердные людишки. Сердце паренька кипело от злости, распаляемой ненавистью к собравшейся здесь толпе. Но что он мог поделать? Нет, помочь сестре он ничем не мог, кроме своего сочувствия, и мальчишка решил заняться тем, зачем, в общем-то, и наведался на Вестчип.
Хорошо даже было, что для публичного наказания привезли провинившихся, потому как внимание и продавцов и покупателей на некоторое время отвлеклось на публичную экзекуцию. Первым делом юнец вознамерился утолить свой голод. Подросток неспешно побрёл вдоль ближайшего ряда с товарами, где внимание продавцов в наибольшей степени было приковано к происходящему на помосте и на едкие реплики, которыми они обменивались между собой. Там, где продавец был особо невнимателен, мальчишке удавалось тишком и с завидной ловкостью смахнуть рукой что-нибудь с прилавка и запрятать в своём длинном рукаве, откуда затем снедь перекочёвывала за пазуху. Заново смешавшись с толпой зевак около помоста, юнец принялся жадно поглощать добытое таким нехитрым, хотя и недозволительным образом съестное. Покончив с первой частью своёй трапезы, мальчишка заново приступил к обходу, но уже на другом конце улицы-рынка, там, где не успел ещё примелькаться. Здесь он смог полакомиться ячменной лепёшкой, умыкнуть горсть орехов, смахнуть пару корнишонов и мочёное яблоко. Но самой богатой добычей стали обрезки копчёного окорока, которые перекочевали в самые глубокие карманы его лохмотьев и имели предназначение быть поглощёнными на ночь для комфортного сна, ибо на сытый желудок и спится лучше и сны приятнее видятся. А на десерт ему посчастливилось умыкнуть румяную пшеничную булочку. Через некоторое время, когда внимание к помосту, где проводилась экзекуция стало ослабевать, промышлять таким образом юнцу становилось трудней и опасней, и он счёл, что на этот день хватит.
Сытый и довольный подросток шёл вдоль Вестчип, грызя украденный сухарь. День пока шёл прекрасно, за пазухой лежали обрезки на ужин, ни о чём сегодня можно было уже не беспокоиться. Мысли о Джойс, её унижении и страдании его больше не волновали.
«Да и с какой стати мне о ней беспокоиться-то? – промелькнула последняя, относившаяся к Джойс, мыслишка её любящего братца. – А если назавтра меня самого словят и прихлопнут как зловредную муху, чёрт возьми, небось, ни она, ни мамаша и пальцем не поведут.
Юнец шёл и думал, что не дурно было бы, ежели поскорей наступило бы лето, а там глядишь и урожай на Вестчип можно будет побогаче собирать и о ночлеге особо не заботиться. Он строил планы на следующий день и размышлял, на какой лучше рынок податься: на Барэ на Хай-стрит или на Смитфилд, а может на Мост – авось, его там уже никто и не помнит. Мальчишка вспомнил, что на Смитфилд он промышлял накануне, а на Мосту, ежели заметят, чем он занимается, то никуда не убежать, хоть в Темзу бросайся, а водя ныне ужас какая ледянющая, да и плавать он особо не способен. И юнец вознамерился на следующий день наведаться на развал на Хай-стрит.
Мысли молодого воришки о завтрашнем дне неожиданно прервала опустившаяся ему на плечо тяжёлая рука. И вместе с этим иронический голос произнёс: – Хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наши… Должно статься, вкусный сухарик жуешь, отрок. Смотри только, зубки не обломай.
Юнец вздрогнул, посмотрел вкось на говорившего и ответил с враждебной настороженностью:
– А что надобно-то? Тебе какое дело?
– Видишь ли, я уже битый час наблюдаю за одной сорокой, которая по этой площади шныряет туда-сюда и заклёвывает, что хорошо блестит и плохо лежит…
Подросток рванулся, но рука незнакомца крепко впилась ему плечо. А тот же голос твёрдо и негромко продолжал:
– И не вздумай вырываться, мерзавец! Стоит мне только крикнуть, что я поймал вора, и тебя тут же схватят и вон те добрые стражники отведут в тюрьму – как она здесь у вас называется? – ах, да, Ньюгейтская. И кто знает, что ожидает тебя потом? Может, отделаешься плетьми по молодости, а может, уха лишишься или там чего ещё поважней. И отошлют тебя в исправительный дом следом, хотя лучше было бы, если вздернули.
– Чего тебе от меня надобно-то? – злобно, словно затравленный зверёк, спросил юнец.
– Ровесники твои поди давно уже трудятся, добывая хлеб свой насущный, ремеслом честным овладевают. Парень ты, я приметил, хитрый и ловкий, только вот занимаешься глупым и пустым делом… Как тебя звать-то?
– Ну, Арчи я, Арчи Петхем. И что с того?
– Петхэм? Где-то я недавно слыхивал это имя… Так вот, Арчибальд Петхэм, меня зовут Вильям Ласси и я готов предложить тебе некую работёнку…
– Что?! – перебил юнец. – Гнуть спину в какой-нибудь мастерской, от темна до темна, за кусок ячменного хлеба да пинту дешёвого грушевого сидра? Не, это не по мне, лучше уж в Темзе утопиться.
Ласси сильнее сжал своими стальными пальцами плечо Арчи и свернул с ним в узкий и тёмный переулок, где вдали от лишних глаз и чужих ушей продолжил разговор:
– Вовсе нет, малец. Тебе не придётся корпеть в мастерских, занимаясь честным трудом – к столь праведным делам ты к счастью не пригоден. У тебя будет другая работёнка.
– Фу, опять что-то делать, – фыркнул Арчи. – Я же сказал, не по мне это пыхтеть и горбатиться.
– Хм, работа работе рознь… Ты будешь получать три пенса за каждый день – это для начала. К тому же мы приведём твою внешность в пристойный вид, что тоже введёт меня в некоторые затраты. Ну как, устраивают тебя такие условия?
«Три пенса каждый день!» – и Арчи стал прикидывать, сколько же он сможет получить за седмицу. Расчёты давались ему с трудом.
Вильяму Ласси, то есть Фергалу, не стоило труда угадать по появившемуся алчному огоньку в глазах юнца, его отвлечённому взору и шевелящимся губам, над чем тот пыжился. Он лишь снисходительно ухмыльнулся и ждал.
В результате напряжённой работы мозговых извилин у Арчи вышло, что доход за неделю составит один шиллинг и три трёхпенсовика. «А недурственно, чёрт возьми! – рассудил юнец. – Да и спину гнуть видать не придётся».
Подсчитав свои будущие барыши и мекая, коли это будет не «честный труд», Арчи уж готов был согласиться на столь заманчивое предложение, но плут не стал чересчур поспешно выказывать рвение новому хозяину.
– А что мне надобно будет делать-то за это, а, Вильям? А то, может оно, и мзду ты мне маленькую обещаешь.
Фергал усмехнулся и ответил:
– Первым делом тебе надо будет научиться хорошим манерам, милок. Начнём с того, что ко мне ты будешь обращаться Мастер Ласси и не иначе. Уразумел?
– Да это и дураку ясно, Вильям… то бишь, Мастер Ласси.
– Ну вот, не так уж и плохо для начала, – сказал Фергал и поведал Арчи Петхэму басню о том, что он есть доверенный слуга одного могущественного герцога и выполняет его негласные поручения. Фергал поначалу хотел было представиться подручным графа или лорда, но дабы предать себе пущей важности в глазах юнца, придумал герцога. Далее он сказал, что ему требуется помощник, хитрый и ловкий, такой вот как Арчи, и коему можно доверять, но главное – который умеет держать язык за зубами, а кроме того, прекрасно чувствует себя в лабиринте лондонских улочек и подворотен.
– Так всё же, Мастер Ласси, а мне-то какие порученьица выпадать будут? – допытывался юнец. – Вдруг вы меня заставите такие делишки творить, за которые в Тайберне верёвочным ожерельем одаривают.
– До чего же ты наглый и дотошный плут! Между прочим, за воровство у честных людей, шельмец, тебя тоже восхвалять не станут, а ежели уж и вознесут до небес, так лишь с верёвочным ожерельем, как ты его кличешь, на твоей тощей шейке. Эх, надобно всё же отдать тебя стражникам – пусть накажут паршивца по заслугам, а себе я другого подручника сыщу.
На лице Арчи отобразился неподдельный ужас. До него стало доходить, что он чересчур переиграл и что с Вильямом Ласси шутки плохи, и подросток растерянно заморгал глазами.
– Ох, Мастер Ласси, извините мой длиннющий язык. Про себя-то я давно уж согласился на ваше благое предложеньице, – взмолился юнец.
– Неужели? И ты готов делать, что повелят, не задавая глупых вопросов?
– Буду служить вам и герцогу всеми душой и сердцем!
– Ха-ха! Я погляжу, у нашего Петхэма может и красноречие пробудиться, коли на то нужда есть. Что ж, это нам очень даже кстати.
– Так вы берёте меня к себе на службу? – умоляюще спросил Арчи.
Мастер Ласси нахмурился и посмотрел на юнца сердитым взглядом, хотя в душе был более чем доволен, что нашёл себе достойного помощника, каковой, похоже, не был отягощён пустой моралью и начисто лишён ненужных добродетелей, да к тому же был уже не в ладах с законом и неплохо умел врать и притворяться. Вслух же Фергал ответил:
– Завтра мы об этом потолкуем, ежели ты придёшь поутру в некрополь около святого Павла. Известно тебе, где это?
– А то как же, ручки в ножки, сумочки-кошёлки! Эге, хорошенькое местечко вы выбрали, Мастер Ласси. Тамо среди развалин лишь крысы бегают, да бродяги в руинах прячутся.
Юнцу никогда в жизни не выпадала такая удача. Больше шиллинга в неделю, а ещё одежда приличная! У него, правда, раз была в кармане целая крона, после того как ему удалось срезать мошну с пояса у какого-то растяпы. Но уж больно то было опасно – кошели срезать. Коли поймают, да выяснится, что украдено на пять шиллингов или поболее, то танцевать тебе, друг, джигу в Тайберне90. А тут тебе шиллинг и трёхпенсовик в неделю, работка, видать, плёвая! А ещё этот Вильям Ласси обещал привести в пристойный вид – верно, одежонку хорошую даст. Да за всё это можно хоть самому дьяволу продаться!
Так размышлял Арчи, направляясь в жалкую комнатушку, где он жил вместе с матерью. Бедная женщина еле сводила концы с концами, помогая разрезать кожи в скорняжной мастерской. А сынок её шлындал без толку целыми днями по городским улицам, развлекаясь со своими дружками, такими же беспутными шалопаями. Мать была довольна, что хоть Джойс, старшая её дочь, похоже, нашла себе занятье, которое её и кормит и одевает, потому как уже целый месяц домой не заявляется. Арчи, правда, догадывался, как «зарабатывает» его сестра, но мамаше ничего не говорил…
На следующее утро юнец притащился на разрушенный погост у собора святого Павла. Фергал уже ждал его, восседая на развалинах старинного склепа. Он окинул взглядом лохмотья и немытую физиономию мальчишки, брезгливо поморщился и велел тому сбегать к Темзе и умыть замызганную рожицу и изгвазданные в саже руки.
Когда Арчи вернулся, ещё мокрый и поеживающийся от холодной воды, Мастер Ласси кинул ему большой свёрток и приказал тут же переодеться и расчесать встрёпанные волосы…
Оглядев приведшего себя в пристойный вид юнца, Фергал удовлетворённо улыбнулся и дал тому первое поручение: он описал внешность Ронана Лангдэйла, растолковал, где тот живёт, и приказал неустанно следовать за ним, стараясь не попадаться тому на глаза. Фергал кинул юнцу несколько медных монет и сообщил, что будет ждать его с докладом внутри этой крипты после захода солнца и до полуночи, и что, ежели Арчи справно будет выполнять его задания, то может рассчитывать на оговоренное вознаграждение. А коли стервец вздумает морочить ему голову и всячески обманывать, добавил Фергал, то он при помощи сподручных всемогущего герцога разыщет его в любой городской трущобе, дабы предать ужасным мукам.
Глава XLIII
Агнес

Агнес не спеша возвращалась с Вестчип.
Так уж получается, что по прихоти сюжета мы снова оказываемся на этом примечательном месте старинного Лондона – на этот раз, чтобы познакомиться ещё с одним маленьким и милым персонажем нашего повествования.
Утро было чудесное, ярко светило солнышко, и даже несмотря на лёгкий морозец, чувствовалось приближение долгожданной весны. Мартин вёл запряжённую мулом повозку, а молодая кухарка, оставив себе плетёную корзину со свежей зеленью и сушёнными травами, неторопливо семенила чуть позади.
Каждое утро они с Мартином, помощником главного повара во дворце Элай, который отвечал за свежесть и обилие съестных припасов на дворцовой кухне, шли на рынок на Вестчип. Во дворце не было своего огорода, где можно было бы выращивать овощи и зелень для стола. Это в провинции было раздолье. Там в каждом дворце и особняке были свои сады и огороды, которые снабжали обитателей свежими травами, фруктами и овощами. Девушка вспоминала особняк Кэнонбари-Тауэр, где она родилась в семье садовника. То поместье в шести милях от Лондона также принадлежало Джону Дадли, которого недавно стали ещё величать герцог Нортумберлендский. И когда этот сэр Дадли поселился в лондонском дворце Элай, её отправили сюда помогать на кухне. А здесь, в самом городе Лондоне, где кругом стояли сплошь дворцы и шикарные дома знати и богатых горожан, землицы для садов и огородов не оставалось вовсе. Вельможи предпочитали устраивать парки для своих развлечений, нежели выращивать полезные растения. Так и во дворце Элай позади церкви святой Этелдреды раскинулся огромный парк, большой и красивый, через который ей частенько приходилось ходить к стоявшей на другом его конце одинокой башеньке, носить туда трапезы для некого итальянского книжника. В парке этом росло множество красивых деревьев. А в хитром лабиринте из кустарников был спрятан небольшой и, говорят, очень красивый розарий, куда челяди, кроме садовников, входить было недозволительно. Хотя цветов там сейчас все равно не было – зима-то ведь ещё даже не кончилась.
«Зато когда мы с Вилли поженимся, у нас будет свой маленький домик где-нибудь неподалёку от города, – мечтала девушка, и мысли её исподволь обратились от былого и настоящего к грядущему. – И я разведу там небольшой садик с огородом, где у нас будет всё: и тыквы, и свёкла, и немного капусты, конечно, и лук разный, и чеснок, и огурчики, и кабачки. В саду у нас будут деревья с яблоками и грушами, а может и какие кусты с ягодами. А на огороде я буду помогать мужу выращивать всяческие травы, из которых он будет приготовлять целебные порошки и настойки для хворых людей».
Агнес не могла сдержать счастливой улыбки, которая добавила ещё более прелести её милому круглому личику. Яркий румянец украшал пухлые щёчки, на которых уже стали расцветать веснушки, а в светло-голубых глазах бегали озорные искорки.
«А сегодня я опять, – с радостью думала Агнес, – после ужина, как мы перемоем всю кухонную утварь, выскользну на улицу, со стражниками я уж договорилась, а там, в темноте меня будет поджидать мой Вильям. И какое имя у него красивое! И не важно, что у него лицо рябое, так даже симпатичней. А какой он милый и обходительный, и какие слова ласковые говорит!»
Настроение у девушки было великолепное, подстать её радужным мыслям. «Вон и солнышко мне улыбается. И люди все весёлые вокруг». Даже на рынке она умудрилась купить зелёные листья салата и лука! «И где они умудряются выращивать травы, когда на земле снег лежит?» Она вспомнила, как много сегодня ей ещё предстоит работы. Агнес чуть погрустнела, но не надолго. Её согревала мысль о том, что позже, когда уже будет темно, она встретит своего жениха.
Она познакомилась с ним всего пару недель назад. Он подошёл к ним на Вестчип и сказал Мартину, что чувствует в его внешности и манерах знающего кулинара, и ежели тот желает приятно удивить своего хозяина, он от чистого сердца готов дать ему совет, как приготовить восхитительное блюдо из самого заурядного растения. Польщённый Мартин не мог отказать доброжелательному незнакомцу и с готовность выслушал его рецепт. И Вильям поведал повару, как из простого чертополоха можно сделать яство, достойное королевского стола. Мартин поначалу настороженно и недоверчиво глянул на рыжего незнакомца. Но тот, постоянно улыбаясь, живо объяснил ему, что чертополох это те же артишоки, которые порой, как известно, готовят на королевской кухне. При этих словах у Мартина вдруг всплыло одно давнее воспоминание: когда он был много моложе, его знакомый из Вестминстерского дворца, где тогда держал свою резиденцию король Гарри, рассказывал про новое деликатесное заморское блюдо, которое королевские повара готовили из так называемых артишоков. Блюдо это, говорят, было способно помочь славившемуся своей ненасытностью монарху справляться с несварением желудка после обильных пиршеств и возлияний. Благодаря подобной реминисценции все сомнения повара вмиг улетучились, и почтенный кухонных дел мастер почувствовал невольное расположение к молодому человеку с таким доброхотным и в то же время почтительным лицом и такими вежливыми манерами. К тому же немалую роль в стяжании милости Мартина сыграли эпитеты, которыми его одаривал новый знакомец, – такие, к примеру, как «преискусный кулинар», «поэт кухни», «рыцарь черпака и кастрюли» и иные гордые названия сего великого ремесла. В милой беседе они проделали весь обратный путь до дворца Элай, где Мартин провёл Вильяма на дворцовую кухню и предложил главному повару выслушать рецепты бескорыстного доброжелателя.
По дороге во дворец Вилли иногда бросал на Агнес взгляды, которые заставляли юную служанку смущаться и опускать стыдливо глаза, а её щёчки покрываться ярким румянцем, из-за чего они становились похожи на пару спелых яблочек. Изредка, когда Мартин глядел в сторону, молодой человек несколько раз ей лукаво подмигивал, на что девушка, весёлая по натуре, даже разок не выдержала и хихикнула в ответ. А когда они на мгновенье остались вдвоём в одном из тёмных сводчатых полуподвальных помещений в большой кухонной анфиладе, Вильям чуть нагнулся к Агнес и негромко промолвил умоляющим голосом, что будёт ждать её через два часа после захода солнца за дворцовыми воротами.
И вот они уже виделись несколько вечеров. Вилли поведал девушке, что прибыл он в Лондон с севера страны и намеревается заняться выращиванием и сбором целительных трав и торговлей приготовленными из них лекарственными снадобьями, в коих он большой знаток, что у него есть толика денег и он хочет приобрести домик в городском предместье и найти себе хорошую жёнушку. Он честно признался, что нарочно завёл беседу с Мартином, чтобы познакомиться с ней, потому как она ему очень уж приглянулась. И ещё много-много всяческих приятных словечек нашёптывал он, уверяя добрую девушку в своих искренних чувствах и благих намерениях…
На душе у неё было так радостно, что по дороге Агнес запела звонким девичьем голоском песенку, которую тогда пели многие молоденькие английские девушки, и которая звалась «Моя певчая птичка»:
Я жаворонка на заре парящим высоко узрела,
Он песню пел в голубизне небес, весны творец,
Дрозда я слушала – он трель играл, едва светлело,
В мелодии не отставали от него и сойка и скворец.
Ах, если б была в их песнях хотя бы частичка
Того, как заливаешься ты, моя певчая птичка.
Ах, если б мне выманить эту певчую птичку
С гнезда уютного, что спрятано в лугах,
Ах, если б поймать мне эту певчую птичку,
Сумею я согреть её в своих руках.
Ах, если б была в их песнях хотя бы частичка
Того, как заливаешься ты, моя певчая птичка.
Песенка слилась воедино с отрадными мыслями и свежими воспоминаниями об её Вильяме, так что Агнес даже остановилась на мгновенье, не в силах бороться с нахлынувшими на неё сладким предвкушением будущего семейного благоденствия. На цветущем лице девушки сияла улыбка, а мечтательный взгляд её светло-голубых глаз терялся где-то далеко вдали.
– Эй, девчонка! Чего остановилась? – обернувшись, прикрикнул Мартин на свою помощницу. – Господам уже скоро завтрак подавать поди, а я ещё не на кухне. Молодая ты ещё, надобно вперёд меня как лесная лань скакать вприпрыжку, а ты сзади еле плетёшься, словно корова перед отёлом.
– Да что тебе сейчас на кухне-то делать, Мартин? – проверещала в ответ своим звонким голоском спустившаяся с небес Агнес. – Вот после завтрака тогда самая работа для нас и начнётся: мне – помогать поварам резать, счищать и шинковать, а тебе командовать приготовлением закусок дообеденных.
– Дела у хорошего повара на кухне всегда имеются, и не тебе, пичуга, судить, что мне делать. А ты смотри у меня! Ежели опять хоть одна кастрюля или черпак вечером блестеть не будут, заставлю тебя подсоблять поварятам и котлы, и кастрюли, и горшки и всю другую утварь скоблить, мыть и чистить хоть до самого утра, покудова ни единого пятнышка не останется, – пригрозил Мартин.
– Ой, только не сегодня! – сделала испуганный вид девушка, хотя знала, что повар был к ней добр, а страшал и принимал грозный вид лишь в шутку.
– Ага! Опять ты, деваха, куда-то собралась по своим делам молодым. Смотри, допоёшься, – сердито проворчал Мартин и добавил про себя: «Эх, кабы плакать потом не пришлось».
Но ворчание повара никак не могло испортить радостного настроения Агнес. Она хитро улыбнулась и воскликнула:
– Ты вот лучше послушай-ка, какую я загадку тебе скажу весёлую:
Дала я милому вишню без косточки,
Купила я милому цыплёнка без пёрышек,
Подарила я милому колечко без краешка,
Родила я милому младенца не плачущего.
…А теперь скажи:
Как может быть вишня без косточки?
Как может быть цыплёнок без пёрышек?
Как может быть колечко без краешка?
Как может быть младенец, который не плачет?
…Ну что, Мартин, догадался?
– Хм… Где же мне смекнуть! Да того, молодуха, и быть-то не может. Шутишь всё…
– Ха-ха-ха! – залилась озорным смехом Агнес. – Какой ты смешной, хоть уже и не молод. Это же очень просто. Вот гляди:
Вишня, когда цветет, не имеет косточки,
У невылупившегося цыплёнка нет пёрышек,
Катящееся колечко оно бескрайнее,
А младенец, который спит, не плачет.
– А и правда ведь! Ах ты, шалунья! – улыбнулся Мартин.
Этот день и впрямь выдался для Агнес очень тяжёлым. После возвращения с рынка она до самого обеда помогала резать и шинковать всевозможные ингредиенты для тех деликатесных блюд, которые готовились для хозяев дворца и их гостей. В огромной кипящей на дворцовой кухне деятельности у Агнес были свои обязанности. Кроме неё на всей кухне работали две или три девушки-прислужницы, которым поручалась менее тяжёлая работа, чем мужчинам-кухарям – как то резать и крошить зелень, овощи, сыры, сбивать всяческие пасты и кремы в деревянных и медных ступах. Особенно Агнес нравилось помогать в кондитерском закутке, где она подготавливала, мыла, резала и шинковала различные свежие фрукты, а также изюм и инжир, из которых потом повара приготовляли удивительно вкусные блюда. Она-то уж знала, что очень вкусные, потому как изредка, когда у повара что-то получалось не так или какая-нибудь жирная муха попадала вдруг в блюдо, его признавали непригодным для герцогского стола, и повар втихомолку разрешал своим помощникам чуть-чуть полакомиться. А иногда ей удавалось украдкой слопать несколько изюминок, когда никто на неё не смотрел, хотя повара строго за этим следили. Ну уж очень Агнес любила сладкое! А если вдруг кто-то из кулинаров и замечал хитрости молодой прислужницы, то, глядя в её весёлое веснушчатое лицо с по-детски озорными глазками, только грозил ей пальцем, не в силах сердиться на добродушную и простосердечную девушку.
Когда уже вечерело, а до обеда семейства Дадли оставался час-другой, начиналась самая неприятная и тяжёлая работа, которая продолжалась и долго после обеда. Агнес присоединялась к команде мальчишек, которые мыли, чистили, драили всю кухонную утварь: медные кастрюли и жбаны, котелки и сковороды всевозможных размеров и форм, черпаки и сотни чашек, мисок, фарфоровых и серебряных тарелок и подносов, ложек и ножей, разнообразных ёмкостей для питья – деревянных, глиняных и жестяных кружек, кубков и рогов, а также многих других поварских принадлежностей – бочонки, вёдра, ступы, вертёла. Эта работа могла иногда длиться вплоть до самого утра, особенно, если во дворце было много гостей, в честь которых устраивалось настоящее пиршество. Но Агнес дозволено было уходить раньше, поскольку рано утром ей вновь предстояло сопровождать повара Мартина на Вестчип…
Так было и в этот день. Когда, как ей показалось, прошло уже достаточно много времени с тех пор, как в высоких, узких окнах кухни зияла темнота ночи, девушка оторвалась от работы, вытерла мокрые руки о передник, перебросилась шуткой другой с мальчишками-посудомоями, забежала в комнатушку, которую она делила со своими подругами-кухарками, сменила свой кухонный балахон на единственное её платьице, поправила волосы, набросила длинный шерстяной плащ с капюшоном и выскользнула с чёрного входа, улыбнувшись стоявшим там стражникам с алебардами.
– Наша Агнес, милашка, как весенняя пташка упорхнула от нас в этот призрачный час, – продекламировал ей свой каламбур один из стражей, от скуки своей службы пытавшийся занять свою голову придумыванием виршей.
– Пронзил её сердце амур удалец, и скоро мученьям наступит конец, – вслед убегавшей Агнес с апломбом произнёс другой алебардщик, пытаясь состязаться в рифмоплётстве со своим товарищем.
Ночная темнота скрыла румянец смущения на щёчках девушки…
Под утро Агнес как обычно возвратилась во дворец. Дом, где жил пока Вильям, находился за Епископскими воротами. А это было более чем в двух милях от того места, где стоял дворец Элай.
И пока девушка пробиралась по едва освещённым проблесками зари лабиринтам лондонских улочек, она с умилением вспоминала проведённое с Вильямом время, то, какой он был внимательный и обходительный, и что его интересовало всё, касающееся Агнес: какая у неё работа, что ей приходится делать, какие блюда готовят на дворцовой кухне, и кто те люди, для которых так стараются повара.
Она была готова болтать с ним всю ночь напролёт. Девушка поведала ему и обо всём семействе герцога – всё, что слышала в разговорах старших поваров и слуг, которые носили блюда с едой наверх, в апартаменты герцога, его домочадцев и гостей. А ещё она рассказала про тех странных людей, что гостят в башне на окраине сада; что говорят, будто это какие-то книжники, один даже итальянец, и что-то всё время обсуждают и обсуждают, думают, видимо, как свинец в золото превратить, и заставляют прислужников какие-то им механизмы чудные мастерить. Вильяму было всё настолько интересно, что он даже спросил, как их именовали, тех мудрецов. А Агнес ведь и не помнила их имён-то! Но она пообещала жениху сегодня же допытаться у других слуг из дворцовой челяди и в следующий раз обязательно ему сказать. Девушка всем сердцем жаждала, чтоб у её Вильям не было и капельки сомнения, что она души в нём не чает и готова любые прихоти его исполнить.
Такие мысли витали в голове у влюблённой девицы, тешившей себя радужными мечтами. Ах, если бы Агнес догадывалась, что за помыслы скрывались в голове её жениха, она едва ли чувствовала бы себя столь счастливой.
Действительно, совсем иные планы были у Вильяма, то есть у Фергала… или у Вильяма? Как это ни удивительно, автор, право, и сам запутался, как и когда стоит именовать этого многоликого Януса, за что он и просит пощады у милостивого читателя.
Глава XLIV
Заговор
Свет фонаря внутри разрушенного склепа бросал тусклые отблески на собеседников, которым надлежало держать свои дела втайне от посторонних глаз и ушей.
– Ну и местечко вы выбрали для наших встреч, Мастер Ласси, – сказал юнец, поёживаясь от холода и косясь на сдвинутые плиты древних надгробий. – Прям как в преисподней, хоть там, небось, не так жутко холодно, ведь адский огонь поди согревает и света даёт.
– Не переживай, стервец, – ответил Фергал. – Тёпленькое местечко тебя там давно поджидает. Не такой я олух, чтоб встречи тебе в герцогских чертогах назначать. Наши дела – потаённые, о которых никто не должен знать. А теперь выкладывай, чем последние дни Лангдэйл занимался, куда ноги свои таскал, с какими людьми встречи имел?
– Ну, с утреца вчерась, как обычно и до этого, он взял лодку и поплыл в Элай и опосля обеда вернулся в Саутворк. Да и ныне тоже в Элай отправился и… – тут Арчи замялся, – должно быть, тама и заночевал, вот.
– Как, тебе что же, паршивец, не ведомо доподлинно, где шотландец в этот час дрыхнет? – нахмурившись спросил Фергал.
– Но, Мастер Ласси…
– Что Мастер Ласси ?! – прервал его Фергал. – Mile diabhlan! Мне надобно знать о всяком его шаге и каждом чихе! А ты ни сном ни духом, где он ночлежничает в это самое время. За то ли я плачу тебе, мерзавец?
– Верно, он в Элай на ночь остался, потому как я до темноты напротив дворцовых ворот прождал – клянусь моей правой рукой! – а он так и не вышел, – дрожащим голосом протянул Арчи.
– И никуда ты не отлучался?
– Ну, да разве что только прикорнул на полглаза у дерева, – вобрав голову в плечи, ответил Арчи. – Так ведь, как вы меня наняли, я уж две недели встаю ни свет ни заря, да и ложусь…
Договорить юнец не успел по причине такой затрещины, от которой свалился как подкошенный.
– Сомневаюсь, что тебе пришлось бы больше дрыхнуть и жрать, ежели б ты занимался честным ремеслом, – изрёк Мастер Ласси, изображая из себя строго и жестокого властелина. – Стоит заставить тебя воротиться и дожидаться у дворцовых ворот этого хитрого Лангдэйла, да только вдруг он уже убрался оттуда, покуда «ваша милость» изволили почивать.
– Да к тому ж и ночь уж больно холоднющая, – заныл поднявшийся с земли юнец, – вона аж и вода в лужах замерзла… Да ежели я буду до утра там караулить, то уж точно до смерти околею. Кто ж тогда вам с герцогом служить-то будет, а?
– Ну, чёрт с тобой, только не скули, будто побитая собака, – бросил Ласси. – Вот твои деньги.
Сей акт милосердия ознаменовался звоном монет на потрескавшемся надгробии. Юнец жадно их схватил, пересчитал и спрятал за пазухой. Почувствовав себя чуть уверенней, он прищурил глаз и сказал:
– На самом-то деле, Мастер Ласси, я за ним таскаюсь, словно хвост за кошкой, и норовлю всё вокруг подмечать, клянусь моей башкой. Так вот давеча, к слову сказать…
Арчи притворно замялся. Фергал глянул пытливо на юнца, тщась понять, что у проныры на уме.
Вот уже пару недель как по поручению «герцогского слуги» Арчи как тень следовал за Ронаном. Задание это нельзя было назвать чересчур уж сложным, потому как юный шотландец ежедневно придерживался одного и того же маршрута: от дома в Саутворке к дворцу Элай и обратно, иногда на лодке, но чаще пешком. Арчи предпочитал второй вариант, ибо в этом случае он мог без зазрения совести соврать Вильяму Ласси, что потратился на лодочника, и получить от того лишние пенсы.
– Раз уж начал варить похлёбку, так клади в неё и соль, – произнёс Фергал. – А головой твоей можешь не клясться – она и фартинга не стоит… Так что же давеча?
– Так вот, – продолжил Арчи, – примостился я у водостока напротив дворцовых ворот, сижу и жду, когда тот гусь появится. А его всё нет и нет. Уж давно как стемнело. Вдруг гляжу, из калитки девица выскользнула – ручки в ножки, сумочки-кошёлки, – и к ней тут же какой-то молодчик подвалил. Хоть он и был с головой в плащ закутанный, ну, уж больно фигура мне его знакомой почудилась, да и голос вроде как тоже.
– Ты бы, лживый негодник, за Ронаном тщательнее следил – mile diabhlan! – а не за девицами, – как ни в чём не бывало, прорычал Фергал. – Расчухал?
– Так это я так, между делом, – с заискивающей улыбкой ответил юнец, – что б вы, Мастер Ласси, не сомневались в моём усердии.
Они не виделись уже три дня. У обоих были причины для беспокойства относительно друг друга: Арчи опасался, как бы такой щедрый хозяин не отказался от его услуг; а Фергалу остаться без сподручника в этом огромном городе, где Лангдэйл мог затеряться, как иголка в стоге сена, было более чем некстати.
Благодаря деньгам Фергала и в соответствие с его приказаниями, отпрыск лондонских трущоб превратился внешне во вполне благопристойного мальчика, хотя манеры его и оставляли желать лучшего. Глядя на юнца со стороны можно было подумать, что это слуга или паж какого-то вельможи или прислужник богатого купца. Поначалу Фергал подумывал даже поселить Арчи у себя, чтобы тот всегда был под рукой, но, в конце концов, отказался от этой идеи. Правильнее, да и надёжней было остаться в глазах хозяйки дома травником-лекарем, а для юнца – окружённым тайною паладином загадочного герцога. Для создания ауры пущей таинственности он условился встречаться с Арчи в старом полуразрушенном некрополе около собора святого Павла, где по ночам дьявольским криком вопили кошки, а между надгробий, словно демоны, носились упыри.
При помощи юнца Фергал намеревался следить за Ронаном, поскольку самолично он, понятно, заняться этим не мог без риска быть узнанным. А неприметный подросток в обличии слуги, каковых сновали сотни и тысячи по лондонским улицам, подходил для этой задачи как нельзя кстати.
Именно благодаря молодому и юркому пособнику Фергал выяснил, что Ронан ежедневно посещает дворец Элай, бастион самого герцога Нортумберлендского, первейшего английского сановника. Правда, чем занимается в этих чертогах сын шотландского барона оставалось для него некоторое время загадкой, покуда он не познакомился с молодой кухаркой из дворца. От неё Вильям Ласси выведал всё, что только мог, об обитателях герцогского дома. Узнал он и про уединённую башенку в углу сада, в которой живут два учёных мужа, и куда последние дни Агнес носила трапезу для трёх персон. Фергалу не составило труда догадаться, что третьим человеком, составлявшим компанию этим всезнайкам и грамотеям, которых простушка Агнес звала мудрецами, мог быть только такой школяр как Ронан. Не без удивления услышал Фергал, что одного из тех учёных зовут синьор Кардано. «Верно, тот самый итальяшка, что примаса исцелил и из-за которого меня из Эдинбурга отослали, – подумал тогда Фергал. – Теперь сюда перебрался, каналья».
«А что же дальше? – спрашивал себя Фергал. – Подкараулить в каком-нибудь тёмном закоулке и напасть на окаянного Лангдэйла? Нет, это не годится. Слишком он для меня силён и проворен, не то что этот Арчи. Найти наёмных убийц?»
От этой идеи Фергалу становилось страшно. Нет, не за Лангдэйла – о его погибели он только и мечтал, несмотря на муки совести и сожаления, – а за свою собственную участь, ибо он опасался, что заместо Ронана, разбойники могут его самого умертвить, чтобы завладеть всеми его деньгами.
«Остаётся лишь на самого себя рассчитывать, да на этого безграмотного и невоспитанного молокососа. Он за деньги родную мать на виселицу отправит, да и меня побаивается, хотя за этим прохвостом нужно в оба глядеть».
Из задумчивости его вывел голос Арчи, который давно уже проглотил припрятанный в кармане шматок жареного мяса и стал тяготиться гробовой тишиной в склепе, особенно когда у груди приятно ощущалась тяжесть монет, отчего и настроение было отличное.
– Эй, Мастер Ласси, моя сестрица Джойс говорит, что молчанием дела не сделаешь. А голосок у неё и впрямь хорош. Мужчины такой любят, потому и вьются около неё как мухи вокруг мёда.
– Что? Какая Джойс? Я гляжу, ты уже расправился со своим ужином, негодяй, раз не даёшь мне спокойно размышлять, – сердито произнёс Фергал.
– А ещё она говорит, что молчание это достоинство дураков, вот, – весело продолжал Арчи, который, как правило, сначала говорил, а потом уж думал.
– А мне думается, что первейшая добродетель это умение смирять длинный язык, чего тебе, сэр Безмозглый Паяц, явно не достаёт, – при этих словах Арчи получил ещё одну тяжёлую оплеуху.
Юнец прикусил свой язык, который никак не желал держаться за зубами, и съёжился, осознав, наконец, какую глупость сморозил. Он потрогал на месте ли деньги из страха, что Мастер Ласси может вознамериться забрать их обратно и прогнать его восвояси.
Некоторое время они стояли молча, глядя друг на друга. Лицо доверенного слуги герцога было искажено гримасой гнева и раздражения. А потому оробевший Арчи попытался исправить свою ошибку и виноватым тоном пробормотал:
– Прошу прощения, хозяин. Меня ведь ничему в жизни не учили, окромя того, как бы добыть средств на пропитание. Поэтому-то голова моя и работает много медленнее, чем другие органы.
– Верно, – согласился Фергал, – вот и я так думаю, что язык твой бежит куда быстрее нежели твои мозги, моя тощая обезьяна.
При этих словах Арчи состроил придурковатую мину, потом изобразил настоящую печаль и жалостливо затянул:
– Эх, сиротинушка я несчастный.
– Что ты всё скулишь словно волк в полнолуние? У тебя же мамаша есть, да и сестрица, – презрительно бросил Фергал.
– Да что с них взять-то? – возразил Арчи. – Скажу вам по секрету, есть у меня и отец, да не простой там смерд какой-то, а настоящий граф.
– Вот тебе на! У него родитель – граф, а он себя сиротой кличет и воровством на рыночных площадях промышляет! Ах ты, бедолага. Может, тебя надо «ваша милость» величать?
– Не вру я, Мастер Ласси, клянусь дневным светом, которого совсем не видать в этой тёмной дыре. Мой настоящий отец и вправду – чистокровный граф! – заявил юнец.
– Ну-ну, сдаётся мне, приятель, что ты совсем спятил.
– А вот и нет! – упрямо стоял на своём Арчи. – Вы только послушайте, что я вам расскажу.
– Ну-ну, рассказывай басни, – ухмыльнулся Фергал.
– Мы когда-то в большом замке жили где-то далеко на севере, в Йоркшире, – начал свою историю Арчи. – Мамаша моя была там прислужницей. А отца я не видал и не помню, потому что он всё время в графском ополчении воевал и где-то там и сгинул на шотландской границе. Да и не отец мой он был вовсе. Мне потом Джойс по секрету выболтала. Я ещё совсем маленький был, когда нас из замка того взашей выгнали, и мамаша с двумя малолетками подалась в Лондон. Ещё мне сестрица так сказывала, что прежде, когда у графа нашего померла жёнушка, то он повадился нашу мамашу в свои покои приглашать. А в те времена она была не такая старая и уродливая как нынче, а очень даже пригожая. Ну, вскорости я у неё и народился. А потом граф, папаша мой значит, заново женился. А как он снова на войну подался, какой-то паскудник нашептал новой графине про нашу мамашу и незаконного ребёнка, меня, то бишь. Джойс полагает, что это младший графский сынок Том мачехе своей всё разболтал: очень, сестрица говорит, он нас ненавидел. А эта ведьма – чтоб её черти заживо сожгли! – и повелела нас из замка вон выставить, покуда графа не было дома.
– Ой-ла-ла! А вроде, складно лопочешь. Такую историю сочинить твоим мозгам наверняка было бы не под силу. Эх, бедняга. Так в тебе, значит, тоже благородная кровь течёт?
– А то как же! – гордо заявил Арчи, хотя и не мог толком понять, то ли Мастер Ласси сочувствует ему, то ли издевается. – А почему тоже?
– Да так, к слову пришлось, – сказал Фергал, лицо его помрачнело, а в глазах загорелся злой огонёк.
– Ежели б не этот младшенький Толбот, крыса поганая, – разглагольствовал юнец, – граф, глядишь, и какое содержание мне выделил бы. И жил бы я ныне в своё удовольствие. Ух, я бы…
– Эй, погоди, закрой-ка свой клювик! – Фергал вдруг резко прервал болтовню мальчишки. – А то расчирикался, будто воробей на стрехе. Ну-ка, ещё раз повтори, как звали того графа и его сынка?
– Ну, имени папаши своего родимого я уж до гроба не забуду, – ответил Арчи. – Толбот, граф Шрусбери он прозывается. А отпрыск его младший, что меня с матерью терпеть не мог, так того Томом звали. Джойс говаривала, что он хоть и недоросток тогда был, а такой вредина и корчил из себя праведника набожного. Тьфу ты! Все они паписты такие зловредные.
Рябое лицо Мастера Ласси просияло. Он снова о чём-то задумался и уже не слышал, как Арчи продолжал клясть на чём свет стоит своих папашу и единокровного братца, да сетовать на горькую свою долю и несправедливую судьбину…
«Паписты, Том, Томас Толбот, – вертелось в голове у Фергала. – Ну конечно же! Про него-то и толковал мне регент. Вот он в аккурат и будет у меня наживкой».
Вечером следующего дня у чёрного входа дворца Элай Мастер Ласси вновь встретил свою милую Агнес. Однако, развлекать её этой ночью в его намерения не входило.
– О, птичка моя, только ты и можешь меня выручить, – сходу начал Вильям Ласси, решив сразу брать быка за рога.
Несмотря на потёмки, заметно было, что лицо его сильно озабоченно, да и в голосе звучали тревожные нотки. А потому Агнес, добрая душа, готовая сделать что угодно, лишь бы ублажить своего возлюбленного, поначалу не на шутку переполошилась и воскликнула:
– Бог ты мой! Да что же случилось-то, Вильям, дорогой мой? Ты прям весь не свой.
– Агнес, милая, ты служишь во дворце такого могущественного вельможи. Ты переговариваешься с прочими слугами. В этом огромном доме не могут не ведать, где ныне находится двор леди Марии, сестры его величества короля Эдварда.
– Леди Марии?! Подумать только! – с облегчением и в то же время с тревогой воскликнула Агнес. – Я просто диву даюсь, почто тебе нужен-то двор этой самой леди. Уж не намереваешься ли ты бросить меня и искать счастья там, в услужении вельмож?
Агнес надула пухленькие щёчки, сжала губки и приняла обиженный вид. Девушку и в самом деле встревожил этот странный интерес её жениха к тем сферам, где жили богатые и знатные люди. Её воображение давно уже рисовало идиллическую картину: уютный домик, обязательно с садом и огородом, добрый муж, весёлые детишки. И всё, что не вписывалось в этот радужный образ грядущего, весьма её беспокоило.
– Нет-нет, душенька, не тревожься, – увещевал Вильям Ласси. – Просто некий господин, который находится в услужении этой леди, её придворный лекарь, посулил поведать мне некий чудесный рецепт супротив одной страшной хвори в обмен за сбор трав и настоев, каковой я ему по лету и насобирал. Знаешь ли, как у нас травников и лекарей всё заведено – совет за совет, знание за знание… А поскольку у богатых вельмож, знатных дам и принцесс есть повадка разъезжать со своими дворами из одного дворца в другой, то я и ума не приложу где искать мне теперь этого лекаря.
Агнес, похоже, успокоили объяснения её ненаглядного, она кокетливо улыбнулась и сказала:
– Ну, коли так, то я утречком только о леди Марии и буду думать, раз тебе, милый, это столь важно. А теперь что же мы здесь стоим?
– Ох, ты только не гневайся, дорогуша, на твоего Вильяма. У меня ещё такое множество хлопот нынче, – с виноватой улыбкой ответил Фергал. – Надобно травы по ладанкам и кисетам разложить, надписи на флакончики прилепить. А ещё должно послание написать тому самому придворному лекарю.
Девушка с почитанием глянула на Вильяма Ласси. Ещё бы! Ведь он владел грамотой и умел писать. Какой у неё всё же славный жених. Скорей бы Пасха пришла. После неё они сразу же и поженятся. Тем не менее, Агнес было немного досадно, что не удастся нынче с любимым поворковать. Что ж, ничего не поделаешь. Скоро уж и весна наступит, а там и до Пасхи недолго останется.
– Так ты не сам пойдёшь ко двору леди Марии? – с надеждой в голосе поинтересовалась Агнес.
– Вот назавтра ты, милочка, выведаешь мне, где двор этой леди находится, тогда я и раскину мозгами, сам ли пойду или пошлю кого, – ответил Вильям Ласси, чмокнул в губки доверчивую девушку и в мгновенье ока исчез в темноте…
Следующий день прошёл у Агнес не только в хлопотах на дворцовой кухне, но и в выполнении просьбы её жениха. Понятное дело, что о том, чтобы поинтересоваться у знатных обитателей замка, не могло быть и речи. Девушка выспрашивала у поваров, колдовавших на кухне, у лакеев, поднимавших подносы с трапезой в верхние покои, у стражников, стоявших там и здесь по всему дворцу. Она заклинала их спросить у других слуг и челяди, приближённых к семейству Нортумберленда, у пажей и камергеров. Мало у кого хватало сил отказать в помощи столь добросердечной и неунывающей девчушке. Одним словом, Агнес развила такую кипучую деятельность, которая никак не могла оказаться безрезультатной.
В конце концов, один слуга из плеяды гонцов и скороходов, каковых каждый уважающий себя сановник держал целую армию, припомнил, как в досужем разговоре между своими собратьями по ремеслу в холле одного из лондонских дворцов, где гонцы в ожидании поручений тешили себя пересказом всякого рода слухов и сплетен, так вот, кто-то в этой толпе посыльных упомянул, что прибыл из дворца Хансдон, в котором пребывает нынче двор леди Марии, сестры короля.
Вечером Фергал уже знал об этом и полночи обмозговывал все детали задуманного им накануне хитрого плана. Он с удовольствием осознавал, что лично для него риска в этом деле, похоже, не было почти никакого. Теперь успех его замысла зависел целиком и полностью от проворности юнца, ревностности Томаса Толбота и простосердечия Ронана Лангдэйла.
Глава VL
Похождения Арчи
Арчи, умытый и причёсанный, в аккуратной шапочке с вороньим пером, облачённый в расшитый камзол из мягкой овечьей кожи, с наброшенной поверх короткой синей накидкой со спускавшимися широкими свободными рукавами, прыткой походкой топал по дороге к северу от Лондона и что-то весело насвистывал себе под нос.
Во внутреннем кармане его щегольского камзола лежало письмо, полученное им рано утром у Епископских ворот от Мастера Ласси и которое он должен был лично вручить Томасу Толботу в замке Хандсон. Интересно, признает ли его кровный братец, гадал Арчи. Затем он попытался было сам припомнить лицо этого негодяя, так подло с ним обошедшегося. Но за несколько лет из и так недолгой памяти юнца стёрлись все воспоминания о его бытности в младенческие годы во дворце графа Шрусбери. И Арчи успокоился, уразумев, что и Томас, ясное дело, ни в жисть не узнает в нём младшего своего кровного братца.
Дорога в это время года, после затяжных дождей, перемежавшихся с небольшими ночными морозцами, напрочь была разбита и вся в огромных разливах. На полях посреди пожухлой прошлогодней травы, словно изюминки в пироге, чернели дома фермеров. Над небольшими холмами и возвышенностями поодиночке и маленькими стайками кружили грачи. Скучный пейзаж нарушали лишь попадавшиеся по дороге селения и придорожные трактиры, почти в каждый из которых юнец не преминул заглянуть, чтобы дать отдых ногам и подкрепиться куском мяса и кружкой эля, благо, Мастер Ласси в путь его снарядил как подобает посланникам могущественных сановников.
Как это ни покажется странным, но с тех пор, как его мать со своими детьми обосновалась в Лондоне, Арчи ни разу не приходилось удаляться от городских ворот больше, чем на три-четыре мили. Всё необходимое для своего существования он научился добывать в этом огромном городе. Сейчас же в одеянии, прямо как у королевского пажа, и с позвякивающими в кармане монетами юнец держался раскованно и уверенно. Ну кто бы мог предположить, что под этой личиной скрывается невежда, недавний оборвыш и воришка! Впрочем, себя таким он уже не считал.
Мать Арчи не тяготила себя заботой о воспитании своих отпрысков, которые были предоставлены самим себе, ибо с неё хватало и того, что почти всё время она гнула спину в шорной мастерской, разрезая и сшивая кожи. Работа была тяжёлой, а щедростью хозяин шорни не отличался. Поэтому мы не берёмся осуждать бедную вдову за то, что она была только рада, когда Арчи стал пропадать по несколько дней кряду, а когда заявлялся, то выглядел не таким голодным и оборванным, как можно было бы предположить. Она, должно быть, догадывалась, с какими людишками начал водить компанию её сынок, но не придавала этому большого значения. А тут и Джойс стал самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, служа, как она говорила, горничной в богатом доме. Всё бедной вдове стало полегче…
Не удивительно поэтому, что унылая природа, только готовящаяся к приходу весны, и лишённые пока ещё красок ландшафты находили мало отклика в приземлённой душе подростка, взращенного среди самых дрянных обитателей лондонских улиц.
Чем дальше удалялся Арчи от города, тем реже становились селения и меньше встречалось путников на дороге, у которых можно было бы увериться, правильный ли он держит путь. Всё чаще края большака, словно ограда, обрамляли кусты можжевельника и лещины, которые тянули свои голые ветви, словно лесные духи, норовящие увлечь путников в колдовские кущи. Постепенно кустарник перешёл в подлесок и лесные заросли, которые, казалось, с каждым шагом становились всё гуще и темнее. Ещё более пустынной стала дорога, когда нашему посланцу пришлось свернуть с большака на узенькую дорожку, убегавшую влево и исчезавшую меж дерев густого, мрачного леса.
Надо заметить, что дворец Хансдон вкупе с одноименным селением находился несколько на отшибе и вдали от большого, ведшего на север от Лондона тракта. А потому дорога, превратившаяся теперь почти в тропу, сделалась совсем безлюдной, и Арчи стало вовсе одиноко, тревожно и как-то не по себе. Разумеется, он много раз слышал байки о разбойничьих нападениях на дорогах вокруг Лондона, каковыми его старшие и более наторелые приятели тешили друг друга на досуге. Причём, пуще всего они смаковали описание богатой добычи, которую удавалось захватить отважным грабителям, а также те хитроумные способы, с помощью которых рыцари большой дороги облегчали сумы и кошели беспечных путников.
К слову сказать, дороги вокруг Лондона в то время являлись самыми небезопасными во всей Англии, потому как богатая столица королевства и один из самых больших торговых городов Европы, словно дичь – охотников, отовсюду притягивала сюда лиходеев, алчущих поживиться за счёт грабежа и не боявшихся ни виселицы, ни вечных адских мук.
Хоть Арчи и считал себя недостойным внимания разбойников, ежели они ему невзначай повстречаются, но на всякий случай, покуда он шагал по большаку, старался держаться рядом с людьми, путешествующими в одном с ним направлении. Сейчас же на этой пустынной и сумрачной дорожке юнец непроизвольно нащупал рукой болтавшийся на поясе кинжал, торжественно водружённый туда утром Вильямом Ласси.
То ли мрачный, тёмный лес, стороживший по сторонам сузившуюся донельзя дорогу, стал массивней и гуще, а угрожающе нависшие над дорожкой дубы и ясени – выше и развесистей, то ли небеса затянули набухшие от воды свинцовые тучи, а может, и всё вкупе, только постепенно от радужного настроения Арчи не осталось и следа. Даже слова разухабистой и неприличной песенки, которой он вознамерился было себя взбодрить, замирали у него на губах. Не было слышно ни весеннего щебета птиц, ни весёлого звона ручейков, лишь шаги путника да поскрипывание высоких вековых стволов нарушали царившее вокруг гробовое безмолвие. Так что Арчи тщательно глядел себе под ноги, боясь ненароком потревожить его треском сухой ветки.
Неожиданно к вящему облегчению гонца где-то вдали прозвучал колокольный звон, означавший близость замка и конец всех тревог. У него сразу отлегло от сердца и вернулась прежняя бравурность. Арчи уже предвкушал скорый отдых и неплохой по его меркам ужин.
Однако, увы, надеждам этим в тот день не суждено было сбыться. Не долго Арчи смог наслаждаться сладостным звуком колокола и радужными мыслями об отдыхе, потому что… нежданно негаданно около его головы просвистела стрела. И лишь инстинкт самосохранения и ловкость молодого тела, казалось, спасли от неминуемой гибели нашего путника, который резко припал к самой земле, как только его уши уловили неприятный свист в воздухе.
«Бежать!» – промелькнуло в голове у Арчи.
Но было уже поздно. Впереди на тропе появилась тёмная фигура в широком балдахине и капюшоне, с длинной и увесистой дубинкой в руках. Быстро оглянувшись, Арчи понял, что путь позади тоже отрезан – там стоял человечек с натянутым луком и глядящим в лицо юнца острием стрелы. В это мгновенье из-за широкого дуба совсем рядом с Арчи появился третий член разбойничьей шайки, хладнокровно разматывая верёвку и безбоязненно приближаясь к юнцу.
Бросив на него взгляд, Арчи весьма удивился и даже присвистнул – то была девчонка! Несмотря на грубые мужские штаны и куртку, а также простоватые, но строгие черты лица и нахмуренный лоб, выбивающиеся из-под шапки длинные волнистые волосы и мягкий овал лица выдавали в ней дочь Евы.
– Эй, ты! – сказала она повелительным голосом. – Хочешь жить – бросай в сторону свой меч.
Арчи немного пришёл в себя и даже усмехнулся – она назвала мечом его простенькое, безобидное оружие. Увидав такого «разбойника», юнец чуть приободрился. Тем не менее, ему ничего не оставалось делать, как подчиниться, и, сняв кинжал с пояса, он швырнул его на дорогу.
– А теперь давай сюда свои белоснежные ручки, сэр, – приказала лесная амазонка.
Арчи хотел было возразить против такого насилия над своей персоной, но, почувствовав угрожающее приближение сообщников разбойницы, предпочёл безропотно позволить себя связать, лишь заметив вскользь:
– Фи, не моё это дело с девчонками сражаться. Пусть купеческие сыночки с Ломбард-стрит этим забавляются.
Атаманша сильнее стянула узел на руках Арчи, так, что гримаса боли скривила его худую физиономию. Подошли два других члена шайки.
– Ну что, Салли, дюже этому фазану лапки-то затянула? Не упорхнёт? – спросил один из них,.
– Не, Лан, коли только он в муху не обернётся, как в той балладе про Робина Гуда и ведьму. Помнишь?
– А то как же! – ответил Ланс, высокий парень с дубинкой. – Да я чуть не назубок все истории про отважного Робина запомнил.
– А ещё сказывают, умела так делать старая ведьма из Уидфорда, которую осенью сожгли, – продолжала Салли. – Ну, а ежели у этой птахи власти такой нету, то ведь всякому известно, что мои узлы такой мёртвой хваткой держат, что самому чёрту не вырваться, а уж тем паче этому… – Молли бросила презрительный взгляд на пленника. – Не зря же я всю жизнь овец наших перед стрижкой скручивала, да и лошадь могу застреножить почище любого конюха.
Юнец поморщился при мысли о том, как посмели сравнить со скотиной его, когда-то короля лондонских рынков, а ныне такой важной персоны в услужении могущественного герцога.
Сподручные Салли, равно как и она сама, на глаз выглядели ровесниками Арчи, но в отличие от него, одеты они были в ужасные тряпки, гораздо хуже тех, что были на юнце, когда его на Вестчип повстречал Мастер Ласси. Это давало Арчи лишний повод пренебрежительно относиться к своим захватчикам, но лишь внутренне, ибо он был, в конце концов, их пленником, обезоруженным и связанным. «Одному дьяволу ведомо, что у этих оборванцев на уме, – думал Арчи. – Как бы их одурачить и удрать?»
Троица повела пленника в глубину леса, не забыв прихватить брошенный им на дорогу «меч». Шли молча, кругом стояла тишина и лишь прошлогодняя листва шуршала под ногами да потрескивали сухие ветки. Сумерки превратили лес в непроглядную чащу. Под кронами деревьев не видать было ни тропинки, ни какого-либо ориентира, по которому можно было бы судить, куда же они двигаются. Так прошло около получаса.
– Добро, Дэви, что ты промазал, – прервав молчание, с серьёзным видом сказала Салли одному из компаньонов, самому низкому из троицы. – Не гоже, чтобы на нас была кровь невинных. И кто знает, может статься, этот хлыщ тощий, разодетый как петух, никому и зла-то не сделал. Навряд ли он успел таких грехов натворить, за которые смерти придают.
– Сказать по правде, сестрица, – ответил коротышка, – я просто не желал его наряд повредить. Ведь охотник, чтоб беличью шкурку не попортить, в глаз стреляет. А нам ведь его одежонка ой как пригодиться. Так ведь, Салли?
– Стойте! – воскликнул вдруг Ланс. – А что же нам дальше делать-то с этим петушком? Может, наперво пёрышки ему пощипать, перед тем как в суп отправить?
– И то верно, – с радостью согласился Дэви. – Хей-хей-ура! Ежели хорошенько потрясть, то с его нарядов, глядишь, чего и вывалится.
– Нет, не здесь. Вот придём на место, там и будем совет держать и суд вершить, как Робин Гуд со своими лесными братьями делал, – авторитетно заявила Салли.
У Арчи возникло ощущение, будто его как корову ведут на убой. Ему всё это, понятное дело, уже перестало нравиться, и он решил подать голос:
– Эгей, бравые разбойники, а куда мы тащимся по этим дебрям? Глядишь, и идти-то вовсе не надо. Вы бы меня отпустили восвояси, а я вам монетки мои – клянусь преисподней! – все отдам.
– Ну, денежки твои и мы и так заберём. А у тебя, сэр франт, что, ноженьки уже утомилися? – съязвила Салли. – Ай-ай, бедняжка.
– Ну, вы и скажете, королева кикимор! – ответил пленник. – Да мне по силам за один божий день все лондонские рынки прошерстить.
– Эй, ты, а что такое «прошерстить»? – наивно спросил Дэви, в то время как глаза девчонки зло сверкнули во мраке.
Прошло вот уж два дня, как они убежали из дома. А случилось это после того, как через их селение по пути в столицу прошёл некий бродячий музыкант, зарабатывавший на жизнь распеванием различных песенок, весёлых и грустных, баловливых куплетов и старинных баллад – в зависимости от случая, аккомпанируя себе игрой на цитоле, бренчанием бубенцов или просто играя весёлые мелодии на флейте. Но более всего по душе пришлись ребятам легенды про атамана лесных разбойников, отважного Робина Гуда. Увлекательные сказания, умело исполненные бардом, полностью захватили воображение простых деревенских подростков, да настолько сильно, что они вознамерились сами уподобиться бравым лесным разбойникам, грабить богатеев и помогать страждущим.
Второй день юные разбойники устраивали засады у дороги. Но, к большому сожалению незадачливых разбойников и к благу добропорядочных жителей королевства, дорога оставалась почти пустынной. А если кто и появлялся, так то были группы фермеров, направлявшихся на рынок, или всадники, увешанных доспехами и оружием…
– Ну, «прошерстить» означает позаимствовать на веки вечные то, что никудышно лежит, – пояснил Арчи.
– Это значит своровать, так ведь? – наивно спросил Дэви.
– Фу ты, ну ты! Терпеть не могу это словечко, – сказал, поморщившись, Арчи. – Звучит как-то по-простецки. Мне так больше по нраву – одолжить до поры, покуда Темза вся не вытечет, или первоцвет на день всех святых не распустится.
– Так, по твоему виду, приятель, не скажешь, что ты таким способом себе на жизнь добываешь, – недоверчиво сказал Ланс.
«Что бы придумать? Как выкрутиться? – усиленно думал Арчи, напрягая свои извилины, которых было, в общем-то, не так уж и много. – Был бы сейчас Мастер Ласси на моём месте, уж он бы сообразил».
Салли сказала:
– Дэв, Ланс, вы хотели его потрясти. А ну-ка, давайте! Любопытно мне глянуть, что у него за пазухой.
– Эгей, к чему спешить, благородные рыцари чащобы? У меня есть лучшее для вас предложеньице, – тянул время Арчи, надеясь то ли на чудо, то ли на появление искры сообразительности, что, в общем-то, было для него одно и то же. – Да коли хотите знать, у вас есть шанец сорвать гораздо больший куш, нежели те жалкие монеты, что вы откопаете в моих карманах.
Дэви, шедший впереди вдруг встал как вкопанный, обернулся и уставился на пленника. Ланс наткнулся на него и выругался, но тоже остановился в ожидании.
«Кажись, прорвало, – промелькнуло у Арчи. – А чего же дальше наплести?»
– Да что вы рты разинули и слушаете этого лондонского хлыща! – нетерпеливо воскликнула Салли.
– Не, погоди, сестрица, – промолвил Ланс. – А может, послушаем, что он нам скажет? Ну, ты, фазан, выкладывай, что знаешь.
Арчи с видом собственного достоинства оглядел троицу, насколько позволяли сумерки, и продолжил:
– Некогда и я был таким же горемычным оборванцем, что и вы нынче. Но однажды мне шибко повезло. Раз как-то топаю я по Башмачному переулку и гляжу – на те раз! – купчина один толстопузый по неосторожности споткнулся и свалился прямиком в сточную канаву. Ну, кумекаю, дай помогу пузану из ямы выбраться, а заодно и гляну, чем его карманы богаты. Ну, выбрались мы из ямы, и тут он обнаружил, что кошель с пояса у него исчез и сразу подозрительно на меня глазки свои заплывшие пялит. Испугался я, что он заорёт, кликнет на помощь, и схватят меня, найдут при мне его мошну – и всё! – пропал я тогда. Но не тут-то было. Вместо того, чтобы дать дёру, сиганул я снова в канаву эту вонючую, а когда вылез обратно протянул ему его кошель. Ну, купчику тому видать стыдно стало, что он меня заподозрил, и он в благодарность взял меня к себе в услужение. Кормить стали досыта, одевать в одежонку приличную. Во, смотрите!
Арчи сделал медленный оборот, чтобы разбойники могли осмотреть его одеяние. Ланс тем временем выбил искру и зажёг пук сухих веток, чтобы поглазеть на одеяние пленника.
Юнец же с упоением подумал про себя: «Ух, ты, ручки в ножки, сумочки-кошёлки! Ну, и представленьице я устроил! Что ж, врать так по полной. Мастер Ласси наверняка мной бы гордился». Вероятно, ощущение смертельной опасности добавило угольков под котёлок его мыслей, и Арчи, ни мало не смущаясь, вдохновенно продолжал сочинять:
– Дом у купца – почище иного дворца сановничьего будет, всё мебель резная, гобелены да зеркала. А кормят на кухне, поди, не хуже чем на королевских пирах.
– А что ж тощий такой словно журавль колодезный? – с издёвкой перебила Салли.
– Так, то от душевных мук, – печально сказал Арчи, сам не ожидавший от себя такой прыти, и его понесло дальше: – Ну, стал я, значит, по городу бегать, порученьица различные выполнять – отнеси то, принеси сё. Всё бы ничего, только чувствую я себя как железными цепями окованный…
– Да не цепями железными ты окованный, а верёвкой конопляной связанный, – снова ехидно прервала его Салли. – Да что вы его слушаете! Смотрите-ка, как раскукарекался. Он, наверняка, и врёт-то всё. Гляньте-ка на его лукавую физиономию.
Арчи обиженно замолк.
– Да пусть скажет, Салли. Что нам с того? – сказал Ланс. – Только не тяни, приятель, будто лошадь норовистую за повод.
– Точнёхонько, пускай расскажет, – поддержал Дэви. – А, сестрица?
Юная атаманша нахмурилась и презрительно отвернулась, а приободрённый поддержкой наивных сельских мальчишек Арчи продолжил свой трёп:
– Ну, так вот. В купеческом доме том будто в казематах Тауэра. Делать всё надо по правилам, говорить вежливо со всеми, и ругаться нельзя, руки и лицо мыть каждый божий день. Не позволительно никуда пойти по своему желанию. И все тобой погоняют: пойди туда-сюда, сделай то да сё. Фу ты, ножки в ручки, сумочки-кошёлки. Не по мне такоё житьё. Терпеть не могу кому-нибудь повиноваться. И вот, намерен я оставить эту клетку золотую, чтоб снова стать птахой вольной. Но не просто так, а прихватить с собой добра какого-нибудь. Купчишке моему пузатому от этого не убудет – у него деньжищ немерено, и вешиц всяческих дорогих видимо-невидимо.
– Да нам-то от того какой прок? – нетерпеливо спросил долговязый.
А Салли через спину саркастически добавила:
– Вы только послушайте, как поёт птичка из золотой клетки, как в силки попалась.
– Вот в этом-то и вся суть, – как ни в чём не бывало продолжал сочинять Арчи. – Один вельможа из дворца Хансдон заказал моему хозяину большую диадему французской работы из чистого золота и всю бриллиантами усыпанную. Ну, вещицу ту купец привёз и собирается отправить во дворец. А меня послали наперёд покупателя предупредить, чтоб денежки готовил. Даже бумагу дали, вот. – И юнец для пущей убедительности показал вручённое ему Мастером Ласси письмо, почти уверенный, что читать его узурпаторы не умеют, как и он сам. – А назавтра вслед за мной по той дороге проедет всадник, при котором и будет та диадема бесценная. Она таких деньжищ стоит, что вы в жизнь свою не видывали, да и навряд ли когда увидите, коли будете по лесу скитаться… Эх, ручки в ножки, сумочки-кошёлки, вот ежели бы мы могли его схватить и вещицу ту отобрать!
– Ура! – завопил Дэви. – Мы, отважные разбойники отнимем драгоценность!
– А что нам с этой вещицей делать-то? – осторожно спросил Ланс. – Похлёбки с неё не сваришь.
– Знаю я одного ростовщика с Вонючего переулка, – бойко ответил Арчи. – Он не брезгует и краденое скупать. Так он за эту диадему отсыпит не меньше полдюжины соверенов. На всех хватит. – Юнец просто упивался нежданно проснувшимся в нём красноречием.
– Полдюжины соверенов! – воскликнул Дэви, прыгая от радости. – Мы будем богатыми!
– Замолчи, Дэв! Тебе бы ещё у мамки сиську сосать, – прикрикнула атаманша. – Не для того мы в разбойники подались, чтобы себе богатство наживать.
– Слышишь, Сал, – сказал долговязый Ланс, – может, стоит рискнуть, а? Уж слишком заманчиво.
– Не по сердцу мне эта затея. Да и он сам… – Салли кивнула на пленника, – какой-то фальшивый, словно пугало на поле.
– Дюжина соверенов, дюжина соверенов, – упрямо твердил Дэви.
– Что ж, – сказала Салли, оглядев своих компаньонов, – будь по-вашему. Подчиняюсь большинству. Повели его в замок, там всё и обсудим…
У Арчи отлегло от сердца. «Ух, сработало. А неплохо я нынче этих олухов одурачил! Диадема золотая с бриллиантами. Купец. Дюжина соверенов. Они уши-то и развесили, простофили несчастные. А что ж завтра-то? Эх, утро вечера мудренее. Авось, чего ещё измыслю… А девчонка эта, Салли, видать, не верит мне. Надо бы с ней поосторожней», – в таком духе размышлял наш пленник, пока они подходили к разбойничьему логову.
«Замок» оказался не чем иным, как маленькой естественной пещеркой, образовавшейся со временем на крутояре глубокой ложбины. Вход был скрыт дыбившимися на склоне оврага исполинскими корнями и поваленными бурей деревьями. Чтобы добраться до вертепа юных разбойников, им пришлось достаточно долго идти вдоль шумного ручья, протекавшего по самому дну оврага, перелезать через трухлявые, упавшие деревья, перепрыгивать через рытвины и переходить по камням то на один берег ручья, то на другой.
При свете древесного факела, которым Ланс освещал дорогу, процессия, в конце концов, прибыла на место. Перед входом был быстро разложен костёр, на котором Дэви принялся жарить подстреленного им днём зайца и пойманных в силки нескольких дроздов и серых куропаток. Арчи тем временем завели вовнутрь пещерки и бросили на ворох пахнущей гнилью прошлогодней листвы. Рядом с входом, в стене был вырыт маленький очаг, который хоть и дымил, но давал немного тепла. Около него-то и устроились двое старших разбойников, покуда Дэви колдовал над ужином.
– Можно дерево повалить и дорогу перегородить, – предложил Ланс. – А как всадник тот остановится, ты, Салли, отвлечёшь его внимание, а я тем временем петлю на него сзади наброшу. Дэв пустит стрелу в круп его скакуна – по такой мишени и слепой с десяти ярдов маху не даст, а уж наш младшой, хоть и простоват, а стрелок отменный, – лошадь рванёт, и я уж верёвку-то не выпущу, покуда седок оземь не свалится. Тут мы на него все и набросимся. Ну как?
– Не справиться нам втроём, – засомневалась юная атаманша.
– А меня вы не считаете? – подал голос Арчи из своего угла. – У меня и кинжал большой есть. – Юнец глянул на нахмурившуюся Салли с его кинжалом за поясом и поправился, – был то бишь, я хотел сказать.
Молодые разбойники посовещались меж собой. Надо было рискнуть. Решено было завалить толстое дерево поперёк дороги и устроить засаду. Из оружия у них были только самодельные луки, топор да кинжал. С таким арсеналом справиться с вооружённым всадником было непросто. Поэтому они могли уповать лишь на внезапность и быстроту. И без помощи своего пленника им было явно не обойтись. Так рассудили новоиспечённые разбойники с большой дороги.
Окрылённый надеждой Арчи спросил:
– Руки мне, может, развяжете, а? Так их перетянули, черти лесные, что аж занемели уже.
– Как тебя звать-то? – полюбопытствовал Ланс.
– Арчибальд Петхэм я, – ответил юнец, – или просто Арчи.
– Сал, а может, развяжем его? – предложил Ланс.
– Эх, а я тебя за умного держала, братец, – ответила атаманша. – Неразумную скотину пасти у тебя лучше выходит, нежели с плутоватыми лондонскими хлыщами обращаться. Ляжем спать, а этот прохвост как дёру даст, только его и видели. Нет, Ланс, обмануть нас я не позволю. А тебе, сэр Арчибальд, придётся до утра уж как-нибудь потерпеть. Я тебе ещё и ноги повяжу на всякий случай.
Вскоре в пещерку втиснулся Дэви. В руках у него были нанизанные на прутья куски жареной дичи. Ланс взял один из них и великодушно протянул Арчи. Тот неуклюже схватил еду связанными руками и жадно впился в мясо зубами.
Когда подростки покончили с незатейной трапезой и запили её холодной водой из ручья, Дэви сказал мечтательно:
– Эх, ну и здорово же у того менестреля про славного Робина Гуда выходило. Правда, а?
– А у нас пока ничего не выходит, – угрюмо произнесла атаманша.
– Не печалься, Салли, – продолжил Дэви. – Завтра мы станем богатыми. Так ведь, Арчи?
Юнец пробормотал что-то неразборчивое из своего угла.
– Ланс, братик, ты сказывал, что держишь в голове все баллады про Робина Гуда, – никак не мог угомониться Дэви. – Так хочется ещё разок послушать. А?
– В самом деле, братец, спой нам про славного атамана, – поддержала Салли. – Ужин утолил голод, огонь греет тело, а хорошая песня согреет душу.
Ланс оглядел всю компанию: суровая и задумчивая Салли, живой и беспечный Дэви сидели бок о бок около огня, а их пленник забился в угол, свернулся калачиком и, казалось, уже уснул.
– Ну, распевать я не мастак, – сказал Ланс. – А потому расскажу одну историю, которую особенно запомнил – сказ про Робина Гуда и пастуха.
– А я смекаю, почему Ланс именно её хочет рассказать, – воскликнул Дэви, наивно радуясь своей сообразительности. – Он же давеча сам был пастухом, вот ему и нравятся истории про таких как он. Верно ведь, да?
– Помолчи, Дэв, – нахмурилась Салли.
Если бы не полумрак, можно было бы заметить румянец на лице Ланса. Но, не обращая внимания на простодушного товарища, он продолжил:
– Что ж, тогда слушайте и не перебивайте, а то остановлюсь и не буду говорить. И уж не взыщите, коли я слова где перепутаю.
И своим грубоватым голосом, привыкшим окрикивать скотину, Ланс поведал следующую историю, декламируя по мере своего заскорузлого таланта:
Однажды славный Робин Гуд
По лесу шёл один
Вкусить природы благодать
И отдохнуть от дел.
Вдруг молодого пастуха
Заметил на опушке он,
В тени большого лопуха
Тот видел сладкий сон.
– Почто разлёгся, ты, лентяй!
Я голоден, ищу питьё,
Суму твою проверить дай
И флягу кинь, глотну с неё.
«Наглец, не знать тебе того,
В суме и фляге что держу,
Припас мой скуден, потому
Не подлежит он дележу.
Какою властью обладаешь
Ты, непочтительный прохожий,
Что мне приказывать дерзаешь
И сон полуденный тревожишь?»
– Меч на моём боку,
Ему всегда там место,
Он – только власть,
Что для меня известна!
Глотнуть из фляги той
Позволь мне тотчас,
Коль горести большой
Иметь не хочешь.
«Наглец, не пить тебе из фляги,
Моли у чёрта дать хлебнуть,
Коли не явишь мне отваги,
Дерись!…иль хочешь улизнуть?»
И крикнул Робин Гуд задорно:
– Какую ставку нам избрать,
Чтоб драться было не зазорно
И честь свою не замарать?
Поставлю двадцать фунтов я
Червонных, золотых монет,
Коли виктория твоя,
То приз достанется тебе.
Пастух застыл в конфузе робком.
«Гордец, откуда деньги у меня,
Я в жизнь монет не видел столько,
Суму и флягу ставлю я».
– Условия твои я принимаю,
Что с бедняка возьмёшь?
Уж вскоре я узнаю,
Сколь ты в бою хорош.
Пастух, учти, тебе изрядно
Придётся нынче постараться,
И биться храбро, беспощадно,
Чтоб мне с деньгами распрощаться.
«Наглец, ты долго тянешь с болтовнёй,
Пастуший посох нам укажет труса,
Меч поднимай хвалённый свой».
И началась тут на опушке заваруха.
Ланс перевёл дыхание, глянул упоённым взглядом на слушателей. Глаза Дэви горели восторгом и он жадно ловил каждое слово. Салли внимала сосредоточенно и не по-девичьи степенно. По Арчи, свернувшемуся в углу калачиком, трудно было судить, слушает ли он вообще. Ланс набрал воздуха в лёгкие и продолжал:
Летним днём случилась битва
С дести до четырёх после зенита,
Как с мышкой кот пастух играл,
Лишь щит разбойника спасал.
Хоть спас его от многих бед,
Но не умножил и побед,
Оружья стук всё раздавался,
Пастух, казалось, издевался.
Ударов Робин получил немало,
Когда по голове его сбежала
Рдяная струйка крови вдруг,
На вереск рухнул он как труп.
«Вставай, вставай, ах ты, гордец,
Признайся, наглый удалец, –
Чтоб честным был финал, –
Ты мне сегодня проиграл!»
– А человек ты честный коль,
Взять рог охотничий дозволь,
Молю тебя, – стенает Робин в муках, –
И проиграть позволь три звука.
«На то, пожалуй, соглашусь,
Неужто я чего-то убоюсь,
Гуди хотя бы до утра,
Не испугать тем пастуха».
Здесь Робин громко проиграл
Три раза звучный свой сигнал –
Малютка Джон через луга
Летит как быстрая стрела.
«Кто там идёт, скажи, наглец?»
– А? Этот славный удалец,
Что вдалеке ещё покуда?
Он из отряда Робин Гуда.
И подбежал к ним вскоре тот:
– Ты звал меня? Случилось что?
– Всё плохо, – молвил предводитель, –
Пастух теперь мой победитель.
Вскричал Малютка Джон: – Эгей!
Пастух! Ко мне оборотись скорей,
Черёд пришёл со мной сражаться,
Что выберешь: бежать иль драться?
«Отрадно на моей душе, гордец,
Всем ведомо: пастух – храбрец!
Как чёрт реви, коли охота,
Клянусь, боязни – ни на йоту».
И вот они сошлись в бою,
– Проверю силушку твою, –
Отважно Джон изрёк, –
Дерись иль мчися наутёк!
Вот приложился посох пастуха со звоном
По подбородку Маленькому Джону.
– О, что за чёрт, ты сильно бьёшь,
Но бой неправедно ведёшь!
«В чём я не прав? Приз честно выиграть хочу,
Сдавайся лучше, а не то тебя я так поколочу,
Что долго не согнуть тебе хребта
И помнить вечно посох пастуха».
– Каналья, одолеть меня желаешь?
Что ж, участь скоро ты свою узнаешь. –
И снова дерзко Джон изрёк, –
Дерись иль мчися наутёк!
Рассказчик вновь на миг остановился, припоминая заключительные строки баллады, и на одном духе договорил:
Ударов пастух нанёс стократ раз,
Лишь искры летели у Джона из глаз,
Два раза воскликнул Робин тут кряду:
– Пастух, ты выиграл честно награду!
– Всем сердцем с тобою согласен я буду, –
Джон побеждённый вторил Робин Гуду.
– За сельской пастушьей братии цвет,
Бочку вина осушить дам я обет!»
О Маленьком Джоне и Робине Гуде
Века эта песнь звенеть ещё будет,
Как сельский пастух побил их обоих
Не ведали раньше подобных историй.
Глава VLI
Засада
Едва стало светать, юные разбойники были уже на ногах. Очаг в пещерке давно угас, и холод пробирал до костей. Разводить новый огонь и греться не было времени – приходилось поторапливаться, чтобы успеть устроить на дороге засаду. Ёжась от холода, они развязали пленника, которому на ночь недоверчивая Салли скрутила также и ноги. Кинжал ему, однако, и не думали отдавать. Арчи, впрочем, и тому был рад, что избавился от пут. Он живо вскочил и стал растирать занемевшие конечности. Мигом докончив остатки вчерашних дроздов, вся компания отправилась в путь по промозглому утреннему лесу.
Арчи топал в середине и затылком чувствовал, как Салли сверлит его взглядом, хотя, на самом деле, у пленника и на уме не было, чтобы удрать. Ведь ежели бы его даже и не догнали, на что, впрочем, трудно было и рассчитывать, юнец не имел ни малейшего представления, как выбраться из этого пустынного и дикого леса. Это на лондонских улочках и площадях, среди многоликой толпы чинных растяп и богатеньких ротозеев он чувствовал себя, как рыба в воде, а здесь, внутри мрачного и чуждого леса он был жалким и беспомощным пигмеем, пугавшимся каждого шороха. Арчи прекрасно это осознавал, потому даже и не помышлял до поры до времени дать дёру, а ждал более подходящего случая, послушно плетясь в веренице молодых грабителей.
У края дороги, там, где она огибала взгорок и делала крутой поворот, Ланс срубил развесистый ясень, и с преогромным трудом все четверо перетащили и положили его поперёк дороги так, что проехать стало никак нельзя, не убрав дерево в сторону или не обойдя его через подлесок.
– Ну что, когда твоя диадема поёдет? – спросили у Арчи.
Юнец глянул на небо, почесал шею и сказал:
– Ждать надобно. Я почитай весь день досюда топал. Верховой, может, и быстрей доберётся.
А у самого на душе кошки скреблись. «Историю-то я выдумал хоть куда. Поверили мне дуралеи, – думал Арчи. – Так ведь, чёрт возьми, этого призрачного посланца с драгоценностью до лета можно ждать не дождаться! Рано или поздно до этих тупоголовых дойдёт, что я их дурачу. Эх, несдобровать тогда тебе, Арчи Петхэм. Ведь по дикости своей и злобности они могут чего плохого мне учинить, и даже того, вовсе погубить. – Юнец глянул на сырую холодную землю меж деревами, и его пробрала дрожь. – Хотя день только занялся. Авось, кривая как и вывезет…»
Засада была подготовлена разбойниками на славу. Ланс с топором и крепкой верёвкой в виде аркана спрятался в кустах по одну сторону тропы, Арчи и двое других разбойников – по другую. Дэви должен был всадить стрелу в лошадь, как только Ланс накинет петлю на всадника и затянет её. Юнцу вручили дубинку и наказали со всей мочи ахнуть посланца по голове, когда тот свалится из седла оземь. А Салли предстояло крепко накрепко связать оглоушенного гонца. Таков был вкратце немудрёный план, придуманный Лансом накануне.
Единственно, о чём не догадывались юные грабители, так о том, что ни купеческого посыльного, ни золотой диадемы не существовало и в помине. До того красочно и заманчиво Арчи им всё расписал, что даже атаманша поверила ему – или почти поверила, – не говоря уже о добродушном Ланселоте и наивном Дэвиде.
Так в тревожном ожидании прошёл час…, другой…, третий.
– Ну, где же твой сулёный гонец-то с диадемой, золотой да алмазами усыпанной? – рассерженно спрашивала Салли.
– Небось вот-вот уж появится, – отвечал Арчи всё менее и менее уверенным голосом.
Но за весь божий день ни один всадник не проехал по лесной дорожке, разве что прошли два фермера и, увидав преграждавшее путь дерево, хотели было убрать ствол с дороги, но задача эта оказалась им не по силам, и, покачав головой, они пошли своей дорогой.
Ещё пробрёл нищий странник, согбенный и с тяжёлым посохом, он боязливо обошёл дерево и, озираясь по сторонам, поспешил прочь.
Ближе к вечеру показался бродячий жестянщик, увешанный принадлежностями своего ремесла, бодро шагавший по дорожке и напевавший какую-то песенку. Увидев дерево поперёк дороги, он присвистнул, преспокойно уселся на ствол, вытащил из своей торбы кусок вяленого мяса, флягу с элем и принялся утолять голод.
У притаившихся в кустах ребят, с утра не имевших и крошки во рту, текли слюнки, но покинуть засаду они не могли даже, когда жестянщик перемахнул через ствол и отправился дальше, весело горланя песню.
У молодой предводительницы давно проснулись и крепли давешние подозрения относительно правдивости Арчи, и её злой взгляд не сулил пленнику ничего хорошего. Растерянный юнец не знал, что и делать. Мысли его крутились вокруг одного: что придумать и какую отговорку найти, дабы оттянуть и избежать жестокой расправы.
Стало смеркаться, и нетерпение разбойников достигло крайности. Арчи уж подумывал, чтоб пуститься наутёк по дороге в сторону Хандсона, и лишь с опаской поглядывал на лук с вложенной стрелой в руках Дэви. Однако, не спускавшая с пленника глаз Салли перехватила его взгляд и, сжимая кинжал, процедила сквозь зубы:
– Даже и не помышляй, гадкий враль.
От её тона у Арчи похолодело сердце. «Небось, догадывается, чертовка, что я их хочу в дураках оставить. От неё пощады уж точно не жди. Вон, без конца на меня своими злыми глазищами так и зыркает, мерзавка… Эх, и на ум-то ничего не приходит, – сокрушённо думал пленник. – Видать, пропал я, и закопают меня под каким-нибудь из этих дубов». Ему вдруг стало безумно жалко себя, и только стыд перед девчонкой сдерживал его от слёз.
Как известно, события зачастую происходят тогда, когда их совсем не ждёшь, или же напротив, если желаешь их свершения давно и всем сердцем. Так произошло и в нашем случае. То, что юные разбойники ожидали с нетерпением и надеждой весь день, и в нереальности чего Арчи был уверен абсолютно точно – ибо то был плод его фантазии, а именно, появление всадника, – так вот, он, в конце концов, и явился на место действия.
Трудно судить, было ли это совпадение, благосклонность провидения или же просто немыслимость, чтобы рано или поздно на ведущей в большой замок дороге не появился верховой. Как бы то ни было, когда атаманша размышляла, как лучше проучить обманщика, на дороге в сторону Хандсона послышался мерный стук копыт, а за поворотом, меж голых стволов замелькала фигура всадника на гнедой лошади.
Всё внимание юных разбойников тут же обратилось к долгожданному наезднику, а молодые сердечки учащённо забились. Ланс вытянул руку, готовясь заарканить седока, Дэви натянул тетиву лука, а Салли нагнулась к лежавшей у её ног верёвке.
Арчи тоже всполошился, крепче сжал дубинку и впился взором в кавалериста, хотя вовсе и не для того, чтобы принять участие в атаке и выполнить возложенную на него «почётную» обязанность. Наоборот, юнец, крайне удивлённый и в то же время обрадованный появлению верхового – ибо это давало ему надежду на спасение, – глазел на приближающегося ездока, дабы разобрать, можно ли на того рассчитывать. Инстинкт подсказал ему, что это, возможно единственный шанец избежать страшной участи, уготованной ему злодеями.
По мере приближения всадника становилось ясно, что это не какой-то там грум или стремянной, а неплохо защищённый и вооружённый латник или вообще даже благородный джентльмен, судя по пышному плюмажу.
Юнец поглядел вбок – всё внимание молодых разбойников было приковано к всаднику, и за пленником никто уже не следил. Нечего было раздумывать, и как только кавалерист обогнул поворот и оказался в полной видимости, Арчи, бросив ненавистную дубинку, вылетел из кустов и со всех ног припустился к наезднику.
– Засада, сэр! Берегитесь! – пронзительно кричал юнец, как угорелый несясь в сторону приближающегося верхового.
Тот, заметив дерево поперёк дороги и разобрав вопли бегущего к нему мальчишки, поднял коня на дыбы и в руке его засверкал палаш.
– Проклятый изменник! – воскликнула Салли и воззвала: – Дэв, стреляй же в него!
– В кого, сестрица? – растеряно спросил коротышка. – В коня, да?
– Да нет же, тупица, в предателя окаянного, в лгуна и труса! – кричала юная атаманша. – Ну, давай же!
Арчи краем уха услыхал слово «стреляй» и, пока метко прицелившийся Дэви спускал тетиву (что он делал уже с закрытыми глазами), юнец успел юркнуть и распластаться на земле на полпути между поваленным деревом и всадником, так что стрела просвистела выше и впилась в дерево.
Младые последователи Робина Гуда, ругаясь и кляня вероломного предателя на чём свет стоит, ретировались вглубь леса. Из-за деревьев лишь послышался раздосадованный и презлой выкрик Салли:
– Погоди же, подлый иуда! Мы ещё встретимся! Помни об этом и трепещи!
Арчи выждал ещё немного, пока лес не поглотил шум отступления незадачливых разбойников, затем поднялся и с ликующей физиономией предстал перед всадником. Тот уже убрал меч в ножны и со снисходительно улыбкой взирал сверху на мальчишку. Молодое и приветливое лицо седока вызывало доверие. Поверх статной фигуры был наброшен длинный малиновый плащ с меховой опушкой, из-под завязок которого виднелась прикрывавшая тело кольчуга тонкой работы. Голову его украшал лёгкий шлем без забрала, который венчал белоснежный щегольской плюмаж, на сапогах из мягкой кожи – позолоченные шпоры.
– Сэр, вы спасли мне жизнь, – завёл благодарственную песню юнец. – Коли бы не вы…
– Что здесь произошло, мальчик, – прервал его всадник, – и почему никто не уберёт с дороги упавшее дерево? Так-то лесничие и жители Хандсона следят за подъездом к замку английской принцессы и будущей королевы!
– Ух, ты! А какой принцессы и что за королевы? – подивился Арчи.
– Это тебя, впрочем, не касается, коли ты такой безмозглый, – недовольно продолжил молодой вельможа. – А что это за человечки убежали в лес? Мне показалось даже, будто это были дети. И к чему им надобно покушаться на жизнь такого безобидного и несмышленого отрока, каким ты кажешься?
– О, благородный сэр! Видите ли, я направлялся в замок Хандсон с ответственейшим порученьецем от моего хозяина. Шёл себе и шёл преспокойненько, никого не задирал. А эти неотёсанные сопливые грубияны возомнили себя какими-то там робингудами и давай законопослушных поданных грабить и убивать.
– Робин Гуд, малец, это благородный атаман разбойников из Шервудского леса, грабивший только тех, кто неправедно наживал себе богатство, а уж тем паче не убивавший слабых и беззащитных. Удивительно, что когда барды про то по всем тавернам баллады рассказывают, тебе про него ничего не известно.
– Ха, не смешите меня, сэр, где это вы видали благородного-то разбойника? – возразил Арчи. – Да и эти вот, – он кивнул в сторону леса, – душегубы проклятущие, перегородили дорогу и помышляли путников грабить и жизней лишать. Надобно таких в Тайберн, и пусть себе на солнышке сохнут, словно плотвичка на засушке. А меня точно порешили б, кабы вы вовремя не появились. Так что, сэр, считайте меня вашим должником.
– Клянусь душой, навряд ли мне будет много прока от таких худосочных должников, – чуть веселей сказал юноша. – Скажи-ка лучше, с каким таким поручением ты направляешься в Хандсон.
– Ну, письмецо мне надобно одно передать, – неохотно ответил Арчи, памятуя о наказе Мастера Ласси ни с кем о том не разговаривать.
– И кому же, любопытно, ты должен передать письмо?
– Некоему вельможе в замке Хандсон, сэр, – уклончиво ответил юнец.
– А именно? – напирал всадник.
– Извините меня, сэр, но мне велено передать его во дворце прямо из рук в руки и ни с кем о том по дороге не разглагольствовать. Вот.
– Я тоже направляюсь в замок Хандсон, милый мой, и в некотором смысле ответственен за благополучие его обитателей, – сказал молодой вельможа. – А потому ты вынуждаешь меня беспрекословно потребовать назвать имя человека, кому предназначено послание.
– Но, сэр!
– Никаких «но», изволь! К тому же не забывай, чертёнок, что ты мой должник.
Но Арчи упрямо стоял и молчал. Самое страшное, ему казалось, было позади. А ежели он не выполнит должным образом поручение Мастера Ласси, то тем самым рассердит его и не получит обещанное вознаграждение.
– Ах, вот она твоя благодарность, плут! – воскликнул всадник и добавил с лукавой улыбкой: – Что ж, пожалуй, мне пора. До замка осталось ещё пару миль, день чай давно закончился и дорога уж еле различима. Придётся лошадь чуть пришпорить. Надеюсь, приятель, разбойники не вернутся, чтобы выполнить своё намерение, и тебе удастся благополучно добраться до Хандсона до наступления кромешной тьмы.
– Ох, сэр, умоляю! Не оставляйте меня! Как же я тута один одинёшенек? – запричитал Арчи, на глазах его заблестели слёзы.
– Так, кому, ты говоришь, должен передать послание?
– Эх, ничего не поделаешь, ручки в ножки, сумочки-кошёлки, – вздохнул юнец. – Его зовут некто Томас Толбот. Призываю в свидетели всех лесных демоном, что я проболтался под страхом ужасной смерти.
– Толбот, говоришь! – изумлённо воскликнул вельможа. – Пресвятая дева Мария! Да ведомо ли тебе, что это за человек такой? И кто же, любопытства ради, твой хозяин, который шлёт сие письмо?
– Э, сэр, мы так не договаривались! – запротестовал Арчи. – Я и так выболтал вам всё на свете, так, что головы мне не сносить, ежели хозяин мой прознает, как я язык свой распустил. А тепереча уж позвольте мне сопровождать вас до самого Хадсона. Я даже готов вашу лошадь схватить за хвост и так бежать до самых ворот замковых, лишь бы не здесь, одному. Вы же обещали не бросать меня.
– Разве я тебе чего-то обещал, плут ты этакий? Первый раз слышу! – возгласил юноша. – Ну, так уж и быть, не бросать же мальчишку на растерзание хищным зверям. Залазь, проказник, на коня и садись позади меня.
Дважды говорить юнцу не было необходимости, и он, как обезьяна, живо вскарабкался и примостился за спиной всадника, ухватив того за пояс. Так они и доехали почти до самого дворца Хандсон.
Уже было совсем темно, и лишь серые блики на ночном небе, да мерцание факелов на стенах позволили путникам различить контуры стен, крыш и шпилей замка.
– А дальше уж шагай сам, – сказал вельможа. – Не пристало, чтобы кто видел, как я мальчишку безродного на своём коне катаю, словно графского сыночка.
Юнец послушно спустился с лошади и поплёлся сзади. Мост через ров с водой, окружавший замок был уже поднят, но как только всадник просвистел некую весёлую мелодию, в амбразурах высоких замковых ворот замелькали тени, послышался скрип ворота, лязг цепей и мост со скрипом опустился.
Первым, разумеется, в замковые ворота въехал молодой вельможа. Он обменялся весёлыми приветствиями со стражниками, отдал лошадь подбежавшему груму и, не взглянув на торчащего у ворот мальчишку, быстро исчез в одной из дверей дворца.
Когда стражники спросили у Арчи, кто он таков и что ему нужно, тот смело заявил, что принёс срочное послание для благородного Томаса Толбота и должен вручить ему лично в руки. Один из латников, немолодой уже воин с большой тёмной бородой и смеющимися глазами удивлённо спросил:
– Эй, сынок, а ты что же, не знаешь этого джентльмена в лицо?
– Ни разу не встречал, – соврал Арчи, хотя он и в самом деле нисколечко не помнил, как тот выглядел много лет назад.
– Вот тебе на! – стражник ухмыльнулся, покачал головой и ушёл известить вышеназванную персону о посыльном.
Когда же через некоторое время он возвратился, то застал Арчи рассказывающего стражникам забавную историю о том, как он ловко обвёл вокруг пальца грозных лесных разбойников. Причём, в рассказе его не было ни слова о нежданно появившемся всаднике, а своё спасение юнец приписывал собственным бесстрашию, ловкости и находчивости.
Бородатый стражник отвёл юнца в караульню и поставил перед ним деревянную миску с куском жареной баранины, шматком сыра, ломтём ржаного хлеба и кружку грушёвого сидра, сообщив, что его милость вскоре сам зайдёт сюда забрать письмо.
Юнец жадно налёг на еду. Ещё бы! Ведь у него с утра и маковой росинки во рту не было. Он, правда, рассчитывал на более содержательный ужин, но видать, в Хандсоне радушием не отличались.
Едва только Арчи покончил с едой и вытер руки пучком сухой травы, которой был устлан пол, как в сводчатую комнату караульни быстро вошёл человек. Лицо его было затемнено широкополой шляпой с щегольски вившимся по краям страусиным пером. Из-под отделанного серебряными галунами камзола виднелся белый кружевной ворот рубашки. На поясе висел кинжал в расшитых причудливыми узорами ножнах.
– Вот, сэр, этот парень утверждает, что принёс для вас послание и должен передать лично в ваши руки, – сказал бородатый стражник со смеющимися глазами.
Вновь вошедший повернулся к Арчи и знакомым тому голосом произнёс:
– Меня зовут Томас Толбот, молодой человек. Случаем, не тебя ли я обогнал около замковых ворот?
Арчи уставился на вельможу, в котором он наконец-то узнал своего недавнего спасителя. Двоякие чувства нахлынули на юнца. С одной стороны, его избавитель оказался его же единокровным братцем; с другой – он стоял здесь перед ним в красивом щегольском одеянии, могущий повелевать и властвовать, в то время как он, Арчи, влачил жизнь жалкого прислужника, которого любой мог втоптать в грязь. А тут ещё в голове юнца всплыли прежние обиды, в былые годы учинённые Томасом матери Арчи и ему самому. В итоге Арчибальду Петхэму захотелось броситься на этого напыщенного молодца и разодрать в клочья его разукрашенные одеяния.
– У тебя, что, язык к горлу приклеился, милый мой? – спросил Томас Толбот.
– Да, сэр, – сквозь зубы процедил Арчи.
– Ну, так молчи, коли желаешь, – молвил Толбот. – Лишь отдай мне письмо.
Но Арчи, словно статуя, стоял, не шелохнувшись. Он не слышал, что ему говорил брат. Обида и злость на Томаса, ненависть и зависть к нему переполняли всё его существо.
– Мэтью, чем же ты его так накормил, – обратился Толбот к бородатому караульному, – что он враз и язык проглотил и слух потерял?
– Я просто диву даюсь, ваша милость, – ответил старый стражник. – Клянусь вам, что не прошло и часа, как этот мальчишка трещал как сорока.
– Ну, в этом-то я не сомневаюсь, – с улыбкой сказал молодой вельможа. – Я бы не прочь позабавиться игрой в молчанку с этим юнцом. Должен признаться, что-то в нём меня привлекает, а что – ума не приложу, какое-то странное необъяснимое чувство. Но, увы, мой добрый Мэтью, полагаю, мне стоит поторопиться, ибо её высочество с нетерпением ожидает меня с новостями. А ежели этот плут не намерен сам отдать мне письмо, то, прошу тебя, тотчас обыщи его, а затем мы запрём его в подвале, как вражеского лазутчика.
Последняя фраза Томаса Толбота враз привела юнца в чувство, и он, порывшись в карманах, извлёк на свет и отдал, наконец-то, злополучное письмо, не проронив при этом ни звука – так ненавистен ему стал Томас. Вельможа глянул на маленький восковый оттиск, которым было запечатано письмо, нахмурился, безуспешно пытаясь разобрать знаки. Затем Толбот распорядился задержать гонца и пока его никуда не выпускать, после чего, не читая письма, он быстро вышел.
Глава VLII
Томас Толбот
Оставив свою многочисленную свиту – фрейлин и пажей, баронов и эсквайров, рыцарей и поборников истиной веры – веселиться в одном из самых роскошных залов дворца Хандсон, где вовсю пылал огромный камин, а увешанные живописными гобеленами и портретами стены уходили ввысь под резной потолок, Мария Тюдор уединилась в старинной башне под названием Олдхолл.
По словам старых дворцовых слуг, помнивших ещё былые времена, её отец, великий король Генрих, когда-то порою также любил в одиночестве услаждать свой неумеренный аппетит в этой башне, вдали от шума и гвалта придворной жизни, а заодно и поразмыслить здесь о государственных делах.
Так и леди Мария Тюдор пришла сюда, чтобы побыть в одиночестве и обдумать своё непростое положение. Впрочем, леди был её официальный титул, она же считала себя принцессой и законной наследницей престола. Хотя и не в её привычках было уединяться от своего окружения, но уж слишком сильны были впечатления от последней поездки в Лондон и встречи с её венценосным братом, чтобы тщательно всё не взвесить и не обдумать.
Пламя огня в камине бросало отблески на задумчивое лицо и нахмуренные брови. Плотно сжатые губы и непреклонный взгляд говорили о неуступчивости и властности характера. Бледные пальцы намертво сцеплённых ладоней искрились перстнями. Поверх парчового платья, богато разукрашенного золотой вышивкой, был наброшен жакет из чёрного вельвета с серебряными вставками.
Пару недель назад пышным празднеством с шутами и фокусниками, паяцами и музыкантами, рыцарским турниром и травлей медведя во дворце Фрамлингхэм преданные друзья и сторонники отметили её тридцать седьмой день рождения. Но в этот час веселиться ей вовсе не хотелось, ибо вот уже несколько дней её тревожили беспокойные думы о своей судьбе и судьбе своего брата короля.
Уже то, что Эдвард не мог принять сестру в течении трёх дней, говорило о серьёзности его болезни. Вряд ли это Нортумберленд по своей прихоти заставил её так долго дожидаться аудиенции короля. Да и Эдвард не напомнил ей того цветущего и резвого подростка, с которым она встречалась ранее. Лицо его было бледно, а речь нарушал частый кашель. У его величества не нашлось даже сил на то, чтобы как обычно попрекнуть сестру в её «папистских» убеждениях и тайных мессах, которые свершаются в часовне Фрамлингхэма. Она хотела было сама завести разговор на темы вероисповедания. Говорят, у людей в часы тягостных страданий наступает душевное раскаяние и им приходит откровение. Но видя слабость Эдварда, а также спиной чувствуя, стоящего позади Джона Дадли, она не отважилась потревожить юного монарха и рассердить Нортумберленда. Вскоре подошедший придворный лекарь что-то шепнул герцогу на ухо и тот тронул Марию Тюдор за рукав, давая понять, что не стоит изнурять короля долгой беседой. Преклонив перед королём колени и пожелав брату доброго здравия и долгих лет царствования, она покинула дворец Уайт-холл, а вскоре и Лондон и вернулась в Хандсон.
В душе дочери короля Генриха Восьмого любовь к брату боролась с ненавистью к Джону Дадли. Даже несмотря на непоколебимые протестантские взгляды Эдварда, его кровная сестра, ревностная католичка, от всего сердца желала ему добра. И так же искренне она ненавидела Дадли, этого выскочку, сделавшего себя герцогом Нортумберлендским, втёршимся в доверие к юному королю, подчинившему себе Тайный Совет и фактически ставшем правителем Англии.
Но эта странная болезнь Эдварда спутала все карты и усложнила и без того непростую ситуацию с престолонаследием в Англии. «Кому выгодна его смерть? – размышляла Мария Тюдор. – Кажется, никому от этого не будет пользы, никому… кроме меня, – с содроганием подумала она. – Но, видит Бог, я не желаю получать власть такой ценой! Впрочем, не исключено, что Эдвард и поправится, на что уповает Нортумберленд и пытается всех в этом убедить, ибо он-то понимает, что в противном случае я уж найду способ расправиться с ним, с этим еретиком и узурпатором. Хотя, похоже, Дадли и сам не верит в выздоровление короля. Иначе зачем ему было представать передо мной таким вежливым и обходительным при последней нашей встрече?»
В это время дверь приоткрылась и вошёл камер-лакей доложить, что из Лондона прибыл Томас Толбот. Принцесса Мария (ибо именно этот титул она когда-то носила и таковой по праву рождения себя считала) велела тут же привести молодого человека. В ожидании Толбота наследница престола беспокойно сжимала пальцы и с нетерпением поглядывала на дверь.
Ей нравился этот юноша. Томас был вторым сыном графа Шрусбери и, не рассчитывая получить титул и наследство, он в юные ещё годы, благодаря связям своего отца, ревностного католика, примкнул ко двору Марии Тюдор в качестве пажа. От других молодых людей в окружении принцессы его выгодно отличали живость ума и сообразительность, бойкость и жизнерадостность характера. Но главное, воспитанный с юного возраста стойким адептом римской церкви, Томас стал верным сторонником католической принцессы, на фанатическую преданность которого она всегда могла рассчитывать. Со временем Томасу Толботу стали доверять самые ответственные поручения. С тем, что не осилил бы возрастной и более опытный её приверженец, с виду беспечный юноша справлялся быстро и легко. Особенно это было ценно, когда требовалось собрать необходимую информацию. Толбот с лёгкостью сходился с людьми своего круга и возраста, бывал во многих компаниях, и не удивительно, что ни один слух или сплетня не обходили стороной его чуткое ухо и острое внимание. А если учесть его незаурядное мышление, то станет ясным, почему Мария Тюдор не считала для себя зазорным иногда и посоветоваться со своим молодым сторонником, речи которого не лишены были здравого смысла.
Так и в этот раз, покинув Лондон после встречи с юным королём и остановившись на время в Хандсоне, Мария попросила Толбота задержаться в столице, посмотреть, что предпримет ненавистный Джон Дадли, – чтобы попытаться понять, что у того на уме.
В Лондоне у Томаса Толбота было множество знакомых и приятелей из числа его ровесников, которые, пока ещё сильно не отягощённые политическими распрями и интригами, встречались и непринуждённо общались друг с другом на различного рода увеселениях, приличествующих (а порой вовсе и нет) молодым джентльменам.
Толбот вошёл в комнату, снял шляпу и преклонил колени перед вставшей его поприветствовать Марией Тюдор, тем самым отдавая ей королевские почести. Принцесса ласково протянула ему унизанную перстнями руку для поцелуя.
– Что нового в столице? – спросила Мария, пытаясь скрыть нетерпение.
– О, ваше высочество, по Лондону гуляет столько всяческих сплетен и слухов, что для скучающих обывателей всегда найдётся развлечение, а длинные языки становятся ещё длиннее, – бойко ответил юноша. – Мне думается, они больше придутся по вкусу вашим беззаботным фрейлинам, нежели будущей королеве.
– Королеве? С чего это ты взял, Томас, что я переживу Эдварда, дабы унаследовать престол? – беспокойно спросила дочь Генриха Восьмого. – Как-никак, я старше его на двадцать два года, как тебе прекрасно известно. Кстати, как чувствует себя мой дорогой брат?
Лицо юноши стало серьёзней, и он сказал:
– В бюллетенях пишут, что король чувствует себя лучше и даже прогулялся по парку…
– Вот как! – обрадовалось было принцесса.
– Это действительно так, мадам, – продолжил Толбот. – Они забыли лишь дописать, что короля под локти поддерживали два дюжих пажа, которые, можно сказать, практически несли его на руках, ибо король с большим трудом сам передвигал ноги.
– Ах! Этот негодяй Дадли умеет преподнести факты в выгодном для себя свете,- негодующе сказала Мария Тюдор. – Но откуда тебе это ведомо, Томас?
– Видите ли, мадам, я, подобно ситу, отсеиваю грязь и шелуху домыслов и оставляю лишь зёрна правды. Один мой приятель вхож во дворец Уайт-холла и слышал, как о том говорил Генри Сидни, королевский любимчик и зять Нортумберленда.
– Что ж, этому источнику можно верить, – согласилась принцесса Мария. – Значит, действительно, выводы, каковые я сделала, наблюдая за его величеством во время нашей встречи, вполне обоснованы, и здоровье моего венценосного брата весьма плохо.
– Увы, это так, ваше высочество, – подтвердил Толбот с грустью в голосе. – Я намеренно посетил пару заслуживающих доверия лекарей, которые хоть и не практикуют при дворах знати, а имеют дело с негоциантами и зажиточными ремесленниками, но обладают богатыми навыками врачевания больных. Они, конечно же, слышали о состоянии здоровья его величества и, как ни прискорбно мне говорить об этом вашему высочеству, его благочестивейшей сестре, сходятся во мнении, что король не протянет и до зимы.
Юноша вздохнул и скорбно потупил взор. Мария Тюдор была готова к подобной новости, ибо после встречи с королём она подозревала, что Нортумберленд не говорит ей всей правды о состоянии здоровья её венценосного брата. После долгой паузы Мария промолвила:
– Боже мой! Бедный Эдвард.
Но лицо принцессы оставалось скорее сосредоточенным и задумчивым, чем скорбным и печальным. Юный вельможа понял, что настало время перевести разговор на насущные дела, и сказал:
– Это воля Господа нашего, которой мы, рабы его, не можем противиться. А посему, ваше высочество, позвольте мне упомянуть о неких трудностях, ждущих вас на пути к престолу.
– О каких таких трудностях ты толкуешь, Томас? – сделала удивлённый вид принцесса, хотя прекрасно осознавал его правоту. – Тебе разве не известны завещание моего отца Генриха Восьмого и Акт о наследовании, принятый парламентом в 1544 году?
– О, ваше высочество! Безусловно, как и любому образованному английскому дворянину, мне ведомо, что там написано: после Эдварда и его наследников (коих, увы! не будет) идёт Мария, то есть вы, мадам, и её наследники, затем Елизавета и её наследники, а уж после них наследники сестры Генриха, Марии Тюдор.
– Ну, так разве эти документы не являются полным и безоговорочным основанием передачи престола мне после – о боже! – грядущей смерти моего любимого брата?
– Так-то оно так, мадам, – ответил молодой Толбот. – Но существуют определённые сомнения, что вступление ваше на престол пройдёт так гладко, как все мы, ваши ревностные сторонники да и весь английский народ того желали бы.
Насупившись, Мария Тюдор пристально посмотрела на молодого человека, чей почтительный, но уверенный вид говорил, что он, вероятно, обладает некими сведениями, позволяющими предугадать ожидающие её затруднения. Принцесса поняла, что Томас ждёт лишь её позволения, чтобы поделиться своими опасениями. Она спросила:
– Как, неужели ты полагаешь, будто мне может что-то помешать?
– Не что-то, а кто-то, ваше высочество, – ответил молодой человек. – И вам прекрасно ведомо, кого я разумею.
– О, да! Джон Дадли! – воскликнула принцесса. – От него можно ожидать чего угодно. Какие же козни он может строить на этот раз, скажи на милость? И осмелится ли он воспротивиться Акту парламента и завещанию короля Генриха?
– Судите сами, мадам, – сказал Томас. – Мне удалось выведать, что за последние несколько дней он как минимум два раза был в доме у Саффолков.
– Как! Моя кузена Франсис Грей, герцогиня Саффолкская, дочь моей тётушки Марии Тюдор! – с пылающим гневом лицом сказала принцесса. – А когда-то в детстве мы были с ней хорошими подругами… Но я не могу понять, каким образом Нортумберленд вознамерился передвинуть её в списке наследников трона на первое место, презрев права мои и Елизаветы.
– Какие бы планы у него ни были, но вашему высочеству лучше бы в это время находиться подальше от Лондона.
– Справедливое замечание, дорогой Толбот. Не могу с тобой не согласиться, – встревоженным голосом молвила принцесса Мария, уже не раз думавшая об этом в последние часы, и, не откладывая на потом, тут же приказала дворецкому оповестить свою свиту и спешно готовить двор к отъезду рано утром. – За стенами Фрамлингхэма, вдали от столицы, в окружении моих верных сторонников, которые могут по первому сигналу поднять ополчение в мою защиту, я буду чувствовать себя спокойно и ждать, что же предпримет Дадли.
– Весьма мудрое решение, ваше высочество, достойное дочери великого Генриха, – согласился Томас Толбот. – Ежели Нортумберленд что-то затеял – а в этом у меня нет сомнений, – он может попытаться ограничить свободу ваших действий. А в Восточной Англии все бароны встанут на защиту вашего высочества, стоит только Нортумберленду сунуться туда с войсками.
– Всё же я никак не могу взять в толк, верный мой Толбот, – недоумённо сказала принцесса, – как именно собирается Джон Дадли передать трон герцогине Саффолкской, обойдя истинных детей Генриха Тюдора, – разве только не силой оружия. Но если он покажет себя таким глупцом, даже нынешние его сторонники отвернутся от человека, нарушившего волю короля и постановление парламента.
– Мне думается, у Нортумберленда есть одна лазейка, – в раздумье произнёс молодой вельможа. – Ежели он до этого, конечно, додумается.
– О, Томас! Можешь в этом не сомневаться! – воскликнула Мария. – Как загнанная в ловушку лисица, Дадли пойдёт на любую уловку, которая даст ему шанс спасти свою голову и состояние. Так, что за лазейка есть у него, по твоим словам?
– Воля короля, ваше высочество, – просто ответил Толбот и пояснил: – Почему Нортумберленд не может склонить короля Эдварда в свою очередь также написать завещание, которое тем самым отменило бы завещание короля Генриха? Полагаю, что герцогу нетрудно будет это сделать, ибо брат вашего высочества вряд ли желает оставлять трон католическому монарху.
– Но на каком основании Эдвард, а точнее говоря, этот предатель Джон Дадли, может исключить меня из списка наследников? – возмущённо спросила Мария Тюдор.
– Я смиренно прошу прощения у вашего высочества, – сказал Толбот, – ежели осмелюсь напомнить о вашем с сестрой официальном статусе незаконнорожденных детей. Это и может послужить формальным поводом в новом завещании оставить трон наследникам сестры Генриха Восьмого.
– Да уж, своеволия моему батюшке было не занимать, – недовольно произнесла принцесса. – Однако, я слишком хорошо знаю герцогиню Саффолскую, её беззаботность и праздный образ жизни, и теряюсь в догадках, как эта порхающая бабочка отважится подлететь к пылающему огню королевской власти. К тому же она чересчур взбалмошна и самолюбива, чтобы позволить Дадли сделать из себя марионетку, и он это наверняка прекрасно осознаёт. А ко всему прочему не надо быть чересчур проницательным, чтобы понять, что вуаль протестантства с неё сдует первый же лёгкий ветерок.
– Не могу не согласиться с вашим высочеством, – сказал её молодой ревнитель. – А посему мне кажется, что и Нортумберленда и герцогиню вполне устроило бы, если она откажется от столь обременительной для неё ноши в пользу своей старшей дочери, которая, по слухам, ярая сторонница реформаторства, – леди Джейн Грей!
– Джейн Грей! – изумлённо воскликнула принцесса Мария. – О боже! У меня напрочь вылетело из головы, что у кузены Франсис уже целый выводок… Но клянусь душой короля Генриха, не бывать этой девчонке на английском троне! Пусть лишь изменник Дадли посмеет, он поплатиться за это своей лукавой головой.
– Действительно, мадам, – согласился Томас Толбот. – Ведь существует Акт об Измене, принятый парламентом в 1547 году, в котором говорится, что если кто попытается изменить установленный Актом 1544 года порядок наследования, это деяние будет считаться государственной изменой.
– По моему разумению Джона Дадли даже это не остановит, – мрачно молвила Мария. – Ему нечего терять, ибо когда я взойду на трон… – Она не договорила, но по сузившимся глазам и неумолимому тону голоса можно было догадаться о смысле недосказанной фразы.
– Вы совершенно правы, моя принцесса, – вторил молодой Толбот. – Такой план был бы для Нортумберленда весьма заманчивым. К тому же, я бы очень удивился, если бы он не держал в голове возможность женить своего отпрыска Гилфорда на Джейн Грей. Это дало бы ему возможность снова единолично править Англией.
– Разве не все его сыновья женаты? – спросила принцесса Мария.
– Это последний, ваше высочество. И говоря по правде, я бы не желал ни одной порядочной благородной девушке такого мужа.
– Вот как? Что ж, яблоко от яблони далеко не падает. Видно, и в самом деле от низкодушного родителя не могут рождаться порядочные дети, – презрительно сказала Мария Тюдор. – Любопытно, почему ты столь не лестного мнения об этом Гилфорде.
– Я не осмелюсь в присутствии вашего высочества произносить те многочисленные слухи, которые ходят про этого молодчика. Вот лишь только самый безвинный из них. Говорят, что недавно он попался в тайном публичном доме, каковые ныне, как известно, под запретом. Малодушный Гилфорд испугался гнева отца, ежели это дойдёт до ушей Нортумберленда, назвался чужим именем и вынужден был снести несколько часов унижений и бесчестья у позорного столба на Вестчип. К его счастью никто не узнал в нём Гилфорда Дадли, ибо и подумать было немыслимо, что сын самого герцога Нортумберлендского под улюлюканье толпы ходит в деревянных колодках вокруг позорного столба.
– Любопытно, дерзнул ли кто рассказать об этом самому Джону Дадли, – насмешливо сказала Мария. – Хотела бы я взглянуть на его физиономию в тот момент.
– Вот почему я от всего сердца пожалел бы бедную леди Джейн, если бы Нортумберленд женил на ней своего отпрыска, – сочувственно молвил Томас Толбот.
– Ты, однако, чересчур милостив, как я погляжу, – недовольно произнесла принцесса. – Лишь твоя юность может быть сему оправданием. Клянусь святой Марией, если эта девчонка хоть пальцем дотронется до английской короны, – при этих словах глаза принцессы сверкнули злым огоньком, – в отличие от тебя, милый мой, её юность не послужит поводом для прощения.
– Сказать по правде, ваше высочество, мне и дела нет до этой маленькой еретички, – беззаботно сказал Толбот, – ибо главное для меня, в чём я твёрдо уверен, это то, что в скором времени буду звать вас «ваше величество», а в английских церквях снова будут служить мессы.
– Ах ты, плутишка, – уже благодушно сказала Мария Тюдор. – Клянусь всем святым, ты вполне заслуживаешь, чтобы при моём королевском дворе стоять в числе первых царедворцев.
– О, моя принцесса, не ради почестей и богатства я служу вашему высочеству, а для торжества в нашем государстве истинной веры, которая возобладает, когда вы взойдёте на английский престол.
На прощание Мария Тюдор благосклонно протянула юноше руку для поцелуя…
Вернувшись в свою комнату, молодой вельможа развернул полученное от гонца письмо. Почерк был ровный и красивый. Толбот пробежал глазами послание, которое читалось так:
«Благородному другу и преданному защитнику великой и единственно правильной католической веры от смиренного слуги господа Бога нашего, недостойного его благоволения.
Досточтимый сэр, обращаюсь к вам с этим посланием, как к верному адепту католической церкви. В целях конфиденциальности и безопасности, как вашей, так и своей, равно как и прочих заинтересованных лиц, я предпочёл в этом письме не употреблять имён получателя и отправителя. Униженно прошу не посчитать предпринятые мною меры предосторожности за проявление неуважения к благородному адресату. Заручившись поддержкой и одобрением небезызвестного вам человека, занимающего одно из главенствующих мест среди знати некоей северной страны, и с которым вы поддерживаете отношения, я оказался в английском королевстве с тайной целью всячески способствовать интересам католической церкви с её единственно верными принципами и нерушимыми догмами. Я более чем уверен, что вам интересно будет знать, что представитель католической знати северной страны, наследник баронства, по имени Ронан Лангдэйл, Мастер Бакьюхейда, уже некоторое время пребывает в английской столице. Официально цели его нахождения в Англии сугубо личные. Но зная приверженности молодого человека, учитывая его долгое пребывание и обучение в стенах известного монастыря, вкупе с его персональными характеристиками и родовитостью, а также авторитет, которым пользуется его родитель среди католической знати своей страны, можно полагать уверенно, что существуют тайные причины его прибытия в Лондон, которые всенепременно и тесно связаны с интересами католической церкви наших государств. Я возьму на себя дерзновение предложить вам устроить встречу с этим лицом. Мой посыльный, готов отнести – в том случае, если, конечно, вы сочтёте это нужным, - письмо вышеупомянутому Ронану Лангдэйлу и быть вашим связным. Поставленные передо мной задачи святой церковью вынуждают меня лично остаться в тени.
Всегда ваш преданный безымянный слуга».
Читатель, возможно, удивится, прочтя текст письма, написанного Фергалом и переданного юнцом Томасу Толботу. Памятуя о посредственных способностях Фергала к письму, трудно было бы предположить, что ему удалось составить такое эпистолярное творение, в котором весьма неплохим стилем были изложены его лживые инсинуации. Действительно, криводушные мысли экс-монаха облёк в письменную форму не он сам, а другой человек, и звали его… Мастер Бернард. Да-да, тот самый клерк – если читатель ещё помнит, – работавший помощником у негоцианта Габриеля Уилаби.
Объяснить их знакомство и его пособничество Фергалу достаточно просто. По заданию Мастера Ласси Арчи провёл несколько дней на улице в Саутворке, где стоял дом негоцианта Габриеля Уилаби. Юнцу, завсегдатаю лондонских улиц, не составило большого труда выведать все сплетни, слухи и толки, касающиеся домочадцев купца. Всем известно, до чего охочи соседи посплетничать друг про друга. Так и кумушки прихода святого Олафа не составляли исключения. А их беспечные малолетние отпрыски разносили пересуды своих матушек по всей округе…
Таким способом Арчи, язык которого был подвешен чертовски хорошо, и узнал, что у почтенного купца есть юная дочка, которую со временем прочили в жёны помощнику негоцианта, молодому Мастеру Бернарду. Правда, похоже было, что сама девушка не особо этому рада, особенно после того, как в доме купца появились гости – его знатный кузен сэр Хью и молодой шотландский джентльмен. Злые языки утверждали, что девица якобы без памяти влюблена в шотландца и хочет убежать с ним из дома, другие – что ничего подобного, они просто хорошие друзья и отношения у них не выходят за рамки приличия, а юный шотландец вскоре уплывает с сэром Хью в далёкое путешествие. Тем не менее, все сходились во мнении, что Мастер Бернард последние недели ходит чернее тучи, что, очевидно, было плодом ревности.
Всё это Арчи с готовностью пересказывал Мастеру Ласси, который не скупился на похвалу, подкреплённую лишними пенсами. Вскоре «слуга герцога» велел юнцу передать записку Мастеру Бернарду. В ней Фергал написал, что если Мастер Бернард не прочь насолить всяким там противным шотландцам, сующим свой нос, куда их не просят, то он с большой охотой может пособить в этом деле. Фергал назначил в записке встречу, на которую ревнивый клерк, хоть и с опаской, но пришёл. Так и сошлись вместе недоброжелатели Ронана Лангдэйла.
Разумеется, Фергал не стал во всё посвящать Мастера Бернарда. Он назвался Вильямом Ласси и сказал лишь, что есть неплохой шанс сыграть с Ронаном злую шутку, которую тот запомнит на всю оставшуюся жизнь и уж никогда больше не встанет поперёк дороги у Бернарда. Клерк охотно согласился помочь своему новому знакомцу, тем более что от него ничего не требовалось, кроме как лишь грамотно написать письмо со слов Вильяма Ласси и от чужого имени. Таким манером и родилось то послание, которое с некоторым удивлением прочёл Томас Толбот.
Молодой вельможа ещё раз внимательно перечитал письмо и задумался. Он сразу смекнул, о какой «северной стране» идёт речь и на какое знатное лицо ссылается автор письма, но он понятия не имел, кто такой этот Ронан Лангдэйл, и зачем ему намекают на желательность встречи с ним. Одно было ясно, что мальчишка-гонец явно не был шпионом, ибо о связях Томаса Толбота с шотландским регентом не знал никто, даже принцесса Мария Тюдор.
Толбот пожал плечами и хотел было порвать письмо и бросить в камин. Однако что-то, – возможно, юношеское любопытство или желание получить дополнительную пользу для дела своей повелительницы и во благо католической веры, – сдержало его, и Томас придвинул к себе письменный прибор…
Утром, пока придворные принцессы Марии ещё только потихоньку просыпались, Томас Толбот спустился во двор и велел отпереть посланца, которого ретивые стражники для пущей верности посадили на ночь под замок. Вельможа дружелюбно глянул на спасённого им давеча мальчишку-гонца, и вручил тому новое письмо, к которому щедро приложил целую крону.
Заспанный и невыспавшийся Арчи, который полночи ворочался, терзаемый ненавистью и завистью к брату, с жадностью схватил золотую монету, по привычке попробовал её на зуб и хотел было запрятать в карман, но припомнив свои ночные переживания и осознав, из чьих рук он её получил, с показным омерзением швырнул крону на землю.
Молодой вельможа немало удивился сумасбродной дерзости мальчишки, недоумённо хмыкнул, затем подозвал одного из бывалых дворцовых стремянных и весело сказал тому:
– Эй, Майкл, старина, отведи-ка этого непочтительного юнца на кухню, пусть его там накормят до отвала – а то уж больно он тощ, – а затем посади на круп своей лошади да свези спесивца на лондонскую дорогу. А то, глядишь, он опять попадёт в лапы удалых разбойников Робина Гуда или от страха перед тёмными деревьями в штаны наложит.
Томас Толбот напоследок бросил насмешливый взгляд на гонца, не подозревая, какие тесные кровные узы их связывают, и отправился руководить подготовкой к отъезду двора.
Когда набивший брюхо Арчи в сопровождении стремянного Майкла возвращался через двор, то притворно споткнулся как раз в том самом месте, куда укатилась брошенная им недавно крона, незаметно схватил монету и сунул в карман. Затем юнец уселся на лошадь позади Майкла, довольный на самом деле, что не надо идти через тёмный лес, и благополучно доехал так до большой дороги.
Свезший Арчи стремянной Майкл был, однако, раздосадован потерей небольшого, вышитого серебряными и золотыми нитями кошеля, исчезновение которого он обнаружил только по возвращении назад во дворец. Денег в нём почти не было, но вещица эта была ценна как подарок за верную службу от некоей благородной дамы по имени Гертруда Блаунт, близкой подруги принцессы Марии Тюдор. Огорчённый Майкл счёл, что во время езды перетёрлись тесёмки, удерживавшие кошелёк на ремне, и он упал незамечено на землю, где его и подберёт непремённо какой-нибудь странник.
Часть 7 Капкан захлопывается
Глава VLIII
Церемония на верфи
Это мартовское утро было бесподобно. Поверхность Темзы весело искрилась под солнечными лучами. По берегам уже кое-где различимы были изумрудные прогалины свежей травы. Мимо проплывали берега с причалами, с нависшими над водой домами, черепичными крышами и шпилями церквей. Даже величественные стены и башни Тауэра выглядели приветливо. Вверх и вниз по реке бойко скользили лодки.
В большом ялике, которым ловко управляли два дюжих лодочника, было четверо пассажиров, уже хорошо знакомых нашему читателю: командор в сопровождении Дженкина и Ронана, а также мистрис Алиса Уилаби. Они направлялись вниз по реке, в Редклиф, где в этот день должна была состояться торжественная церемония, а именно – спуск на воду первого из трёх кораблей.
Поначалу сэр Хью намеревался взять с собой помимо ординарца только юного Лангдэйла, как будущего моряка на том самом судне, которое и готовили в то утро к первой встрече с водной стихией, но бойкая Алиса упросила своего дядюшку взять и её, так как она, по её словам, никогда не видала ничего подобного. Хотя на самом деле любопытство было лишь пристойным поводом поехать в одной компании вместе с Ронаном Лангдэйлом. Дело в том, что девушка давно уже испытывала к молодому шотландскому джентльмену нечто большее, чем простая симпатия, что она, впрочем, пыталась от всех скрывать и лишь тихо вздыхала по ночам в своей комнате, осознавая всю тщетность подобных мечтаний.
По правде говоря, Ронан также находил огромное удовольствие присутствовать в обществе Алисы, слушать её весёлый голосок – даже если им отпускались колкие шутки в его адрес, – украдкой бросать взгляды на её милое личико, шелковистые каштановые волосы, маленькую и стройную фигурку. Всё чаще светлый и лёгкий образ девушки вставал у него перед глазами и будоражил его воображение, особенно, когда он долго с ней не виделся. Но что такое долго для пламенной юности! Три-четыре часа и то стали для Ронана целой вечностью. Но, к счастью, Алиса надолго его не покидала и являлась ему также и в ночных сновидениях. Однако, скромный и благовоспитанный юноша не позволял себе выказать даже и намёка на свои чувства. Будь на его месте видавший виды повеса и ухажёр, он нашёл бы возможность с помощью изысканных комплиментов и утончённых намёков как минимум дать знать о своих «возвышенных» чувствах, а возможно, и добиться чего-то большего. Но, как уже было сказано, не таков был наш герой. Более того, он пробовал усилием воли гнать от себя все мысли об Алисе. Но они, словно щекочущие обоняние яркие весенние запахи пробуждающейся природы, снова и снова проникали в его взбудораженное сознание и всецело пропитывали романтичную юную душу.
Не было ничего удивительного в том, что между молодыми людьми возникли подобные чувства. Алиса действительно не лишена была прелести, которая пленила бы любого молодого человека. К внешним её качествам добавлялись ещё наигранные жеманство и кокетство. Хотя далеко не каждому дано было разглядеть в ней твёрдость характера и проницательность ума. Для девушки Ронан тоже представлялся умным и привлекательным юношей, отличным собеседником, с которым у них было весьма много общего; к тому же, как и её мать, он был шотландцем и весьма благородного происхождения; а его безрассудное геройство и ореол гонимого страдальца могли заставить биться сильнее любое девичье сердечко. С самого первого дня их знакомства Алиса прониклась странным, безотчётным доверием к новому знакомому, что, вероятно, объяснялось его простосердечием и искренностью, и отвечала ему такой же откровенностью, насколько это позволяло приличие и извечная девичья кокетливость. А потому нет ничего удивительного в том, что быстро возникшая между юношей и девушкой дружба не могла долго оставаться таковой и неосознано для каждого из них она стала приобретать иную более романтическую окраску.
В действительности, однако, под маской весёлого безразличия молодые люди пытались столь тщательно скрывать свои чувства друг от друга, что, пожалуй, лишь они сами были уверены в безответности своих стремлений. Другие же домочадцы Габриеля Уилаби давно подметили растущую день ото дня обоюдную симпатию Мастера Лангдэйла и мистрис Алисы, да разве что сам хозяин дома не замечал привязанность своей дочки к юному спутнику сэра Хью. Почтенный негоциант был полностью уверен в покорности Алисы воле отца и лишь ждал, пока она повзрослеет на год другой, чтобы выдать её замуж за Мастера Бернарда, в котором он видел самого подходящего преемника для своего торгового дела…
Прогулка по Темзе оказалась недолгой, ибо от Лондонского моста до Редклифа было не больше двух миль, и менее чем за час ялик доставил сэра Хью и сопровождавших его лиц к главной пристани в этом селении. На многолюдной площади перед причалом было необычайно шумно и весело, шла бойкая торговля, выступали жонглёры, фокусники, паяцы и бродячие музыканты, вразвалку ходили моряки, отпуская налево и направо грубоватые шутки, под ногами сновали дети с чумазыми личиками.
Высадившись из лодки, компания сразу направилась в сторону верфи. Впереди величественно шествовал сэр Хью, облачённый в самые лучшие свои наряды, с мечом на боку и в берете с большим белым пером. Многие уже узнавали командора и приветствовали его радостными криками. Сразу за своим господином шёл Дженкинс Гудинаф, который почёл за свой долг отвечать на приветствия толпы вместо хранившего торжественную величавость сэра Хью, что он делал, надо сказать, не без удовольствия, ибо создавалась видимость, что народ кланяется и салютует именно ему. Чуть поодаль шли молодые люди, причём Алиса, то ли чтобы не отстать и не затеряться в толпе, или же просто воспользовавшись случаем, кокетливо ухватила Ронана под руку. Но они скоро приотстали от командора и его слуги, потому как девушке очень захотелось взглянуть на представление труппы акробатов, которые прыгали, ходили на руках и ходулях, взбирались друг на друга и совершали умопомрачительные сальто. Да и просто, говоря по правде, Алисе хотелось подольше постоять рядом с со своим другом, обхватив его сильную руку, и снова предаться своим безрассудным мечтаниям.
А тем временем широко распахнутые деревянные ворота верфи приглашали всех любопытных посмотреть на чудное и волнующее зрелище – спуск на воду нового корабля. Надо сказать, что с древнейших времён событие это почиталось чрезвычайно важным и торжественным, ибо знаменовало собой плод многомесячного, а иногда и многолетнего тяжелейшего труда сотен людей. Кто поспорит с тем, что появление дитя на свет не есть самое радостное событие для его родителей? А когда радость одного человека от созерцания результатов своей работы, от ощущения значимости вложенного в корабль труда, когда всё это сливается с подобными чувствами других людей – ведь детище-то общее, – то многократно усиленный восторг преображается во всеобщее ликование. На время забываются тяжкий труд, в дождь и снег, в мороз и под палящим солнцем, мокрая то ли от дождя то ли от пота одежда, кровоточащие ссадины и ноющие мышцы. Всё это остаётся позади, пускай даже и на краткий миг, и уступает место радостному упоению.
А потому бо льшую часть собравшейся на внутреннем дворе верфи составляли сами корабельщики: мастера, их подручные и подмастерья, для большинства из которых распорядители верфи сделали день нерабочим. Мастеровые столпились вокруг кораблей, шумно балагурили между собой, смеялись и жадно посматривали на две полные бочки с крепким пивом, выставленные им купцами и дожидавшиеся лишь конца церемонии. Грубые шутки корабельщиков порой резали слух уже начавших прибывать на торжество джентльменов, негоциантов и их супруг, но никто не решался приструнить эту огромную толпу простолюдинов, ибо все осознавали, что праздник этот был их заслугой.
Первое, что бросилось в глаза Ронану, когда они с Алисой пришли на верфь, это три корабля, стоявших на небольшом пригорке кормой к реке. Они напоминали громадных тюленей, отдыхающих на берегу и готовых наперегонки при первом признаке тревоги ринуться в воду. Два судна дремали ещё в лесах и были обставлены лестницами, в то время как борта третьего, самого большого корабля, очищенные от помостов и сверкавшие свежей краской, гордо высились над людьми и сушей. Лишь несколько брёвен да туго натянутые толстые пеньковые канаты удерживали корабль. От кормы его и до самой воды тянулась деревянная дорожка, поблёскивая толстым слоем свиного сала, с широким желобом посредине, которая постепенно убегала под воду. Там, где река граничила с сушей, в берег врезалась небольшая рукотворная заводь, которая, словно повивальные бабки, за многие годы приняла в своё лоно уже не один выстроенный на верфи корабль, прежде чем отправить его по морским просторам. Почти у кромки воды возвышался помост, украшенный цветными лентами, флагами и гирляндами…
Пока юноша с восторгом взирал на корабль, который вскоре станет его домом, Алиса заметила:
– Фи! Никак не могу взять в толк, какое это удовольствие находят мужчины в том, чтобы ютиться в таком вот Ноевом ковчеге дни и месяцы напролёт.
Но Ронан не слышал её слов, ибо радостное предвкушение далёкого путешествия снова овладело им. Его мечта стала уже осязаема, и её можно было увидеть и даже потрогать.
Неожиданно прямо у них спиной послышался весёлый голос:
– Клянусь всеми румбами компаса, Уилл, наш свежеиспечённый морячок понапрасну время на берегу не теряет. Из воды он сетями выуживает русалок, а на суше сачками ловит нимф.
– Да нет же, Нил, – вторил другой голос. – Судя по её речам, это никакая не нимфа, а что ни на есть сладкозвучная сирена.
Алиса развернулась первая и сразу же с размаху влепила одному из говоривших звонкую пощёчину.
– Э, нет, это вовсе не нимфа и не сирена, дорогой Вильям, это настоящая амазонка, ни дать ни взять Жанна Д'Арк.
Ронан с лёгким румянцем на лице повернулся и увидел капитанов «Бона Эсперанца» и «Бона Конфиденция». Первый потирал щёку, а у второго улыбка расплылась от уха до уха.
– Это мистрис Алиса Уилаби, – представил свою спутницу чуть смущённый Ронан. – И позвольте дать вам совет, уважаемые капитаны Вильям Джефферсон и Корнелиас Дарфурт, не шутить с родственницей сэра Хью.
– Ох, я надеюсь, юная леди не будет долго гневаться на аргонавтов, дерзнувших чуть повеселиться перед тем, как перемахнуть на другую сторону земли, – сказал неунывающий Корнелиас. – Тем более что один из нас уже изрядно поплатился за чересчур весёлый норов.
Девушка ничего не ответила, привстала на цыпочки и поискала глазами сэра Хью и Дженкина. Командор о чём-то оживлённо беседовал в окружении знатных гостей, а его слуга невозмутимо стоял в одиночестве чуть поодаль от группы дворян и купцов, но считал ниже своего достоинства примкнуть к толпе рабочих и матросов. К нему-то и направилась Алиса, пренебрежительно отпустив руку Ронана, так неуклюже за неё заступившегося, и не удостоив никого ни единым словечком или взглядом, как будто их не существовало вовсе…
– Смотри-ка, какая у тебя строптивая девчонка, Ронан, – сказал Корнелиас. – От простых мореходов клювик свой воротит, словно гагара от гнилой рыбёшки.
– Смею вас заверить, сэр, что все мои помыслы – о предстоящем плавании, – ответил юноша, – а вовсе не о развлечениях в обществе юных девиц.
Ронан чувствовал, что кривит душой и даже в какой-то степени ощутил себя предателем перед Алисой, ибо он при всех отрёкся от своих чувств. Но с другой стороны, к чему было посвящать посторонних в то, в чём он не хотел признаваться даже самому себе?
– Ну, что ни говори, приятель, а я готов поклясться всем рангоутом от бушприта до клотика, что виной краски в твоём лице и багряной отметины на щеке Уилла является одна и та же причина, то есть персона, – с не покидающей лицо улыбкой заявил капитан Дарфурт.
Юноша покраснел ещё сильнее.
– А сильно лупит, чертовка, – потирая щёку, произнёс Вильям Джефферсон. – Никогда я ещё от столь юных девиц эдаких нещадных ударов не получал – будто кит своим хвостом приложился по борту незадачливой рыбацкой лодки.
– Вероятно, капитан, это у неё фамильная черта, – только и нашёлся что сказать Ронан. – Она же родственница сэра Хью Уилаби, а по материнской линии происходит от одного из самых славных и боевых шотландских кланов… Позволю себе спросить, а где Мастер Ченслер и капитан Бэрроу?
Юноше указали на деревянную платформу около самого берега, перед которой и стояли почётные гости, джентльмены, купцы и дамы, таможенные чины и прочие сановники. По углам увешанного цветными лентами помоста возвышались шесты с реющими на лёгком ветерке разноцветными флажками и вымпелами.
– Ныне корабль на воду спускают Стивена, – пояснил Дарфурт. – А потому и место его с Ченслером там, среди этих разряженных бакланов. Наши же с Уиллом кораблики окажутся наплаву через недельку другую, скромно и без шумихи.
Тем временем народу на верфи всё прибывало. Все хотели глянуть на церемонию: и нанятые уже команды для этих судов, норовящие оценить опытным глазом своё новое пристанище; и праздношатающиеся моряки, ищущие развлечений и пропивающие на берегу заработанные за многие месяцы в море денежки; да и просто любопытные, прослышавшие, что на торжество прибудёт сам герцог Нортумберлендский – такие составляли, пожалуй, большинство. Народу на строительную площадку верфи набилось несколько сотен, а то и целая тысяча. Наверное, половина всего населения Редклифа пришла поглазеть на помпезную церемонию, которая, однако, всё никак не начиналась.
Вдруг вдалеке послышался звук горна, а вслед за ним топот тяжёлых копыт. Впереди кавалькады скакал отряд вооружённых латников, окриками и плетьми разгоняя нерасторопных зевак на дороге. У каждого воина на плаще был вышит медведь в ошейнике, ухватившийся за толстое древко, что являлось опознавательной эмблемой слуг семейства Дадли. А у некоторых из них на копьях развевались флаги с гербом могущественного герцога Нортумберлендского – грозный лев, стоящий на задних лапах. Следом за телохранителями в сверкающих латах ехала группа дворян в ярких, богатых одеждах, с плюмажами на беретах и шляпах.
– Смотрите, герцог приехал! – раздались крики в толпе.
– Где? Где?
– Который из них?
– Да вон тот, с огромным плюмажем, – говорил один.
– Вовсе и не он, а тот, что впереди всех на гнедой, – утверждал другой. – Смотри, как грозно смотрит.
Ронан, который вместе с капитанами стоял недалеко от возвышения, сразу распознал в скакавшем впереди всаднике сэра Реджинальда. Подъехав к помосту, тот выстроил полукругом своих стражников, огородив от основной массы собравшихся место, где стояли почётные гости и к которым подъехал герцог в сопровождении небольшой своей свиты. Среди неё шотландец приметил Генри Сидни, хотя и видел того всего лишь пару раз во дворце Байнард.
Сэр Реджинальд взялся за стремя и помог герцогу спуститься с лошади, в то время как сэр Генри Сидни помогал спешиться молодой даме…
– А это что за красотку наш сэр Сидни так ласково с лошади снимает, будто пену с полной кружки пива? – воскликнул капитан Дарфурт. – Ронан, дружище, у Ди ты поднаторел в математике и астрономии, а у Генри Сидни можешь вполне поучиться придворной галантности и ухажёрству.
– Нил, да ты попросту спятил! – попытался унять чересчур развеселившегося товарища Вильям Джефферсон. – Ежели твои шутки насчёт подружки нашего Ронана и родственницы сэра Хью пока что сходили тебе с рук – в отличие от меня, – то уж не дай боже, если Нортумберленд пронюхает, как ты о его дочке отзываешься. Подумать только, сравнить леди Марию Сидни с пивной пеной!
– Как! Да мне что-то и на ум не пришло, что это может быть супружница нашего сэра Генри, – сконфуженно пробормотал Корнелиас. – Да разве бы я осмелился, чёрт возьми?
– Я-то отделался лишь пощёчиной, – сказал Вильям Джефферсон, – а ты, друг Корнелиас, можешь за подобные речи языка лишиться. И будешь ты нем, как акула, но безобиден подобно форели. Ну, какой тогда из тебя морской капитан? Моли Ронана, чтоб он не донёс на тебя Нортумберленду.
Корнелиас Дарфурт наигранно вопрошающе посмотрел на юношу.
– Право слово, да за кого вы принимаете меня? – обиделся Ронан, чья простодушная наивность вызвала взрыв смеха у капитанов. – Да и говоря по совести, не желал бы я ещё раз с его светлостью встречаться.
– Как, ты уже и Нортумберленда на абордаж взял и парусами с ним сцепился! – изумился Дарфурт, но глянув на потемневшее лицо юноши, добавил: – Э, нет, парень. Похоже, это он тебя каким-то образом на крючок подцепил да за жабры взял.
Пока капитаны и Ронан болтали между собой в такой шутейной манере, гости у помоста в зависимости от своего ранга и сана приветствовали герцога: кто-то удостоился рукопожатия первого министра, иные низко кланялись, другие лишь почтительно опускали головы, дамы делали реверансы, а иные, в числе которых был и сэр Хью, по-солдатски стояли прямо и неподвижно.
После короткой приветственной беседы, пожатия рук и обмена любезностями все расступились перед герцогом, открыв ступеньки, ведшие на помост. Джон Дадли взял под руку Марию Сидни и величаво стал подниматься наверх.
– Ах, какая грация, какое достоинство! Так торжественно поднимаются либо на трон, либо на эшафот, – сказал Корнелиас Дарфурт, которому так и не суждено было узнать, насколько пророческими оказались его слова.
– А чему мы обязаны честью лицезреть здесь Нортумберленда? – полюбопытствовал Ронан.
– Вот тебе на! – воскликнул Джефферсон. – Да ведь именно он-то уговорил его величество взять сие плавание под своё высочайшее покровительство и, толкуют, больше всех денег во всё это предприятие вложил.
– А тот смуглолицый старик с белой бородой, который поднимается вслед за герцогом и леди Сидни, должно быть, синьор Кабото, – высказал предположение юноша.
– Глядите-ка, какой догадливый, – сказал Вильям Джефферсон. – Да, это он самый и есть. Наш старичок итальянец.
– Хо-хо! А за ними командор, Ченслер и дружище Стивен, надутый, что парус на грот-мачте при хорошем ветре, – добавил Корнелиас Дарфурт.
Далее на помост поднялись Генри Сидни и несколько дворян и купцов из числа учредителей компании. Когда почётные гости заняли свои места на возвышении, был дан сигнал и герольды торжественно протрубили в свои незамысловатые, но звучные музыкальные инструменты. Лица всех присутствующих обратились к галеону.
Работники верфи, одни – вооруженные топорами и ломами, другие – ухватившись со всех сил за натянутые канаты, уже знали каждый своё место и предстоящие манипуляции и только ждали сигнала. Все взоры обратились как по команде от корабля к герцогу. Джон Дадли, чувствуя, что от него ждут верховного повеления, посмотрел вопросительно на Генри Сидни. Пора ли? Тот понял и утвердительно кивнул головой. Герцог взмахнул белоснежным узорчатым платком, и действо началось.
Опоры перед кормой были успешно выбиты и упали в стороны, а корабельщики, выполнявшие это опаснейшее задание, проворно отскочили прочь с пути корабля. Какое-то мгновение судно не двигалось, будто раздумывая, стоит ли покидать уютный и безопасный берег и отдаваться коварству водной стихии. Все затаили дыхание и замерли в волнительном ожидании, словно галеон и в самом деле мог пойти против законов природы и капризно остаться на месте. Но вот, наконец, издавая стон и скрежет, судно сдвинулось с места и через мгновенье, набрав ход, скрипя и продолжая постанывать, плавно заскользило по спусковой дорожке. Наверное, то были самые восхитительные мгновенья, когда несколько десятков ярдов между судном и водой таяли на глазах. Корабль решительно и бесповоротно приближался к реке, и вот корма галеона с шумом врезалась в воду, подняв фонтан брызг и вызвав волнение на речной глади в заводи. Тут же раздались радостные восклицания, крики «ура», хлопанье в ладоши, головные уборы полетели в воздух. Громче всех, понятное дело, вопили дети, сбежавшиеся со всего Редклифа. Герольды снова заиграли в трубы.
Пока на берегу царило ликование, корабельщики при помощи канатов и шестов подвели судно ближе к берегу и закрепили в таком положении, после чего на корабль переброшен был трап, представлявший собой просто широкую доску с поручнями. Когда эти приготовления были завершены, процессия во главе с Нортумберлендом и Марией Сидни проследовала с помоста на борт судна…
Глаза Ронана горели радостным огнём, на щёках пылал румянец восторга, сердце учащённо билось. Вот он – корабль, на котором он поплывёт в далёкое путешествие, на самый край земли. Он уже наплаву и, казалось, манит юношу к себе всё сильней и сильней. В этот чудный миг Ронан забыл обо всём на свете, и, как это ни удивительно, даже мысли об Алисе вылетели у него из головы. Подумать только! Каких-нибудь пару месяцев и он выйдет в море на этом только что построенном, ещё пахнущем смолой, краской и древесиной корабле и уплывёт за тысячи миль отсюда, чтобы открывать новые моря и земли. Юношей снова овладели мечты, которые, тем не менее, были уже не пустыми грёзами, а уже скорым и неминуемым будущим. Ронану тоже захотелось подняться на корабль, на его корабль, он пожирал его глазами, но цепочка латников с грозными взглядами преграждала путь к кромке берега.
Вдруг кто-то крепко взял Ронана за локоть и подтолкнул вперёд в сторону помоста.
Глава VLIV
Загадочное письмо
– Великолепное судно вышло у корабельщиков, – над ухом у Ронан раздался голос Джона Ди. – Как жаль, что наши так удачно начавшиеся опыты не принесли подобных вожделенных результатов. Увы, мир ангелов лишь приоткрыл свой занавес, но не пустил нас к своим тайнам.
– О, доктор Ди, вы тоже здесь! – воскликнул юноша. – Скажите, ну разве не восхитительное зрелище созерцать рождение нового корабля? Подумать только, совсем скоро он станет моим домом!
– Как знать, юноша, как знать. Наше будущее покрыто мраком неизвестности, и мало кому дано приподнять сей таинственный полог, – молвил учёный муж и подумал про себя: «Неужели его гороскоп оказался ошибочным? Впрочем, сто дней ещё не истекли».
Ронан не обратил внимания на нотки сомнения в голосе Ди и продолжал любовно рассматривать судно.
– Мне кажется, ты был бы не прочь очутиться сейчас на борту сего чудесного корабля, где происходит его торжественное наречение, – произнёс Джон Ди.
– Вы заметили верно, доктор Ди, – ответил Ронан. – Телом я покуда здесь, а душой и мыслями уже там, на корабле.
– Вот как? Однако, не пришло ещё время душе твоей отделяться от тела. Давай же вновь их воссоединим и поднимемся на корабль! – возгласил учёный.
– Да, но кто нам это позволит?
Ди хитро улыбнулся, подвёл изумлённого Ронана к ряду латников и крикнул к расхаживавшему позади них командиру:
– Доблестный сэр Реджинальд, разрешите просить вашего соизволения мне, скромному служителю науки и герцога Нортумберлендского, а также моему юному ученику, предпочевшего куртку моряка мантии учёного, подняться на борт сего чудного корабля.
– Я приветствую вас, Джон Ди, и этого отважного молодого человека, столь смело выдержавшего испытание на мужество, – ответил старый вояка, заправлявший всей охраной Нортумберленда. – Однако, увы, я не могу допустить вас за кордон, ибо это вызовет недовольство герцога.
– Смею уверить вас, сэр, – упорствовал Ди, – что гораздо больше неудовольствие у его светлости вызовет невозможность составить карту судьбы сего судна в том случае, ежели я не окажусь там со своим учеником в момент наречения имени кораблю.
– Подумать только! – удивился старый воин. – Мне ведомо, Джон Ди, что вы мастер по части составления гороскопов. Но ни разу мне не приходилось слышать, что можно их рисовать и для неодушевлённых деревяшек.
– Неодушевлённых деревяшек! – гневно вскричал Ди, и глаза его загорелись неистовым пламенем. – Сам Господь создал это творение посредством рук человеческих! Десятки жизней будут вверены ему, а души плывущих вместе – единены в одну! Чаяния сотен, тысяч людей на земной тверди, благо целой нации предаются сему кораблю! И там, на борту, в эту самую минуту ему нарекается имя нашего всемилостивейшего государя, соединяя тем самым души кесаря и корабля. Клянусь Богом, мне искренне жаль отважного рыцаря, блуждающего во тьме неведения!
– Ну, может оно и так, – сказал опешивший сэр Реджинальд. – Я всего лишь старый солдат, привыкший исполнять приказы, и плохо разбираюсь в ваших науках. Полагаю, однако, что ничего плохого не будет, если я вас пропущу. Только одно условие – не мозольте глаза герцогу.
Когда Ронан с Ди поднялись на корабль, церемония наречения подходила к финалу. Герцог Нортумберлендский стоял на самой возвышенной точке кормовой надстройки и произносил торжественную речь, лишь последние слова которой долетели до Ронана.
– …и нарекается сей корабль «Эдвард Бонавентура»! – закончил Джон Дадли.
Нортумберленд сделал глоток из большого позолоченного кубка, после чего передал его стоявшей рядом с неподражаемой грацией леди Сидни. Та также чуть пригубила вино и вернула серебряный кубок изящной гравировки своему отцу. Герцог со всего размаху выплеснул содержимое драгоценного сосуда на палубу, под ноги почтенной публики. Такова была традиция крещения английских кораблей в те годы. Раздались торжественные звуки труб. Расположившиеся на носу корабля горнисты старались вовсю. Когда они утихли, герцог воскликнул:
– За короля! За Англию! За «Эдварда Бонавентуру»! За его моряков!
Этот тост был многократно радостно повторен всеми присутствовавшими. Затем Джон Дадли, герцог Нортумберлендский подошёл к фальшборту, окинул взглядом стоявших на палубе людей, посмотрел на огромную толпу на берегу и наотмашь швырнул кубок далеко в Темзу. Водный бог тут же поглотил драгоценный сосуд, чтобы при случае отблагодарить моряков корабля. Снова послышались радостные восклицания и хлопанья ладош. А мальчишки на берегу попытались приметить то место на воде, где раздался всплеск и разошлись круги, чтобы попытаться позже выудить драгоценный кубок, хотя из-за мутной воды и неспокойного течения в излучине у них было не очень-то много шансов…
Герцог спустился с кормы и присоединился к почтенной публике на палубе, где знатным гостям предложены были вино и закуски. Ронану же тем временем захотелось обойти весь корабль, исследовать каждую его дощечку, узнать, что таится за всеми дверцами и люками. Если бы и такелаж был уже полностью навешен, не исключено, что юношу потянуло бы также вскарабкаться и на марсы, и на топ стеньги. Однако, он вынужден был смирить свой пыл и, прогулявшись вместе с Ди по палубе, вслед за герцогом и его свитой покинуть корабль.
После того, как торжественная церемония закончилась и герцог Нортумберлендский с пышным эскортом и надёжной охраной уехал, площадка верфи понемногу обезлюдела. Опустошившие бочки с пивом корабельщики, моряки, зрители и прочая публика ушли искать развлечений на площади перед причалом, где ещё выступали артисты. Большинство участников и дольщиков торговой компании, командор, капитаны и старшие офицеры собрались в главном здании верфи, где предались радостному обсуждению предстоящего плавания.
Мистрис Алиса высказала намерение тотчас возвратиться домой, в Саутворк, чему Ронан, несмотря на своё желание задержаться на верфи, не посмел перечить. На обратном пути Алиса не проронила ни слова. А на все попытки юноши завязать разговор она с безразличным видом отворачивалась в сторону и смотрела на проплывающий мимо берег. Ронану ничего не оставалось, как тоже повернуться и смотреть на другую сторону реки. Так они и доплыли до пристани у Моста.
Противоречивые чувства наполняли Ронана. Ликование по поводу скорого выхода в море, восторг от восхитительного корабля, досада на так не вовремя появившихся капитанов Дарфурта и Джефферсона, недоумение из-за неожиданного холодного безразличия Алисы, всё это переплелось в такой сложный клубок переживаний и дум, что юноша был просто не в силах его распутать…
В доме негоцианта Ронана ждало письмо, которое, по словам старины Гриффина, принёс какой-то худосочный мальчишка. Юноше доставка письма сама по себе представилась весьма странным событием, ибо мало кто знал теперешнее его место обитания, а все его знакомства и связи были ограничены людьми, причастными к плаванию, которые к тому же все были в тот день в Редклиффе.
Уединившись в своей комнате, Ронан развернул сложенный вчетверо лист бумаги, предварительно сорвав восковую печать с инициалами «T.T. » и развязав шёлковую нить. Послание было написано ровным и красивым почерком.
«Достоуважаемому благородному Ронану Лангдэйлу
Сэр, примите мои горячие приветствия представителю шотландской знати, отмеченному своей приверженностью единственно истинной вере.
Моё письмо может оказаться некоторой неожиданностью для вас, тем более, что мы лично ещё не имели возможности быть знакомы, кою несправедливость судьбы, я надеюсь, мы скоро исправим. До меня дошли слухи о вашем пребывании в английском столице. И я, пользуясь представившимся мне случаем, желал бы пригласить вас на конфиденциальную встречу. Зная ваше происхождение и убеждения, я уверен, что у нас найдутся интересные нам обоим темы, обсуждение коих может быть чрезвычайно полезно для нас и всего дела католической церкви.
Могу порекомендовать отличное место для rende-vouz, где мы можем, не привлекая внимания, встретиться и спокойно побеседовать. Именитая таверна «Дьявол и святой Дунстан» близ Темпл-бара, более известная как Таверна Дьявола, – приличное и многолюдное заведение, где прекрасно себя может чувствовать граф и ремесленник, негоциант и подмастерье, рыцарь и служитель алтаря. Здесь подают отличные блюда, изысканные вина и не задают лишних вопросов.
Вы сможете меня узнать по плюмажу на моей шляпе – большое перо с тремя оттенками: белым, синим и оранжевым. Если говорить о времени, я предлагаю четыре часа пополудни в день Annunciatio Sancte Marie 91. Если вас устраивают такие расположения, то я был бы признателен, если бы вы уведомили меня, передав ответ с тем же посыльным. Также я уповаю на ваше благородство и надеюсь, что вы ни с кем не будете говорить об этом письме и даже уничтожите его, ибо оно затрагивает честь и достоинство некоей знатной леди, о которой вы, несомненно, знаете.
Ваш преданный друг Томас Толбот»
Закончив чтение письма, Ронан остался в полнейшем недоумении, причину которого понять нетрудно. Он абсолютно не знал, кто таков был этот Томас Толбот, который называл себя его другом и сыплет туманными полунамёками. Да и вообще, откуда тому известно о существовании его, Ронана Лангдэйла? И почему он упирает на вероисповедание Ронана?
Юношу никогда сильно не заботили вопросы религии. Да, его родители – и покойная матушка и, слава Богу, здравствующий ныне батюшка – были воспитаны на принципах римской католической церкви. И все их предки также были добрыми католиками. Ронан и себя считал исповедующим эту религию и дома по мере возможности посещал церковные мессы и принимал святое причастие, что было для него скорее привычкой и данью традиции. Он воспринимал всё это как нечто естественное и неизменное, что передаётся от отца к сыну, от поколения к поколению. В целом юноша не был чересчур набожным человеком, а тем более ярым зелотом. Его романтической натуре претили религиозные споры и конфликты. Ронану равно было жаль и английских монахов, лишившихся своих обителей после разрыва короля Генриха с римской церковью, и шотландских реформаторов, в ужасных муках погибающих на инквизиторских кострах.
Ронан вновь перечитал загадочное письмо, но ни одной, даже самой смутной догадки не родилось в его учёнейшей голове. Проверив, что запомнил его содержание, юноша бросил письмо в камин…
Когда вечером довольный Уилаби возвратился из Редклифа, юноша пошёл к нему и хотел было рассказать о странном послании, но вспомнил о последней фразе письма и счёл недостойным не выполнить просьбы отправителя, тем более, что речь шла о репутации некоей неназванной леди. Возможно, не будь Ронан столь щепетильным в вопросах чести, ему удалось бы избежать тех фатальных бед и горестей, уготованных ему злым роком и недоброжелателями. В итоге, юноша не сказал командору ни слова о письме, но спросил, что тот знает про человека по имени Томас Толбот.
Хотя Уилаби вопрос и несколько удивил, он, будучи в отличном расположении духа, подкреплённым чашей доброго вина, прямодушно ответил:
– Толбот, мой дорогой, это знатное английское семейство, предводительствует которым сэр Френсис Толбот, граф Шрусбери. Мне приходилось иметь с ним дело во время шотландской войны. Скажу честно, воин он так себе. Однако у него большие владения на севере Англии и он обладает огромным влиянием на местное дворянство, которое по большей части придерживается старой католической веры. Одно время его даже подозревали в тайных намерениях помочь леди Марии Тюдор захватить власть в северных графствах. Но как бы то ни было, граф Шрусбери не сделал ни одного ложного шага, ничем себя не скомпрометировал, и Джон Дадли, тогда ещё граф Уорвик, предпочёл взять его в союзники и сделать лордом-президентом северных графств. У графа Шрусбери точно есть один сын, Джордж, которого я как-то встречал вместе с отцом во время войны в Шотландии. Однако имя Томас Толбот мне не знакомо. Верно, это кто-то из их кузенов. А почему ты спрашиваешь?
– Надо же мне знать, сэр Хью, благородные фамилии той страны, где я ныне нахожусь, – скрыл истинные причины своего любопытства юноша. – С одной я знаком уже весьма неплохо. И это благородное имя, без всякого сомнения, Уилаби. В последние месяцы я имел возможность познакомиться также с представителями семейств Сидни, Грей и Дадли.
Сэр Хью добродушно расхохотался.
– Ну, спасибо, тебе, Лангдэйл, за то, что ставишь моё имя в один ряд с влиятельными королевскими любимцами. Хотя мы, Уилаби, не можем сравниться с ними богатством или политической прозорливостью, количеством земель и замков, высокими титулами и близостью к коронованным особам, но по древности и боевым заслугам – смею тебя заверить – мы им не уступаем.
От сэра Хью Ронан пошёл к его ординарцу. Но и славный Дженкин Гудинаф, несмотря на своё всезнайство, не смог припомнить человека с таким именем. Так ничего толком и не выяснив, юноша побрёл по дому и в гостиной застал Алису, сидевшую за пяльцами. Ронан обрадовался случаю и присел на стул у камина, дожидаясь возможности начать разговор. Но девушка упорно не хотела его замечать и не отрывала глаз от вышивания.
Через некоторое время сверху по лестнице из кабинета негоцианта спустился Мастер Бернард. Увидав Ронана, он чересчур почтительно наклонил голову – в действительности же, чтобы скрыть злорадную улыбку. Когда же он стал прощаться с мистрис Алисой, то девушка вопреки своему обыкновению наградила его улыбкой и кокетливо протянула изящную ручку, которую предполагаемый жених, не ожидавший такой милости, взял своими дрожащими пальцами и боязливо приложился к ней тонкими губами.
Ронан смотрел на всё это действо с глупой улыбкой, кляня в душе этого лондонского хлыща, злясь на Алису и досадуя на свои бредовые иллюзии. Юноша едва дождался ухода Мастера Бернарда, чтобы бесстрастным и холодным голосом пожелать девушке доброго вечера и исчезнуть за дверьми своей комнаты, попросив прислугу принести туда ужин.
Оставшись наедине, Ронан придвинул письменные принадлежности и написал следующее краткое письмо:
«Благородному Томасу Толботу
Сердечно приветствую вас, достопочтенный сэр. Я получил ваше письмо, которое, должен признаться, меня несколько озадачило. Ибо я не могу понять, чем скромная персона изгнанника из своей страны может быть интересна английской аристократии или некоторым её представителям. Однако я не вижу причин, почему я не могу принять ваше дружеское предложение о встрече. Итак, четыре часа пополудни в день Annunciatio Sancte Marie, таверна «Дьявол и святой Дунстан»
Всегда ваш Ронан Лангдэйл»
Утром Ронан вручил письмо и трёхпенсовик старине Гриффину с просьбой отдать вчерашнему мальчишке-посыльному, когда тот изволит явиться. Сам же юноша вновь отправился в Элай для участия в опытах с Ди, о чём они с ним условились накануне.
Стоило только Ронану выйти из дома и скрыться из вида, как из-за угла выскользнул посыльный и железным кольцом в львиной пасти постучал в дверь. Мастер Ласси строго настрого запретил юнцу попадаться на глаза Ронану, и потому-то Арчи и дожидался в подворотне, пока Лангдэйл не покинет дом.
Вечером Фергал с чрезвычайной осторожностью вскрыл письмо, узнал его содержание и довольно ухмыльнулся, после чего снова ловко приладил печать на место.
На следующий день Арчи вновь оказался в замке Хандсон – обезлюдевшем и унылом. Лишь Томас Толбот остался в его опустевших покоях, дожидаясь новостей из Лондона. Разумеется, юнец более не осмелился в одиночку топать от большака через тёмный лес, на несколько миль окружавший замок. Он просто-напросто дождался возвращавшихся с рынка фермеров и присоединился к их компании. На этот раз Толбот предпочёл не встречаться лично с неучтивым мальчишкой-посланцем. Письмо Томасу передал стражник Мэтью.
Глава L
День Благовещения
На Флит-стрит было шумно и многолюдно. Дома пестрели живописными вывесками ремесленников, аптекарей, золотых дел мастеров, портных и прочих искусников. Ронан остановился перед широкой дверью, над которой лёгкий весенний ветерок покачивал красочную вывеску. Священник в монашеской рясе и почему-то в епископской мирте кузнецкими клещами ухватил за нос некое существо, которое судя по уродливому тёмному телу с мерзким хвостиком позади, безобразной рогатой голове с большущими ушами и паре несуразных крылышек на спине, должно было по замыслу рисовальщика представлять дьявола. Внизу красовалась надпись «Дьявол и святой Дунстан». В нескольких ярдах впереди улицу преграждала известная как Темпл-Бар большая деревянная арка, поверху которой несколько узеньких оконцев, заделанных железными решётками, говорили о её не совсем благом предназначении. На сводчатой крыше арки высились длинные шесты: то ли для того, чтобы вывешивать на них королевские стяги, когда монархи со своей свитой соизволят проезжать из Сити в Вестминстер или обратно, то ли для того, чтобы украшать их головами изменников наподобие Башни Предателей на Лондонском мосту.
Юный шотландец посмотрел по сторонам. Солнечные зайчики весело бегали по булыжной мостовой, горожане шли по своим делам, грохотали повозки крестьян и торговцев, величественно проплывали укрытые занавесями носилки-портшезы. Однако, неведомо по какой причине, в душу к Ронану закралась беспричинная тревога. Инстинктивно он поправил рукоять меча и вошёл в широкую дверь таверны.
Внутри было весьма оживлённо. Люди за столами ели и пили, громко разговаривали, спорили, ругались, играли в кости и триктрак. В камине ярко пылало пламя, было жарко и душно. Ронан в нерешительности остановился, и к нему тут же подскочил юркий служка и вкрадчивым голосом сообщил, что ежели джентльмен желает развлечься, то в других залах накрыты карточные столы, а на заднем дворе для благородных людей есть аллея для боулинга. Юноша ответил, что хочет всего лишь поесть и намеревается пройтись по таверне, дабы выбрать себе место по душе.
Заведение оказалось на удивление большим и запутанным, состоявшим из множества комнат различных форм и размеров, в каждой из которых пылал камин, сидели посетители, сновала прислуга.
Ронан пересёк не меньше десятка комнат и начинал уже теряться в лабиринте залов и дверей, пока, наконец, не заметил большое белое перо с вкраплениями синего и оранжевого цветов. Человек сидел к нему спиной и о чём-то оживлённо болтал с буфетчиком. Его стол стоял в самом лучшем месте – напротив камина – и ярко освещался пламенем, в то время как углы зала тонули в полумраке.
– Сэр, вас, должно быть, зовут Томас Толбот, – сказал Ронан, подходя к человеку с трёхцветным пером.
Вельможа повернулся, и приятная улыбка осветила его доброжелательное молодое лицо.
– А вы – Ронан Лангдэйл, Мастер Бакьюхейда! Не так ли? – приветливо сказал Толбот вполголоса, поднялся и протянул руку.
Юный шотландец никак не ожидал, что Томас Толбот окажется столь похож на него – возрастом, фигурой и даже чертами лица. Его добрая улыбка и приятный голос притягивали собеседника и внушали полное доверие. Украшенный золотым шитьём дублет с пуфами на рукавах и кружевным стоячим воротником свидетельствовал о достаточно высоком положении его владельца, а отсутствие всяческих украшений в виде цветных лент, галунов и вшитых страз только подчеркивало изысканность одеяния и чуждость Толбота пустому щегольству.
Поскольку Томас и Ронан находились ещё в достаточно молодом возрасте и представлять друг другу их было некому, то все официальности и церемонности, обычно неизбежные при знакомстве джентльменов, быстро уступили место дружеской беседе. Толбот был весел, приветлив и говорил с чистосердечной искренностью и любезностью, которая сразу завоевывает сердце бесхитростной юности. Его непринуждённые манеры, напрочь лишённые гордости и чванства, быстро разбили броню первоначальной скованности и настороженности Ронана, который предложил звать его просто по имени, на что его собеседник ответил:
– Вот это как нельзя лучше на нашем сокровенном поприще, где вокруг стадами снуют соглядатаи и шпионы. Упоминание лишних имён и титулов может только привлечь их внимание. С твоего позволения я бы ещё больше сократил сие дивное имя. Ну как, Рон, идёт? Том и Рон – словно Рем и Ромул. Надеюсь, мы вместе восстановим Рим из руин, дабы святая католическая церковь сияла в Англии во всём своём непреходящем величии.
– Однако, в итоге, Ромул в ссоре убил Рема, – неохотно напомнил Ронан.
– Ха-ха, дорогой мой, – засмеялся Толбот. – Ну, скажи на милость, разве ж может у нас быть несогласие, на какой горе воздвигать сей храм? Ведь фундамент ему един – наша непорочная вера…
Когда на столе появились источающие аппетитные запахи блюда, Томас набожно сложил руки и на латыни произнёс «Отче наш». Ронану ничего не оставалось, как последовать примеру своего нового товарища.
– Полагаю, моя госпожа будет весьма довольна, – негромко сказал Томас, – узнав, что Управитель готов оказать ей поддержку.
Ронан недоумённо посмотрел на товарища, не находя, что ответить. Толбот прожевал очередной кусок, посмотрел с хитрой улыбкой на шотландца и сказал:
– Ну-ну, Рон, из тебя, право, вышел бы отменный комедиант. Клянусь душой, по твоей физиономии можно подумать, будто ты едва лишь пробудился и не ведаешь ни сном ни духом, кто я таков и с какой стати восседаю здесь перед тобой будто девица перед исповедником.
– Клянусь, Томас, мне и в самом деле кажется весьма странным и непонятным, что моя скромная персона могла привлечь чьё-то внимание в Лондоне.
– Да я погляжу, ты ещё лучший лицедей чем святой Дунстан, который, притворившись обольщённым дьяволом, схватил того за нос кузнечными клещами и не отпускал до тех пор, покуда тот не пообещал более не искушать святого.
– Так вот в честь какого славного события названо сие заведение! – догадался Ронан, вспомнив вывеску над дверью таверны.
– Впрочем, такое твоё фарисейство во благо истинной веры даже лучше для нашего дела, – продолжил Толбот, понижая голос, – и, ручаюсь, зачтётся тебе не во грех, а во спасение. Моя госпожа, принцесса Мария, не может тебя ныне пригласить, ибо она сейчас далеко от Лондона, в безопасности и под охраной верных наших друзей. Но я-то, дорогой Рон, её глаза и уши, здесь, и ты можешь быть со мной откровенен как на исповеди.
– Ага, должно быть, это та самая леди Мария, к которой Нортумберленд, насколько я понял, испытывает далеко не дружеские чувства, – высказал предположение юный шотландец.
– Принцесса, мой дорогой Рон! Принцесса, которая в скором времени станет английской королевой!
– Неужели благочестивый король Эдвард столь плох? Ах, да… – Ронан вспомнил подслушанный им ненароком в предрассветном саду дворца Элай разговор двух учёных мужей, и ему почему-то стало жаль молодого короля.
– Называть Неда благочестивым! – изумился Томас. – Ну как же! Да ведь у меня совершенно вылетело из головы, что своим лицедейством ты утрёшь нос любому придворному комедианту… Хотя, может быть, ты и прав, ибо вероятнее всего юный король и сам всецело убеждён в своей набожности, обманутый коварным Нортумберлендом.
– Просто жалость берёт, когда человек умирает в столь юном возрасте, – расчувствовался Ронан. – Однако, я питаю надежду, что у английского народа появится другой не менее достойный монарх, произойдёт это на основании закона, и что твоя страна, Томас, избежит новой междоусобицы наподобие войны Алой и Белой роз.
– Вот в том-то всё и дело, дорогой Рон, что на пути закона стоит Джон Дадли, – сказал Толбот, нагибаясь к собеседнику и по-заговорщецки понижая голос до полушёпота, – ибо если Англия потеряет короля, то Нортумберленд лишится могущества и власти. А он этого боится словно дьявол святой воды, потому как знает, как истинная церковь относится к еретикам. Скажу тебе честно: моя госпожа опасается, что Дадли не остановится даже перед попранием закона о престолонаследии. Потому-то мы и хотим заручиться поддержкой шотландских прелатов, а также тех лордов, которые свято чтут религию своих отцов, и в первую очередь, шотландского регента Джеймса Гамильтона и его брата архиепископа Сент-Эндрюса.
При упоминании о Гамильтонах Ронан вздрогнул и невольно спросил:
– А почему же не королевы-матери – Мари де Гиз?
– Что за наивный вопрос, дорогой мой! – вполголоса воскликнул Толбот и продолжал негромко: – Мари де Гиз – из Лотарингского дома, и ей нет смысла поддерживать Марию Тюдор, потому что французы прекрасно осознают, что когда моя госпожа станет королевой, то обратит свои взоры на Испанию. А вот Гамильтонам и всем благоверным шотландским католикам есть чего опасаться, ежели в Англии к власти вновь придёт протестантский монарх, потому как тогда эту поганую ересь не остановят никакие границы. Она будет просачиваться в Шотландию, словно тухлая болотная вода сквозь заросли камышей, и отравлять твою страну ядовитыми испарениями наветов и лжеучений. Архиепископ лишится своих аббатств, а у его брата регента, даже если он и пожелает спасти свою власть и переметнётся на сторону еретиков, Мари де Гиз и её французы, уж поверь мне, рано или поздно отнимут титул Управителя и отправят ловить лососей и охотиться на куропаток в его обширных поместьях.
«Мне, впрочем, это будет только на руку, – подумал Ронан, – ибо тогда я смогу смело вернуться на родину». Вслух же он сказал:
– И как же стоит поступить Гамильтонам, по мнению твоей высокородной госпожи?
– В их силах заставить шотландский парламент не признать неправедно возведённого на престол монарха в Англии, если уж Дадли пойдёт на это, – ответил Толбот, – или выдвинуть армию к английской границе, что испугает Нортумберленда и воодушевит наших сторонников.
– Хм… Говоря по правде, что-то я сомневаюсь, что регент захочет встревать в английские дела, – сказал шотландец. – У него и дома-то, видно, всяких трудностей хватает.
– Как, Рон! Так зачем же тебя прислали в Англию, как не за этим? – вопросил Томас.
– Увы, я был вынужден покинуть Шотландию не по своей воле, – со вздохом признался Ронан. – Видишь ли, Том, я стал поперёк горла у Джеймса Гамильтона, ибо он возомнил, будто я проник в некие его тайны. Но видит Бог, нет никакой моей вины перед регентом.
– Святая дева Мария! Значит, ты не послан в Англию честными шотландскими католиками, а всего лишь ищешь здесь спасения от Управителя? – пришёл черёд Толботу удивляться, и это стало для него неприятным открытием.
– Томас, дорогой, я уже нашёл здесь всё, что мне нужно, – блаженно ответил Ронан. – Я познакомился с великими учёными и вскоре уплываю в Китай по неизведанным северным морям.
Несмотря на молодость, Томас Толбот был уже опытным придворным и неплохо разбирался в людях, но простодушная наивность Ронана, как оказалось, перехитрила и его.
– Подумать только! Он уплывает в Китай, а я, болван, принял его за посланца шотландской знати! Впрочем, во всём виновато вот это подмётное письмо, которое мне принёс какой-то нахальный мальчишка, – с досадой сказал Томас и протянул Ронану бумагу. – Должно быть, это чья-то дурацкая проделка, хотя и выглядит чересчур странно, ибо мерзкому шутнику, похоже, известно о некоторых моих тайных связях… Ну, попадись мне снова этот лживый юнец, я из него всю душу вытрясу, а узнаю, кем он подослан!
Ронан тем временем внимательно прочитал письмо. Видимо, написавший послание человек был неплохо осведомлён и о его, Ронана, делах, а также знал, чем занимается Томас Толбот при дворе Марии Тюдор. И всё-таки, невозможно было даже предположить, кто бы это мог быть. Ронан недоумённо поднял брови и вернул письмо товарищу.
– Проклятье, и как же я позволил себе так обмануться! – сокрушался Томас. – Так, значит, Рон, ты заделался моряком? Плавание в Китай, да ещё по северным морям! Сказать по правде, первый раз слышу про эту авантюрную затею.
– Просто удивительно, Том, что тебе ничего неведомо про это великое предприятие, тем паче, что к нему приложил руку сам Нортумберленд, которого ты не очень-то жалуешь, – сказал шотландец.
Молодой вельможа с пренебрежением пожал плечами и ответил:
– Клянусь пречистой, прежде чем нести свет истинной веры язычникам на другой конец света, нам стоило бы разобраться с еретиками на нашем благословенном острове. Разве не это должно являться важнейшей целью всех добрых католиков Англии, Уэльса и Шотландии?
– Прости, дорогой Том, но по мне, лучше плыть по неизведанным морям и открывать новые земли, нежели убивать себе подобных в тщетной междоусобице, – ответил Ронан. – Верно, у каждого свой путь в этой жизни.
– Эх, что ж с тобой поделаешь, – вздохнул Томас. – Плыви, мой друг, плыви по волнам, лети по ветрам. Мне, однако, тоже предстоит обходить рифы козней и водовороты интриг, дабы вновь воссияла наша вера над старой доброй Англией… Но раз уж на краткий миг судьба свела нас вместе, а точнее некий загадочный шутник, то давай же отметим наше знакомство, как пристало молодым джентльменам, и скрепим нашу дружбу благороднейшим вином. Эй, приятель! – позвал служку Толбот. – Прочь кружки с вонючим элем, который наводит лишь тоску, да принеси-ка нам самого наилучшего хереса, что хранится в ваших бездонных погребах, и подай его в чеканных кубках.
Вскоре перед друзьями стояли высокие сосуды с животворящим напитком, источавшим нежный аромат.
– Мало где в Лондоне можно испить сей божественный напиток, рождённый под палящим испанским солнцем, – сказал Толбот, глядя на искрящееся в кубке вино. – Так поднимем наши кубки в честь…
Договорить молодой вельможа не успел, ибо в этот самый миг где-то рядом в этой же комнате раздался пронзительный вопль:
– Пожа-а-а-р! Пожа-а-а-р!
От этого страшного крика в зале тотчас же всполошились и посетители и прислуга, все зашумели и завертели головами. И в самом деле, хотя огня кроме как в очаге видно не было, но в воздухе уже чувствовался едкий запах гари! Тут же раздались звуки опрокидываемых табуретов, истошные крики и ругательства. Испуганные посетители разом повскакали со своих мест, дико озираясь, потом похватали свои плащи и шляпы, рапиры и мечи и ринулись в сторону двери, сшибая друг друга. В мгновенье ока тревога разнеслась по всем залам таверны. В панике толпы народа метались друг навстречу другу: кто-то хотел выбежать на улицу, иные – на задний двор. Объятые ужасом люди мечтали об одном – выбраться из этой большой ловушки, пока пути к спасению ещё не отрезаны пламенем. Забыты были приличия и благопристойность, посетители толкали друг друга и осыпали проклятиями, каждый хотел спастись, ибо страх перед огнём обуял всех.
Причину такого переполоха понять нетрудно, если вспомнить, что пожар в то время был самым страшным бичом жителей Лондона, чьи дома стояли так тесно друг к другу, буквально стена к стене, что огонь мог распространиться по улице в считанные минуты. Внутри же домов изготовленные из дерева каркасы, стены, перекрытия, мебель и всё прочее убранство являли собой самую что ни на есть желанную пищу для всепожирающего огня. А потому пожаров боялись сильнее чумы…
В таверне царило настоящее светопреставление. Посетители, недавно ещё так весело предававшиеся чревоугодию, сейчас, бросив недоеденные блюда и недопитые кружки, метались по залам в поисках выхода; те, кто был потрезвее, уже толпились в дверях, пытаясь поскорее выбраться наружу; другие, чьё сознание чрезмерно затуманили винные пары, бестолково шарахались по комнатам, опрокидывая столы и табуреты и непотребно ругаясь.
Толбот, хорошо знакомый с расположением комнат в таверне, взял Ронана за руку, быстро и кратчайшим путём вывел его на улицу к Темпл-бару, где уже начинала собираться толпа.
Во всей этой суматохе, похоже, только один хозяин таверны, кряжистый и бульдожьего вида человек в цветастом кафтане, не потерял присутствия духа. При первом же сигнале тревоги он рявкнул на посетителей своим громовым голосом:
– Все на улицу, быстро! Все, кто не хочет поджариться, как барашек на вертеле!
Затем, повернувшись к ватаге буфетчиков, поваров и прислужников, быстро собравшейся около стойки, трактирщик принялся раздавать приказы, словно капитан во время шторма:
– Ищите живо, чёрт побери, откуда дымом тянет! Джон, Вилли, тащите-ка сюда кадки с водой с кухни, да поживей, как если бы за вами сам дьявол гнался! А ты, Гарри, хватай бычью шкуру в чулане и будь начеку, чтобы огонь ей забить. Остальные, черти, носы задерите, как гончие по ветру, и вынюхивайте, откуда гарь идёт, коли сами не желаете аромат хорошо прожаренных цыплят источать!
– Сюда! Ко мне! – вскоре откуда-то из глубины таверны раздался истошный крик одного из прислужников. – Здесь, здесь горит!
Все во главе с хозяином заведения бросились на зов. Они пробежали через комнаты и коридоры, пока не очутились в том зале, где незадолго до того сидели Ронан с Толботом. В самом углу комнаты поднималась тонкая струйка дыма. В нос бил сильный запах чего-то горелого, хотя огня было не видать. Недопитой кружки эля оказалось достаточно, чтобы устранить причину всего переполоха.
Буфетчик Джон выгреб из угла кучку странных медно-бурых угольков вперемешку с золой, от которых ещё сильно пахло горелым.
– Что за чертовщина! – недоумённо промолвил трактирщик. – Воняет так, будто сожгли с полдюжины еретиков-папистов и столько же ведьм в придачу, а пепла меньше чем от берёзового полешка.
– А может, это происки дьявола, хозяин? – предположил разносчик блюд Гарри. – Ведь как таверна прозывается, тот в ней и хозяйничает.
– Я в ней хозяйничаю, а не дьявол! Запомни, негодник, – прорычал трактирщик. – А все эти байки про название да витающие под сводами тёмные силы, которыми я порой гостей тешу, так то, чтоб славы больше моему заведению было. Поняли, дурни? Ну, что встали, будто лорды на королевском приёме? Живо за работу, бездельники, приведите залы в божеский вид и зовите с улицы наших гостей. Скажите, что всё обошлось, и добавьте: мол, происки нечистой силы.
Вскоре уж снова в таверне «Дьявол и святой Дунстан» все ели, пили и веселились, со смехом вспоминая недавний переполох.
– За нашу дружбу! – сказал Толбот, поднимая кубок после того, как молодые люди снова заняли свои места. – Вот уж действительно, нечасто встретишь такого искреннего и добросердечного друга как ты, Рон. Признаться, я даже рад, что ты оказался не тем, за кого я тебя принимал, а всего лишь честным и добрым молодцем. Эх, хотел бы я иметь такого же искреннего и любящего брата, ведь кровные узы – самые крепкие.
– Неужели, Томас, тебе не посчастливилось, как и мне, и ты единственный сын у своих родителей? – спросил Ронан, после того, как друзья наполовину осушили кубки.
– Да есть у меня старший братец Джордж, наследник титула и владений моего родителя. А потому он везде, словно хвост за котом, следует за графом Шрусбери, нашим отцом – и в Шотландию на войну, и в Лондон на дворцовые приёмы, лишь бы графа чем не прогневить и наследства не лишиться. А до меня ему и дела нет… Впрочем, был у меня ещё один кровный брат. Служанка в Шеффилдском замке нагуляла от моего отца, покуда он вдовствовал. Забавный был мальчишка, только чересчур уж обидчивый. В детстве мы немало играли, и я частенько позволял себе над ним подшучивать. А он был совсем маленький и не понимал, бедняга, моих дурачеств – думал, верно, будто я его обидеть хочу. А потом какой-то злоязычник донёс моей мачехе, что это – побочный сын её супруга, и она из ревности, покуда отец был на войне, выставила служанку с детьми за ворота, хотя я и умолял её пожалеть их… Эх, найти бы его.
– Увы, Том, моё семейство ещё меньше, – вздохнул Ронан. – Первенец моих родителей не прожил и месяца, а кроме меня Господь их детьми так и не благословил. Ах, как бы я был рад любому брату или сестре, пускай даже наполовину родным. Но отец мой так любил матушку и горевал после её смерти, что и помышлять не мог о новой женитьбе и даже поклялся на распятии ни на одну женщину глаз не поднимать. Хотя, говоря по правде, я был бы не против, если бы он нарушил свою клятву.
Друзья посидели некоторое время молча, погружённые в свои думы. Как это иногда случается, в людей грустных и меланхоличных вино привносит бодрость и веселье, и наоборот, людям жизнерадостным и беспечальным – ипохондрию и тоску.
– Странное дело, дружище Рон, но вместо того, чтобы веселить наши души, это прекрасное вино лишь наводит на нас уныние. Признаюсь, тоска охватывает моё сердце, а на душе растёт беспокойное смятение, словно у воина перед кровавой битвой, в которой ему, возможно, суждено пасть. Вот гляжу я на наши кубки, почти уже пустые, и мне приходит на память одна старинная итальянская легенда, где рассказывается, как два брата из знатного семейства безумно полюбили одну и ту же синьорину. А бездушная красавица никак не могла решить, кому отдать своё сердце. Наконец, ради потехи и по дьявольскому наущению она предложила влюблённым драться на дуэли, и кто победит в смертельной схватке, тому она и отдаст своё сердце и руку. Но братья были настоящими католиками и не могли поднять друг на друга руку. Тогда девица предложила им жребий. Она протянула два кубка с изумрудным вином и сказала, что в одном сосуде находится её душа, а в другом разбавлен яд. Оба брата бесстрашно сделали несколько глотков – так велика была их любовь к девушке, что они готовы были рискнуть жизнью. Они выпили вино, и один юноша тут же рухнул у ног жестокой красавицы, уронив полупустой кубок и отдав богу душу. А второй стоял рядом, держа недопитое вино, и взирал на своего мёртвого брата. Вдруг до него дошло, что это именно он таким манером убил своего брата. Его рассудок помутился, и бедный юноша убежал в горы, где и провёл остаток своей жизни полным отшельником.
Толбот замолк и поник головой. Молчал некоторое время и Ронан, рисуя в своём воображении эту трагическую картину, а потом вдруг спросил:
– А что же стало с этой бессердечной красавицей, продавшейся дьяволу и погубившей своих поклонников?
– Ну, вероятно, она… стала кальвинисткой, – ответил Томас.
Приятели дружно расхохотались над остроумным предположением. И этот молодой, задорный смех вмиг рассеял облака меланхолии, начавшие было сгущаться над столом, где сидели приятели.
– За тебя, Рон! – воскликнул Толбот, поднимая свой кубок и осушая его до дна.
– А я – за тебя! – вторил Ронан, следуя примеру своего товарища.
Глаза юношей весело блестели от восторга возникшей между ними дружбы, не отягощённой более никакими инсинуациями и интересами.
Толбот позвал буфетчика, чтобы потребовать у него ещё вина. Тот подошёл с перекинутой через руку большой салфеткой и с любезной улыбкой осведомился, чего желают джентльмены. Томас хотел было ответить, но почему-то слова не шли у него изо рта. Он удивлённо поднял брови, улыбнулся и безотчётно потянулся руками к кружевному вороту. Вдруг благородные черты лица Толбота исказила страшная гримаса, а расширившиеся зрачки в ужасе заметались. Юноша судорожно схватился за ворот, безуспешно пытаясь что-то сказать, но лишь невнятные хриплые звуки вырывались из перекошенного рта. Томас страшно побледнел, а на лбу у него выступила испарина.
– Том, что с тобой? – закричал, вскакивая, испуганный Ронан.
Он схватил товарища за плечи, не зная чем тому помочь, но через секунду почувствовал, как тело Толбота обмякло и начало соскальзывать вниз. Оно упало бы на пол, если бы Ронан не поддержал его.
Всё кончилось так же быстро, как и началось. Глаза Томаса остановились, голова безвольно склонилась набок, руки повисли. Кто-то сбегал за трактирщиком, главным лицом в этом заведении. Ронан всё ещё держал своего друга за плечи, когда тот пришёл, пощупал запястье Томаса Толбота, поднёс лезвие ножа к его губам, подержал и провёл по нему пальцем – оно было сухим – и сказал:
– Что за дьявольщина! Мало того что чёртовы угольки чуть было мою таверну дотла не спалили и некоторые клиенты ускользнули, не расплатившись по счёту, так теперь этот молодец вздумал богу душу отдать, когда самое вечернее застолье начинается! Верно, хочет нечистый меня по миру пустить. Поди, знает лукавый, что я папистов на дух не переношу, хоть и пускаю их в моё заведение.
Из всей этой длиной тирады Ронан уяснил только одно: Томас Толбот был мёртв…
Глава LI
Ронан – преступник!
Посетители собрались вокруг табурета, на котором до сих пор находилось бездыханное тело молодого вельможи, твёрдо удерживаемое крепкими руками ошеломлённого и растерянного Ронана. Руки молодого шотландца разомкнули и Томаса Толбота аккуратно положили на пол и послали за магистратом.
Ронан неподвижно стоял над распростёртым у его ног телом и пытался прийти в себя от этого трагического происшествия, в то время как в окружавшей его толпе шли пересуды.
– Что случилось с твоим дружком-то, приятель?
– А мне он показался здоровым как бык и весёлым, словно пламя в камине.
– Смотрите, какой молодой ещё!
– А как умер-то быстро!
– Зато весело, с кубком вина в руке!
– Так махом в его летах не умирают. Тут что-то нечисто.
И как бы ответом на недоумённые возгласы откуда-то сзади собравшейся вокруг тела толпы раздался надрывистый крик:
– Я видел! Я всё видел! Хватайте его!
Кричавшего быстро доставили в середину. К удивлению всех им оказался подросток лет четырнадцати-пятнадцати, в хорошей одежде, с беззастенчивым и чуть нагловатым взглядом.
– Кто ты таков? Чего видел и кого хватать? – спросил у него трактирщик. – Говори толком и не бреши зазря языком в сей скорбный момент, а не то, клянусь Бахусом, тебя выкинут за двери, как выковыривают жирную муху, имевшую наглость попасть в сладкий пирог.
– Скажу всё как на духу, ручки в ножки, сумочки-кошёлки, – шустро продолжил юнец. – Звать меня Арчи. Притулился я себе скромненько в углу, значит, и уминал вкусненький пирог с мясом. Ну, а поскольку надо было куда-то свои зенки пристроить, вот я и поглядывал на этот вот стол, где Каин с Авелем пировали.
– Каин с Авелем! Да на каком основании ты, неоперившийся воробей, смеешь так называть этих молодых джентльменов, один из которых, к тому же, имел несчастье преставиться? – негодующе вопросил трактирщик.
– Так, то ж проще пареной репы, – без тени смущения ответил Арчи. – Когда тот, мертвяк который, оглянулся, чтобы кликнуть буфетчика, то этот злодей что-то из склянки ему в кубок и плеснул. Думал, небось, ему дюжина выпадет и никто не приметит. Только просчитался он, потому что на Вестчип глазастей меня никого не сыщешь.
– Это ложь! – воскликнул Ронан. – Наглая ложь.
– Что видел, то и говорю, – заявил юнец. – У меня натура такая: как только чего увижу, так сразу и говорю, а затем уж думаю.
– Что ж, не так-то уж и трудно выяснить, кто из вас говорит правду, а кто кривду, ежели вы, сэр, не будете возражать, коли мы вас обыщем, и уж не обессудьте, ежели найдём при вас склянку из-под яда, – вмешался трактирщик, вопросительно глядя на Ронана.
– Я понятия не имею ни о каких склянках! – пылко вскричал юноша. – Клянусь честью! Но если кто из вас изъявит желание прикоснуться ко мне, то будет иметь дело с моим мечом.
Не сознавая что делает, Ронан выхватил оружие из ножен и встал над телом своего почившего друга и спиной к камину, заняв оборонительную позицию. Такую сцену и застал магистрат, вошедший в этот момент в зал.
Магистратом, или иначе мировым судьёй, в том районе старинного Лондона, окружавшем Флит-стрит и Темпл-бар, был тогда знатный ювелир, член гильдии золотых дел мастеров, по имени Оливер Голдсмит. Он незамедлительно, как то требовала его должность, пришёл в Таверну Дьявола, хотя и с чуть недовольным видом, ибо полагал, что его оторвали от работы, скорее всего, по какому-нибудь пустяшному делу, потому как прибежавший за ним мальчишка-половой сообщил только, что в таверне случилось чрезвычайное происшествие. Оливер Голдсмит захватил письменные принадлежности, сменил свой рабочий фартук на толстую золотую цепь, которую сам же и смастерил, нацепил перевязь с мечом, которым ни разу в жизни не пользовался, и в таком своеобразном виде, переполненный чувством собственной значимости предстал в таверне.
В те далёкие времена ещё не существовало полиции и констеблей, а пойманных преступников препровождали к мировому судье. На эту должность, как правило, выбирали добропорядочного гражданина из среднего сословия, пользовавшегося уважением соседей и в своей гильдии, хорошего семьянина и владевшего грамотой. В его обязанности помимо прочего входило урегулирование всех спорных вопросов, возникавших между обитателями своих кварталов, а также именно он решал, достаточно ли оснований считать преступление столь тяжким, что преступника надлежало препроводить в тюрьму дожидаться уголовного суда. В последнем случае мировой судья составлял обвинительный акт и передавал дело лондонским шерифам. При относительно незначительных проступках мировой судья имел право сам назначать наказание, после исполнения которого провинившегося отпускали.
– Какое такое чрезвычайное событие случилось в твоём заведении, почтенный трактирщик, – спросил Оливер Голдсмит, – что ты изволишь отрывать меня от праведных трудов? Подмастерья сказали, что недавно твоя таверна чуть всю улицу не спалила.
– Да нет, дорогой Голдсмит, – возразил было трактирщик. – Чересчур уж тигли разогрели твои подмастерья.
– Не кривил бы ты душой, дружище, – продолжал магистрат. – Всем известно, что дыма без огня не случается.
– Что ж, и в самом деле, почтенный Оливер, чего правду-то таить, – делано сдался трактирщик. – Признаюсь, повеяло здесь адским дымком от пары угольков, подброшенных Люцифером. Оттого и весь переполох был. Но мои ребята живо сатанинские проделки разгадали, и снова была бы в таверне тишь да гладь, насколько это возможно в столь весёлом местечке, ежели бы не одно происшествие, закончившееся не столь благополучно. Видать, дьявол никак не хочет оставить в покое моё заведение. – И трактирщик поведал про обстоятельства неожиданной смерти одного из посетителей.
Мировой судья внимательно посмотрел на покойного, перевёл взгляд на Ронана, застывшего с мечом в руках, поискал глазами Арчи, выглядывавшего из-за широкой спины трактирщика, вздохнул и уселся за стол, на котором стояли пустые кубки.
– Смею вас уверить, молодой человек, – обратился магистрат к Ронану, – что вы поступаете крайне неразумно, обнажая оружие в этом мирном заведении, ибо тем самым даёте нам повод считать выдвинутое против вас обвинение вполне резонным.
– Но я ни в чём не виноват, Мастер Голдсмит! – возразил Ронан. – Клянусь святым Андреем! А чем ещё может защитить себя одинокий странник против лживого обвинения и трёх дюжин озлобленных людей как не оружием?
– Дорогой мой, – сказал Оливер Голдсмит, – позвольте мне посоветовать вам не усугублять свою вину, – если вы действительно виноваты, – и не препятствовать мне в установлении необоснованности обвинения – если оно ложно, как вы утверждаете. А пока будьте любезны сообщить имена ваше и почившего.
Когда узнали, что умерший был сыном графа Шрусбери, по толпе собравшихся пробежала волна изумления. Все знали, что могущественный граф держал в руках весь север Англии, был членом Тайного Совета и с ним приходилось считаться самому герцогу Нортумберлендскому. А потому нельзя было позавидовать человеку, причинившему Шрусбери такое жуткое несчастье и нанёсшему столь смертельную обиду.
– Да уж, к знатному семейству принадлежал ваш знакомец, молодой человек, – сочувственно сказал Оливер Голдсмит. – Хотелось бы мне от всего сердца, чтобы человек с таким честным и открытым лицом как у вас оказался невиновным, и чтобы все подозрения развеялись как туман над Темзой с восходом солнца. Однако, то будет к вашему же благу, если вы не станете чинить препятствия отправлению моих обязанностей мирового судьи.
Ронан давно уже понял безрассудность своей выходки и, вняв рассудительным и добросердечным словам магистрата, вложил оружие в ножны и отдал себя во власть закона, полностью уверенный, что это бредовое недоразумение скоро разъяснится, а подлого клеветника с презрением выкинут из таверны.
Ловкие руки зашарили по одежде юноши, проникая не только в наружные, но и в спрятанные за подкладкой камзола скрытые карманы. У магистрата не было недостатка в добровольных помощниках; каждому хотелось найти злополучную склянку, особенно задорным молодым подмастерьям. Ронану эта процедура была явно не по душе, но он смирил свою гордость и с видом оскорблённого достоинства терпеливо ждал конца обыска.
На столе перед магистратом появились найденные в карманах вещи: кошель с несколькими золотыми монетами, два-три свёрнутых листка бумаги, сатиновый платок и ещё несколько малозначащих предметов, о существовании которых забывает порой и сам их хозяин. Ничего, хоть мало-мальски напоминавшего сосуд для жидкости, среди обнаруженных в карманах предметов не было.
– И какого же чёрта ты, пустобрёх и злоязычник по имени Арчи, на честного человека напраслину наговаривал? – свирепо прорычал добрый трактирщик, оборачиваясь к юнцу. – Эй, почтенный Голдсмит, не считаешь ли ты, что стоит всыпать хороших розог этому сопливому дьяволёнку, перед тем как окунуть в канаву с дерьмом и обвалять в перьях?
– Клянусь святым Дунстаном, ты совершенно прав, мой друг, – согласился магистрат. – Я с преогромным удовольствием дам такое распоряжение.
– Ручки в ножки, сумочки-кошёлки! Вы что же, считаете, будто я не кумекаю когда врать надобно, а когда стоит и правду выложить? – с нахальным видом заявил Арчи. – Да любой пройдоха с Вестчип тебя, добрейший трактирщик, в дураках оставит, сколько ты не гавкай, да и тебя, Оливер Голдсмит, хоть ты клянись своим чёртовым Дунстаном через каждое слово… Одежду-то вы проверили, а про головной убор забыли!
Трактирщик, возмущённый подобной наглостью и не обращая внимания на последние слова Арчи, схватил того за шиворот, явно не с самыми добрыми намерениями. Оливер Голдсмит был более рассудительным человеком – ведь не зря же его выбрали магистратом в этом году. Он протянул руку и поднял лежавшую перед ним на столе великолепную шляпу с изумительным пером, под которой, однако, ничего не оказалось, кроме нескольких крошек. Затем он приподнял вторую, менее примечательную, без перьев и галунов шапку. Под ней на столе лежал малюсенький пустой флакончик, в каких аптекари обычно продавали лекарства для больных или же душистые эссенции для модниц и франтов. Магистрат поднял найденную улику вверх на всеобщее обозрение.
Толпа ахнула, при виде склянки ни у кого не осталось сомнения в виновности Ронана. Трактирщик выпустил Арчи и тот стоял с самоуверенным и нахальным видом. Юный шотландец побледнел, но, зная о своей непричастности к злодейству, вовсе не собирался сдаваться.
– Ума не приложу, откуда там взялась эта вещь, – недоуменно произнёс Ронан. – Должно быть, кто-то намеренно подложил её туда.
Но слова эти прозвучали весьма неубедительно и Оливер Голдсмит со вздохом сказал:
– К великому моему сожалению, юноша, кажется, что в данном случае внешность оказалась обманчива.
– Но я ни в чём не виноват, этот юнец лжёт и склянку подложили под мою шапку со злым умыслом, дабы оклеветать меня, – настаивал Ронан. – Я могу доказать, что нашу встречу устроили специально, прислав Томасу Толботу подмётное письмо, полное лживых намёков. Это письмо он показывал мне час назад, и оно должно быть в кармане его дублета.
Почтенный магистрат, обрадованный появившейся надежде на спасение юноши, кивнул головой, и добровольцы, в основном беззаботные подмастерья, без всяких признаков смущения или почтения к усопшему вытряхнули все карманы покойного. Оливер Голдсмит с огромным удовольствием наказал бы этого наглого мальчишку Арчи и отпустил державшегося с таким достоинством благородного юношу, если бы… если бы было найдено хоть одно основание считать обвинение несправедливым. Увы, к большой досаде магистрата и ужасу Ронана письма в карманах Толбота не оказалось.
– Не может этого быть! Я видел собственными глазами, как он убирал его в карман! – вскричал недоумённо Ронан и рванулся к телу Толбота, но почувствовал, как сразу несколько рук безжалостно схватили его с обеих сторон, сняли с него перевязь с мечом и продолжали крепко удерживать на месте.
Магистрат вздохнул и принялся излагать на бумаге все обстоятельства дела. Когда он закончил, то сказал Ронану:
– А сейчас, молодой человек, вас препроводят к шерифу. И дай Бог вам иметь хороших друзей и найти весомые объяснения, дабы оправдаться перед присяжными. Сказать по совести, несмотря на свидетельство и улики против вас, я не в состоянии до конца уверовать в вашу вину. Клянусь святым Дунстаном, мне кажется более разумным поменять вас местами с этим нахальным и невоспитанным юнцом. Однако, увы, мои обязанности мирового судьи заставляют меня внимать голым фактам и неопровержимым уликам.
После этого Оливер Голдсмит поднялся, попрощался со своим другом трактирщиком, послал одного из своих подмастерьев к шерифу с подробным описанием происшествия и с чувством выполненного долга покинул Таверну Дьявола, унося на душе неприятный осадок.
Вскоре посланец вернулся от шерифа с приказом препроводить преступника в Ньюгейтскую тюрьму. И Ронана те же весёлые и бойкие подмастерья, что обыскивали карманы его и Толбота, с игривой церемонностью неспешно повели в тюрьму для уголовных преступников, воров и убийц…
Глава LI I
Ньюгейтские Врата
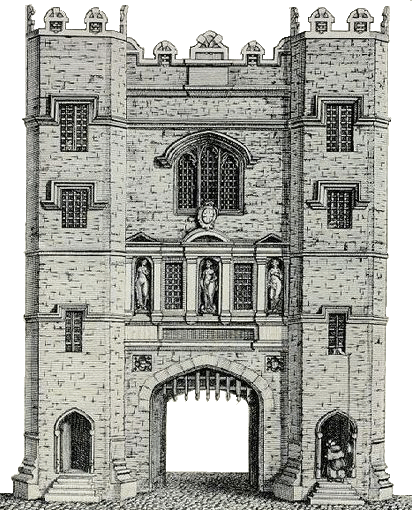
Ньюгейтская тюрьма была ужасным местом, как, впрочем, и все подобные заведения того времени. Не одна сотня узников томилась разом в стенах этого старинного узилища, построенного ещё в двенадцатом веке по приказу Генриха Второго, томились как правило в таких адских условиях, что даже смерть порой казалась им избавлением.
Кто-то здесь дожидался суда в тягостном предчувствии страшного вердикта за свои преступления, или же просто досадуя на свою горькую судьбину и кляня на чём свет стоит магистратов, шерифов, олдерменов, судей и прочие власть предержащие; некоторые из них ещё лелеяли слабую надежду, что им удастся как-то вывернуться или разжалобить присяжных и судей, чтобы наказание было не столь суровым, но надежды эти, как правило, были тщетны.
Иные же с мрачной отрешённостью или беззаботным равнодушием – в зависимости от своего характера и воззрений – ждали дня, когда зловещая повозка повезёт их в Тайберн для примерки пенькового ожерелья или на Смитфилд, где их ждала не менее ужасная смерть в огненных объятиях костра, ибо попадали в эту тюрьму люди, совершившие особо тяжкие с точки зрения закона преступления, караемые смертной казнью.
Ньюгейтская тюрьма в те времена ещё не была тем огромным комплексом мрачных зданий, обнесённых мощной стеной, каким она стала после Большого лондонского пожара и в каковом виде она более запечатлена в истории. До этого на протяжении веков тюрьма располагалась в здании старинных Ньюгейтских Ворот, состоявших, как и все, окружавшие Лондон вдоль античного римского вала ворота, из четырёх массивных башен по углам и двух-трёх этажей перекрытий между ними.
Ничто снаружи не выдавало столь мрачного предназначения этого сооружения. Наоборот, расположенные в нишах над самими воротами фигуры античных богинь, разукрашенный герб города над ними и резная балюстрада на самом верху радовали глаз и не вызывали и тени беспокойства у несведущего человека. И лишь заделанные железными прутьями с палец толщиной окна намекали на недозволенность таким необычным образом проникать в здание или же из него.
Именно таким увидел убитый горем Ронан своё будущее жилище, куда его отвели по приказу шерифа и где ему предстояло дожидаться суда. Молодой шотландец желал в этот миг лишь одного – поскорее укрыться за каменными стенами от того унижения и позора, которое он испытывал, покуда его, сына гордого шотландского барона, со связанными руками и с путами на ногах какие-то подмастерья вели по грязным лондонским улицам.
После продолжительного стучания руками и ногами по обитой железом двери, решётка в ней наконец отворилась и в тёмном проёме появился угрюмый оскал тюремщика.
– Ну, что раскукарекались, бездельники? – зло прорычал страж. – Или хотите среди моих постояльцев очутиться? Так, у меня места свободные покуда имеются. А коли и нет, так мои жильцы ради такой весёлой компании могут и потесниться.
– Боже упаси у тебя, Пёс, в гостях оказаться! – ответил кто-то из подмастерьев. – Нам в гильдии лиходеев и законоотступников делать нечего. Вот, нового жильца привели на твой постоялый двор.
– Что ж, я новым постояльцам завсегда рад, – злорадно ответил тюремщик, пропуская Ронана внутрь и беря у подмастерья записку шерифа. – Добро пожаловать, сэр грешник, в мою преисподнюю. Ручаюсь, коли ты исчадие ада, то тебе здесь будет всецело по душе, ежели ты её, конечно, ещё не полностью продал дьяволу.
– Смею тебя уверить, добрейший Орф92, я попал сюда по злому навету, – ответил удручённый Ронан. – И вряд ли мне здесь понравится.
– Что-то я не возьму в толк, как ты меня обозвал, – нахмурившись, сказал тюремщик, – Видать, ты вознамерился меня оскорбить, назвав «добрейшим». Но запомни, парень, меня все зовут Пёс Тернки, хотя в детстве мамаша, помнится, называла меня Джонни. Хотя, признаться, моё нынешнее звучное прозвище мне куда более по нраву… Ну, а раз ты попал сюда по ошибке – хотя все, здесь оказавшиеся, говорят тоже самое, будто сговорились черти, – так вот, раз ты мнишь себя честным человеком, то, надеюсь, и платить за услуги будешь по справедливости.
Ронан не успел спросить, что это за плата за услуги, потому что к этому моменту они как раз поднялись на верхний этаж и очутились в необычно большой для тюрьмы комнате с огромным окном и пылающим камином. Пол с одной стороны комнаты был устелен какими-то душистыми сухими травами, а потому здесь не чувствовалось мерзкого зловония, каким была пропитана, казалось, вся тюрьма. Оказалось, что это была контора тюремного смотрителя, который в это время согнулся за столом и что-то писал. Это был невысокий тщедушный человечек с впалыми, бледными щеками и хищными глазками, который, по всей видимости, получил эту доходную должность не за честное служение и доблесть натуры, а благодаря умению преподнести себя в выгодном свете перед кем надо. Не поднимая головы, он спросил у Тернки, в чём дело, и тот вручил ему записку шерифа.
– А я-то думал, что Герион был великаном, – сказал как бы сам себе Ронан.
– О чём он там болтает, Тернки? – спросил смотритель.
– Про какого-то великана толкует, – ответил тюремщик. – Может, он грешным делом по ошибке к нам угодил, заместо Бедлама93, хе-хе?
– Беспричинно шериф сюда никого не отправляет, – сказал смотритель, прочтя записку. – Убийце и отравителю самое здесь и место дожидаться суда и наказания, особо ежели он может исправно за постой платить. Ты, Тернки, наши порядки знаешь, вот и поступай с новеньким сообразно принятым у нас правилам и расценкам.
Что это за правила, Ронан понял, когда Пёс Тернки ввёл его в соседнюю комнатушку, где лежали различные слесарные инструменты, а также валялись кучей и развешаны были по стенам железные цепи, оковы, кандалы и колодки. Тюремщик смерил Ронана взглядом и принялся подбирать ему вериги. Юноша с омерзением наблюдал, как тяжёлые железные оковы охватили его руки и ноги, заменив верёвки, так что он едва мог передвигаться. Когда дело было сделано, Тернки заявил:
– С тебя два пенса, приятель.
– Два пенса? За что? – не понял Ронан.
– Как за что? За работу, знамо дело, – довольно произнёс тюремщик. – За то, что я приодел тебя по тюремному фасону. Представь, будто ты платишь портному за новый камзол. Только и всего.
– Да, но мне вовсе не по душе такой покрой, – возразил юноша. – И более того, ты «приодел» меня против моего же собственного желания, Пёс Тернки.
– Моё желание! Выброси из головы эти глупые слова, приятель, – мрачно ухмыльнулся тюремщик. – В Ньюгейтских Вратах они неуместны так же как рыданья и мольбы перед присяжными в зале суда. Ты, судя по добротному одеянию и ухоженной физиономии, не из сословия бедняков. А раз так, вот тебе мой добрый совет: ежели ты чаешь хорошего к себе отношения в стенах нашего постоялого двора, то не отказывайся от уплаты счётов. Иначе, – зловещим шёпотом продолжил тюремщик, – Ньюгейтские Ворота станут для тебя вратами в ад.
Ронан счёл, что если уж не работа, то, по крайней мере, совет стоит этих денег, и отдал презренному тюремщику полгрота, благо в таверне ему вернули все личные вещи, включая и кошель, кроме, естественно, меча.
После этого юношу снова ввели в комнату тюремного смотрителя, который как раз закончил вписывать имя нового арестанта в тюремную матрикулу. Смотритель исподлобья глянул на Тернки, который из-за спины Ронана кивнул головой своему начальнику, и с любезной улыбкой спросил юношу:
– В каком апартаменте желаете поселиться, Ронан Лангдэйл?
«Видно, он тоже не прочь получить от меня что-то за постой», – подумал про себя Ронан и сказал:
– Я пока не имел возможности познакомиться с расценками на вашем постоялом дворе, сэр.
– Выбор здесь, честно говоря, невелик: залы побольше, где по полдюжины жильцов, стоит смрад и вонь, подсоленные крепкими ругательствами и печальными стонами, и маленькие каморки, куда ты и так непременно попадёшь, ежели достоуважаемые присяжные решат, что ты уже достаточно пожил на этом свете – а судя по тому, что пишет мне шериф, так оно и будет.
– Не думаю, что мне доставило бы удовольствие пребывание в компании воров и убийц, – презрительно произнёс Ронан.
– Вот тебе на! – воскликнул Пёс Тернки. – А сам-то ты, приятель, разве теперь не из этой братии будешь?
– Прикрой свою пасть, Тернки, – сказал смотритель. – Молодой джентльмен, видимо, желает тишины и покоя, дабы в уединённых молитвах подготовить душу к путешествию в царство вечности. Что ж, у нас как раз освободилась недавно одинокая келья для подобного времяпровождения, в левой наружной башне на самом верху. Там достаточно долгое время проживала одна миловидная особа, которая, по словам некоторых очевидцев, на метле передвигалась гораздо быстрее, чем хороший ездок на быстром скакуне. Кроме того, у неё существовала странная привычка смеяться в самые неподходящие для этого моменты: при встрече траурной процессии или когда ей приходилось идти мимо церкви. Люди видели, как в бурю она выбегала из дому и радостно прыгала, размахивая руками. Стоит упомянуть, что у девицы глаза были разного цвета: левый – зелёный, а правый – серый. Хотя все улики и были налицо, но судьям долго пришлось помучиться, чтоб добиться от неё признания в колдовстве. Эта ведьма смеялась им в лицо и отвечала, что она всего лишь обыкновенная девушка и просто любит прыгать и танцевать. Многие и правда долго не могли поверить, что такая красотка могла быть колдуньей. Хотя я-то в это сразу уверовал, как только услыхал, как однажды ночью она пела в своей комнатке ведовскую песенку и на каком-то диком языке. Причём, заметьте, в ту ночь было полнолуние… В конце концов, почтенные судьи решили расспросить эту особу с помощью обыденных средств допроса. И в первый же день на дыбе девица во всём и призналась. Через месяц её отвели на Смитфилд и сожгли… Но вы, сэр, не беспокойтесь – вам такая страшная участь не грозит. Заместо столь мучительной смерти вас, счастливчика, просто вздёрнут на перекладине в Тайберне. Вы даже можете ещё более облегчить свои страдания, если заплатите мне несколько жалких монет, за которые добрые люди повиснут у вас на ногах, когда повозка отъедет от виселицы.
– Я непременно воспользуюсь вашим советом, добрейший Герион, – сказал Ронан спокойным, или скорее уставшим голосом. – И всё же, сэр, ради всего святого, могу ли я, в конце концов, уединиться в этой комнатке? У меня выдался ужасно тяжёлый день.
– О, конечно же, мой юный друг! – радостным голосом ответил тюремный смотритель. – Конечно же! Два шиллинга и вы будете в полном покое и уединении.
Ронан безропотно расстался с требуемой суммой – деньги для него уже ничего не значили, – и вскоре юноша очутился в маленькой комнатушке на самом верху боковой башни. Падавший из узкого зарешеченного оконца слабый свет позволял различить соломенный тюфяк на полу, корявый табурет и грубый ночной горшок, содержимое которого, предполагалось, должно было выкидываться сквозь решётку в оконце в находившийся под стенами ров.
Алчный тюремщик тут же предложил Ронану за весьма умеренное воздаяние улучшить его быт, но всё что желал в этот момент юноша – это остаться одному. Пёс Тернки только хмыкнул и сказал напоследок:
– Что ж, отдохни, приятель, выспись. Глядишь, завтра до тебя и дойдёт, что не стоит беречь свои деньги, от которых через месяц проку будет тебе никакого. Зато ты можешь прожить последние дни на этом свете с пущим комфортом и стать настоящим королём среди ньюгейтских узников, стоит лишь мне шепнуть и развязать пошире твой кошель.
Когда Ронан услышал звук запираемого засова и скрежет ключа в замке и остался наедине с собой, душу его вдруг пронзило чувство безнадёжного одиночества, которое смешивалось с ощущением самой жуткой несправедливости, свершившейся с ним. Душевные силы вдруг оставили юношу, он бросился на незамысловатое ложе и горько зарыдал.
Простим ему, однако, эту слабость – любой человек, оказавшийся на его месте, едва ли сохранил бы бодрый дух. После того, как первые импульсивные приступы отчаяния прошли и рассудок его несколько успокоился, узник попробовал трезво обдумать своё положение. В одном у него не было сомнения: кто-то специально подстроил его встречу с Томасом Толботом, чтобы отравить несчастного юношу. Ронан мог допустить, что у Толбота, вовлечённого в хитросплетение политических интриг, вероятно, существовали тайные враги, жаждавшие его гибели. Но вот зачем злодеям понадобилось чернить его, Ронана, рисковать и подбрасывать лживые улики, так чтобы подозрение пало именно на него, этого юноша понять был не в силах. Разумеется, ему и в голову не приходило связывать появление Фергала с этим страшным происшествием. «Эх, посоветоваться бы с сэром Хью. Уж он порядки местные хорошо знает. Может статься, и надоумил бы как мне быть, – думал Ронан. – Но ведь ему даже и неведомо, в какую переделку я попал».
Юноша вздохнул и решил оставить тяжкие мысли на утро. Он вспомнил об Алисе, и ему сразу стало всё казаться не таким уж мрачным и безотрадным, как будто луч солнца прорвался сквозь тяжёлые тучи. Конечно, последние дни девушка была сдержанней обычного и, казалось, пыталась избегать его общества. Но искушённый в житейских делах Гудинаф, который со дня своей трагической оплошности на Мосту старался всяческими способами загладить вину и быть полезным Ронану, давеча шепнул ему как бы между прочим, что «мистрис Алиса, видать, поняла, как высоко в поднебесье взлетело её сердечко, вот и испугалась глупая пташка высоты и хочет от всего за облаками спрятаться». Романтичные чувства юноши позволили ему тогда без труда уловить тайный смысл слов Дженкина.
У Ронана, если читатель помнит сцену обыска в таверне, при себе было несколько листков бумаги – какие-то старые письма и записки, которые он по странной привычке предпочитал хранить в карманах своего камзола. Один из этих листков был ему особенно дорог, потому что испещрён был написанными рукой Алисы буковками, когда Ронан учил её пользоваться таблицей Кардано, которую он вырезал из пергамента и тоже держал в кармане. Пока ещё не совсем стемнело и слабый свет просачивался в окошко, юноше захотелось взглянуть на любезный его сердцу почерк. Он полез в карман, и вместе с таблицей и цидулкой Алисы выпало какое-то старое письмо. Любопытства ради Ронан развернул его и с добрыми чувствами обнаружил, что то было письмецо его верного Эндри. Какое-то смутное воспоминание о его сути заставило юношу открыть и перечитать письмецо, к содержанию которого он теперь отнёсся более внимательно. На этот раз, после трагического происшествия в Таверне Дьявола от внимания Ронана не ускользнуло некое сходство этих двух случаев, и он отнёсся более серьёзно к подозрениям своего молодого слуги. Сразу же пришла на память встреча дождливым вечером в Саутворке с человеком, похожим на Фергала. И тут же у Ронана возникло зловещее предположение, что человек, покушавшийся на Джорджа Уилаби был не кто иной как кухарь из монастыря Пейсли, или бывший кухарь – поскольку он теперь в Англии, а не в Пейсли и, по всей вероятности, преследует его, Ронана.
«А что, если этот хитрый монах, который в монастыре и не скрывал недоброжелательного ко мне отношения, выполняет волю регента и хочет погубить меня? – размышлял Ронан. – Но, если это так, почему тогда он отравил Томаса, а не меня? Ведь я вполне могу оправдаться перед судом, к чему я с божьей помощью приложу все силы, и тогда ему от сегодняшнего злодеяния будет мало проку».
Долго ещё узник не мог заснуть в новых своих «покоях», терзаемый страшными догадками и предположениями, из которых он пытался соткать целостную картину. Однако, загадка, почему погиб Томас Толбот, а не он, которую Ронан никак не мог разрешить, оставалась единственным слабым местом в его химерической гипотезе…
Как это ни странно, но тот же самый вопрос в эту минуту мучил и Фергала. Когда все события прошедшего дня, который потребовал от них необыкновенного проворства и изворотливости, остались позади, Мастер Ласси вновь встретился со своим сподручным после того, как Арчи проследил, в какую тюрьму заключили Ронана.
– Куда его отвели? – хмуро спросил хозяин, когда его помощник появился под сводом старого полуразрушенного склепа.
– Туда, откуда обычно есть две дороги: одна ведёт на Смитфилд, а другая – в Тайберн, – ответил Арчи. – Хотя, по сути обе заканчиваются в воздухе: либо ты будешь болтаться с верёвочным ожерельем на шее, или же в виде пепла носиться над землёй. Разве ж это не то, чего вы желали, Мастер Ласси?
– Мой господин хотел, чтоб этот молодец отправился в преисподнюю сегодня же, mile diabhlan! – сказал Фергал. – Но из-за какого-то чёртового недоразумения вместо него откинул копыта твой братец Толбот. А по твоей плутовской рожице можно судить, что ты ничуть не огорчён такой переменой блюд на трапезе у Люцифера.
– Так, из-за него же нас с мамашей из замка выгнали, – напомнил Арчи. – А потому мне этого негодяя ничуть не жаль. Я, может быть, даже и рад, что он получил по заслугам. Папаша у нас один, а маманя моя даже красивее его была. Так почему ему при дворе принцесс в серебре и золоте щеголять, а мне на Вестчип в лохмотьях за горбушку хлеба и мясные обрезки шеей рисковать? Ну, разве ж это справедливо, Мастер Ласси?
– Здесь я с тобой, бесёнок, полностью согласен, чёрт возьми. Чем мы хуже их? – с неожиданным пылом сказал Фергал, вдруг осёкся и добавил: – Что верно, то верно. И с несправедливостью этой подобает бороться всеми средствами и ничем не гнушаться. Уразумел?
– А то как же! Уж лучше некуда как уразумел, – торжествующе ответил Арчи, – У меня ж есть у кого поучиться!
– Могу поклясться белладонной, что я вылил нектар смерти аккурат в кубок Лангдэйла. Ума не приложу, каким странным образом он вдруг очутился в бокале Толбота и испарился из чаши его дружка, – дивился и досадовал Фергал. – Может, ты что заприметил, а, дьяволёнок?
– Не, Мастер Ласси, – ответил Арчи, простодушно хлопая глазами. – После того, как ваши чудные угольки закадили в уголочке и все бросились кто куда, я собственными глазами видел, как вы плеснули из склянки в самый бокал этого шотландца. Но, видать, в Таверне Дьявола не только вы с моей помощью дьявольские шутки устраиваете, а и сам сатана поглумиться не прочь.
– Верно, на стороне этого молодчика сам хозяин преисподней! – вне себя от досады выпалил Фергал. – Хорошо хоть, я смекнул план поменять, когда понял, что ошибочка вышла с кубками, а у тебя, бесёнок, так ловко получилось письмо у Толбота вытащить, покуда во время мнимого пожара эти олухи на улице толпились, да и потом, когда он окочурился, пузырёк под шапку подложить… Кстати сказать, бесёнок, то письмо ты мне вороти. Чем чёрт не шутит, может, оно мне ещё и сгодиться.
– Так я ж когда-то этим себе на житьё зарабатывал, ручки в ножки, сумочки-кошёлки, – с гордостью сказал Арчи, вручая письмо своему хозяину. – Да вы не полошитесь, Мастер Ласси. Ручаюсь, весна ещё не закончится, как этот шотландец составит компанию моему братцу там, куда мало кто норовит попасть по собственной воле.
– Чересчур уж везёт этому Лангдэйлу, mile diabhlan! Этот петушок может и со сковородки упорхнуть, – задумчиво молвил Фергал и велел своему сподручнику, дабы знать, как продвигается дело, каждый божий день крутиться около Ньюгейтской тюрьмы и стоявшего рядом здания, в котором размещались конторы лондонских шерифов и где проходили заседания уголовного суда Лондона.
– Уж от меня эта пташка не упорхнёт, – пообещал Арчи, засовывая в карман полученное от Мастера Ласси вознаграждение в виде целой кроны за своё проворство.
Когда они расстались, юнец тут же припустился к своим старшим дружкам, которые давно уже заприметили, что у Арчи стали появляться деньжата, и исподволь вовлекали его в карточные игры, благодаря чему деньги у юнца долго не задерживались. Последнее время ему не часто выдавались свободные вечера, а потому распираемый от самодовольствия Арчи сразу же направился в одну низкопробную харчевню в Вонючем переулке, ставшую притоном для разного рода сомнительных личностей, которые собирались там вечером чтобы потратить добытые днём денежки на выпивку, закуску и азартные игры.
Юнец топал по тёмным улочкам и наслаждался мыслию о том, как нынче он разом Вильяму Ласси и угодил, – помогши обвинить Лангдэйла в отравлении, – за что получил от него приличное воздаяние, и обвёл вокруг пальца, незаметно в суматохе поменяв кубки местами – уж после того, как вино было отравлено – и тем самым отомстив чванливому Томасу Толботу.
Мастер Ласси также долго не спал той ночью, всё размышляя о чудовищном везении Ронана, которому опять-таки удалось уцелеть. Каждый раз ему, Фергалу, приходилось призывать на помощь всю свою вековую затаённую обиду, дабы собраться с духом, придушить природные чувства и нанести ещё один удар в надежде, что молодой Лангдэйл, – причина его сомнений и малодушия, – раз и навсегда покинет этот мир и развяжет ему руки для достижения заветной цели.
Единственная мысль утешала Фергала: теперь Ронан упрятан в тюрьму за надёжный замок, и только чудо может помочь ему избежать верёвки, которой заслуживает всякий убийца и отравитель.
Глава LIII
Переполох
Вечером за ужином в доме купца Габриеля Уилаби кроме хозяина за столом сидели сэр Хью и Алиса. Место, предназначенное для Ронана, оставалось пустым, что немало всех озадачило.
– Дорогой кузен, куда ты подевал нашего юного друга? – спросил негоциант. – Я надеюсь, у него есть веские причины нарушать установленный в моём доме порядок.
– Клянусь честью. Габриель, я меньше бы поразился отсутствию боевого стяга над идущей на врага королевской ратью, чем отсутствию за вечерней трапезой дюжего юноши, обладающего отменным аппетитом, – ответствовал командор. – Я, право, с утра его не видел. Может быть, Алисе что-нибудь известно о пропавшем молодом человеке и его планах на день.
– Дядюшка, в последнее время мы мало общаемся, – сказала девушка, чуть смутившись от подобного к ней вопроса. – Однако, за обедом он изволил присутствовать.
Тогда позвали старину Гриффина и Дженкина Гудинафа, которые в это время трапезничали на кухне.
Старый дворецкий – польстим его тщеславию и позволим себе присвоить ему такую должность – заявил, что молодой джентльмен покинул дом в три часа пополудни и ничего при этом не сообщил о своих намерениях. Ординарец сэра Хью знал ещё меньше и, хитро поглядывая на Алису, предположил:
– С вашего позволения и говоря начистоту, я не удивлюсь, ежели вдруг выяснится, что Мастер Лангдэйл скучной компании из двух озабоченных делами степенных мужей и не менее сухой и чопорной девицы предпочёл более весёлое общество или нашёл себе молодую зазнобу, что для его возраста и пылкой натуры кажется мне вполне естественным.
Командор с негоциантом переглянулись – неужели они и в самом деле становятся старыми и скучными в глазах молодых людей? – и, поняв, о чём подумал каждый из них, нарочито улыбнулись друг другу. Более странным было поведение Алисы: она резко встала и, сославшись на головную боль – действительно, она была ужасно бледна, – быстро покинула гостиную…
Утром командор поинтересовался у Дженкина, вернулся ли Ронан и как этот неучтивый мальчишка собирается объяснить своё отсутствие. На это ординарец с некоторым смущением на лице ответил, что молодой джентльмен ещё не появился. Верно, не желая ночным приходом потревожить сон обитателей дома, неуверенно добавил Гудинаф. Это было весьма не похоже на Ронана, и, будучи человеком решительным и нетерпящим неясностей, Хью Уилаби тут же велел своему ординарцу отправиться в город и выяснить, не случилось ли каких происшествий за ночь. Гудинаф с радостью взялся за это поручение, потому как и сам хотел было предложить себя для подобной миссии.
Дженкин достаточно хорошо знал город, в котором родился, а потому сразу после Моста направился на ближайшую рыночную площадь, а именно на Вестчип (хотя это была скорее рыночная улица), ибо прекрасно сознавал, где можно услышать последние новости и сплетни. И он не ошибся, так как все на Вестчип только и говорили что о вчерашнем происшествии в Таверне Дьявола и жалели молодого Томаса Толбота, сына графа Шрусбери, злодейски отравленного своим сотрапезником. Дженкину тут же пришёл на память интерес, несколько дней назад проявленный Ронаном к человеку с таким именем. Гудинаф ужаснулся своему предположению и бегом припустился к Ньюгейтским Воротам, где находилось здание Олд-Бейли и располагались лондонские шерифы. Там конторский письмоводитель и подтвердил страшную догадку Дженкина, хотя и отказался рассказывать все подробности дела.
Излишне говорить, какие сумятицу, недоумение и ужас вызвало это известие в доме купца Габриеля Уилаби. Но все были едины в одном: Ронан не мог совершить подобного злодейского поступка, а значит, произошла какая-то страшная ошибка, и нужно идти к лорду-мэру и шерифам и выручать юношу из беды.
Командор метал гром и молнии; он негодовал на Ронана за то, что тот вновь умудрился вляпаться в могущую закончиться весьма печально историю; одновременно сэр Хью досадовал и на себя за то, что взял юношу в Лондон, а не оставил в Рисли предаваться весёлому безделью в компании Джорджа; в то же время он велел Дженкину вычистить и придать лоска своему далеко уже не новому парадному одеянию, в котором он намеревался в тот же день предстать перед шерифами, а то и перед лордом-мэром, ежели потребуется.
Почтенный негоциант мало чем внешне выдавал тревогу за судьбу своего молодого гостя, разве что, казалось, ещё более поседел и ссутулился. Его дочка, в красивом личике которой не осталось и кровинки, как обычно занималась делами по дому, но в каком-то странном остервенении и беспамятстве, не по делу браня прислугу и забывая подчас, зачем она оказалась в той или иной комнате.
Однажды в ходе такого хаотичного блуждания по дому Алиса столкнулась в полутёмном коридоре с клерком своего отца. Оба бледные как смерть они поначалу отшатнулись друг от друга, но быстро взяли себя в руки и поздоровались с подобающей учтивостью. Мастер Бернард уже знал от своего патрона, какая беда случилась с Ронаном Лангдэйлом. Клерк обладал достаточно хорошей памятью, чтобы позабыть о письме, составленном им для человека по имени Вильям Ласси, но он никак не ожидал, что в итоге всё закончится таким страшным образом – можно сказать, преступлением, убийством невинного человека из знатнейшей семьи. Подумать только, и он, такой умный, одарённый к счетоводству, честный клерк с блестящим будущим, был причастен к гибели сына графа Шрусбери. Эта мысль вселяла неимоверный ужас в Мастера Бернарда. А потому и бледность его лица объяснялась сугубо страхом, но не за судьбу несчастного шотландца, а за свою собственную участь, если правда – не дай боже! – выплывет наружу.
– Ах, какое несчастье обрушилось на наш дом, мистрис Алиса! – горестно сказал он. – Какое ужасное несчастье!
– Не на ваш дом, Мастер Бернард, а на дом моего батюшки и мой, – поправила Алиса с неожиданной резкостью.
– Ну, я имел в виду, что я не чужой здесь человек, – неуверенно сказал клерк, – и возможно, когда-нибудь… – он в нерешительности замялся.
– Не понимаю, что вы хотите этим сказать, – фыркнула девушка и быстро ушла, оставив бедного Мастера Бернарда в полном недоумении и растерянности…
Тем временем командор в сопровождении верного ординарца, пройдя под аркой Ньюгейтских Ворот и бросив тяжёлый взгляд на узилище, прибыл к конторе шерифов и палате уголовного суда, которые располагались поблизости от тюрьмы и в одном здании, имевшим звучное и пугающее название Олд-Бейли.
В конторе в этот момент присутствовал лишь один из двух лондонских шерифов. И к счастью для Уилаби это был не кто иной как Вильям Джерард, хорошо знакомый командору, поскольку он являлся одним из директоров компании «Купцы-предприниматели и т.д.»; в одной из предыдущих глав у читателя была возможность кратко познакомиться с этим человеком.
Шериф искренне обрадовался сэру Хью, хотя и был удивлён как его приходом, так и хмурым выражением лица командора. Мастер Джерард поинтересовался, чем он обязан удовольствию лицезреть сэра Хью в своей конторе, и, узнав, что того привело, сочувственно покачал головой, попросил рассказать ему про Ронана Лангдэйла и внимательно выслушал историю юного шотландца.
– Поверьте, мой дорогой командор, мне всей душой жаль, что с вашим подопечным приключилась такая беда, – сказал шериф. – Насколько я уразумел из вашего рассказа, сей образованный и талантливый молодой человек, увлекаемый романтичными мечтами, изъявил горячее желание принять участие в нашем предприятии в качестве простого моряка.
– Увлекаемый мечтами! – возмутился Уилаби. – Правильнее сказать, захваченный в плен безрассудным мальчишеством. Вот эти его опрометчивость и наивность и послужили причиной того, что он завёл своё бренное тело в западню, словно недальновидный полководец свою армию – в окружение. И теперь мне приходится ломать голову, как спасти его от верёвки.
– И дело это будет для вас весьма трудное, сэр Хью, – сочувственно сказал шериф. – Вы сами в этом убедитесь, ежели прочтёте доклад магистрата Голдсмита с Флит-стрит. – Мастер Джерард протянул командор рапорт почтенного Оливера Голдсмита.
Уилаби внимательно изучил документ и пришёл в неописуемый ужас от простоты и очевидности доказательств и улик против Ронана.
– Что за дьявольские проделки! – воскликнул командор. – Я надеюсь, что хоть вы, достопочтенный шериф, осознаёте всю ложность обвинения. Клянусь головой, за всем этим делом кроется жестоко и ловко замышленный обман!
– Увы, сэр Хью, моя должность не позволяет мне руководствоваться собственными чувствами и суждениями, – ответил Вильям Джерард. – Хотя мне и симпатичен этот Ронан Лангдэйл – такой, как вы его описали, – но здесь я представляю закон и обязан следить, чтобы все его нарушения, особенно такие тяжкие как убийства, были зафиксированы, а предполагаемые преступники заключены в тюрьму и предстали перед уголовным судом и почтенными присяжными.
– Мастер Джерард, э…, а нельзя ли как-нибудь замять это дело? – неуверенно спросил командор и с явным смущением.
– Как! И это говорите мне вы, сэр Хью, человек чести и безупречной репутации, славный своими мужеством и отвагой, человек, коему мы вверили судьбу нашего предприятия! – изумлённо и даже с некоторым неудовольствием воскликнул почтенный шериф. – Верно, вы тоже лишились рассудка. Слава богу, что никто кроме меня вас не слышал. Вы должны понимать, дорогой сэр Хью, что это совершенно невозможно. К тому же дело уже получило широкую огласку, и утром у меня побывал не кто иной как Джордж Толбот, брат убиенного. Он пылал гневом и клял на чём свет стоит подлого убийцу – извините, сэр, но именно за такового он принимает вашего подопечного. Этот будущий граф имел наглость требовать от меня преступить закон и немедленно повесить отравителя, не дожидаясь суда, так как по его рассуждению свидетельства вины Лангдэйла более чем неоспоримы.
– Да-да, Мастер Джерард, вы совершенно правы, – удручённо молвил командор. – Я совсем потерял голову из-за этого мальчишки и дьявольски ошарашен страшным обвинением против него. Но клянусь честью, он не совершал этого подлого злодейства!
– Тем не менее, свидетельство очевидца и найденная улика говорят о противном, – неохотно возразил шериф.
– Но что же мне делать и как раскрыть подлый заговор? – почти взмолился командор. – О, Господи, укажи мне правильный путь!
Вильям Джерард, видя такое отчаяние сэра Хью, помрачнел лицом. Он никак не ожидал от командора, прошедшего через горнила войн и видевшего множество смертей и страданий, – так вот, он никак не ожидал проявления столь растроганных чувств в отношении какого-то юнца, хотя и признавался себе, что дело Ронана Лангдэйла выглядело весьма туманно и юношу, похоже, оклеветали.
– Всё, чем я могу помочь вам, сэр Хью, – сказал шериф, – так это посоветовать вашему подопечному набраться мужества и терпения и попытаться припомнить все факты, имеющие хоть какое-либо отношение к делу и могущие пролить свет на истинную суть преступления и отыскать настоящего злоумышленника. А сейчас я пошлю нарочного к лорду-мэру, чтобы подписать пропуск, дающий вам право в любой день беспрепятственно посещать Ронана Лангдэйла в Ньюгейтской тюрьме.
Когда посыльный вернулся от мэра, Уилаби поблагодарил шерифа и тут же направился в высившуюся рядом тюрьму.
Пёс Тернки прочёл подписанный лордом-мэром пропуск, пробормотал, что он не сомневался в наличии у заключённого богатых покровителей, сделав акцент на слове богатых, и провёл зажавшего нос платком командора в камеру Ронана.
При виде сэра Хью юноша вскочил на ноги и хотел было броситься к своему покровителю, но тяжёлые кандалы мешали ему двигаться, а потому узник лишь горестно развёл руками – насколько оковы на них позволяли это сделать. Уилаби ужаснулся, увидав Ронана, вчера ещё бодрого, весёлого и вольного в своих действиях, а ныне скованного цепями, с тяжёлой гирей на ногах, и все слова укоризны, приготовленные им для юноши, так и остались несказанными. Когда тюремщик захлопнул дверь за визитёром, Уилаби подошёл и обнял Ронана.
– Ну, и каким же ветром занесло тебя в эту зловонную клоаку? – наигранно бодрым голосом спросил командор.
И Ронану пришлось рассказать сэру Хью обо всём, начиная с письма от Томаса Толбота. Юноша отнюдь не выглядел испуганным и пытался найти в себе силы держаться бодро. Он поинтересовался, какое впечатление произвело его исчезновение на негоцианта и его дочку, и, услышав скупой ответ, что те были весьма обеспокоены, попросил прощение за то, что стал причиной таких волнений и хлопот и что он не посоветовался со своим благодетелем перед тем как принять предложение Толбота и отправиться на встречу в Таверну Дьявола.
– Благородный человек и не мог поступить иначе, – сказал командор, – ибо в письме, по твоим словам, Томас Толбот просил держать всё в тайне. Верно, бедный юноша и не подозревал, какая беда его поджидает. Я убеждён в том, что в его смерти нет твоей вины.
Уилаби посмотрел на юношу, и в глазах его читался тревожный вопрос.
– Я не виновен в его гибели также как море невинно в том, что подул ураганный ветер, поднял огромные волны и потопил чудный корабль… Что меня ждёт, сэр Хью? – спросил Ронан.
– Надеюсь всей душой, что скорое плавание, – жизнерадостно ответил Уилаби, хотя на этой самой душе у него скребли кошки, причём, самые что ни на есть чёрные.
– По вашему разумению, мне удастся выкрутиться? – в словах юноши прозвучала надежда.
– Что побеждает на ратном поле, милый мой? – вопросом на вопрос ответил рыцарь. – Ты скажешь: численность войска, вооружение, боевая выучка, провиант и снабжение, в конце концов?
– Я полагаю, что именно так, командор, – согласился Ронан, не понимая, к чему клонит Уилаби.
– Вот и многие военачальники так судили и потом проигрывали сражения. Разумеется, всё это непомерно важно, что я перечислил, но не есть самое главное, ибо наиважнейшее, скажу я тебе, это толковая голова на плечах полководца и высокое душевное состояние войска.
– Ах, вот вы о чём, сэр Хью! – смекнул Ронан. – Но я отнюдь не намерен впадать в уныние и отчаяние. Я знаю, что ничем не запятнал своё имя, а bonorum vita vacua est metu94.
– Вот это хорошо, мой дорогой, – по-отечески тепло сказал Уилаби и передал юноше добрый совет шерифа.
– Сказать по правде, я полночи ломал над этим голову, – признался Ронан и поведал командору о своих подозрениях.
– Ну что ж, а теперь вот пораскинь мозгами, как эти смутные догадки и предположения подкрепить артиллерией в виде фактов или хотя бы намёков на них и как обнести твои умозаключения редутом, неприступным для неприятеля, – наставлял командор, понимая в глубине души, что ничто не сможет спасти Ронана, кроме его собственной смекалки и способности к рассуждению.
Бросив взгляд на более чем аскетическую обстановку в комнате узника, Уилаби покачал головой и спросил, не может ли он чем облегчить быт юноши. На это Ронан ответил, что он ещё не успел отвыкнуть от подобной меблировки, ибо камера чем-то напоминает ему монашескую келью, где он прожил много месяцев, а его ещё не совсем пустой кошель и алчность тюремщиков при желании могут снабдить его чем угодно, за исключением, увы, одного – свободы.
Командор пообещал навещать Ронана и приказным тоном потребовал держать на высоте боевой дух и возводить фортификационные сооружения своей защиты в суде. На этом они тепло простились и сэр Хью обрушил град ударов на прочную дверь, призывая тюремщика выпустить его.
Пока тюремщик вёл командора к выходу из темницы, то успел шепнуть ему, что ежели достопочтенный сэр желает, чтобы он, Тернки, главный страж в Ньюгейтской тюрьме, относился к его юному другу как к родному сыну, то недурно было бы подкрепить это благое желание парой шиллингов.
– Возьми, собака, – с презрением произнёс командор и бросил деньги под ноги тюремщику…
Глава LIV
Приготовления к суду
– Ну, бесёнок, что нового в преисподней? – поинтересовался Вильям Ласси у юнца.
Уже несколько дней Арчи ошивался вокруг Ньюгейтских Ворот и Олд-Бейли, вынюхивая и высматривая, а затем докладывая обо всём своему хозяину. Так, Фергалу стало известно, что Уилаби почти ежедневно навещает узника, а также, что в начале апреля открывается сессия лондонского уголовного суда, где будут рассматриваться дела всех угодивших в Ньюгейтскую тюрьму преступников, в том числе, к удовольствию Фергала, и Ронана Лангдэйла.
– Так это ещё не преисподняя, – с ухмылкой ответил юнец, – а лишь врата туда, которые зовутся Ньюгейтскими, вот.
– Не удерёт наш приятель оттуда, а, мошенник?
– Чтоб мне на месте провалиться, если от волкодава Тернки кто смоется, – уверил Арчи. – Он всех своих постояльцев железными ожерельями одаривает. И не скупится Пёс – по несколько стоунов на жильца навешивает.
– А что в Олд-Бейли? Скоро ли судьи с присяжными в одно стадо соберутся? – с нетерпением спросил Мастер Ласси.
– Да уж через денёк начнётся у них шабаш, который они сессией кличут. И присяжных нынче в ратуше выбрали, по-всегдашнему злючих как чертей. Одного ещё, сказывают, подыскать осталось – шотландца какого-нибудь добропорядочного. Вот умора-то! – и Арчи захихикал гнусным смешком.
– Какого дьявола им шотландец-то понадобился? – проворчал Фергал.
– Да толкуют, что по закону, якобы, чтоб судить какого иноземца, надобно в отару присяжных затесать одну овечку той же породы что и преступник. Видать, для нашего Лангдэйла понадобился.
– То бишь, ты хочешь сказать, чтобы судить шотландца им нужен присяжный-шотландец? Mile diabhlan! Что за чертовские порядки! – пришёл в негодование Фергал. – Мало, что с убийцами присяжные и судьи как няньки вожжаются, так ещё и соотечественника-присяжного для убийц подавай!
– Это вы верно толкуете, Мастер Ласси, – поддакнул юнец. – Этот чертовский закон нам может всё дело испоганить, как самая низкая карта в раскладе всю игру портит.
– Это почему же? – насторожился Фергал.
– Да ведь сами посудите, хозяин. Где ж тута взяться такому шотландцу, чтоб в присяжные подходил? – ответил Арчи. – Сыскать добропорядочного шотландца в Лондоне то же самое, что наткнуться на непорочную девицу в борделе, ха-ха-ха. А впрочем, может и хватит мозгов у шерифов, или дьявол их надоумит, отыскать какого-нибудь гадкого шотландца и только на один денёк его в присяжные посадить, когда нашего подопечного будут судить. А? Вот и выходит, что петлю на шее одного подлого шотландца можно затянуть лишь с помощью другого мерзопакостного шотландца. – И Арчи зашёлся глупым смешком, довольный своим остроумием…
На следующее утро Фергал вошёл в здание Олд-Бейли и заявил сидевшему за конторкой письмоводителю, что он прослышал о нужде в присяжном-шотландце и что, как подданный шотландской короны и поборник правосудия, он, Вильям Ласси, хочет предложить свои услуги властям славного города Лондона, дабы все преступники, будь они из Шотландии или хоть из Персии, понесли суровое наказание. Его тут же провели в комнату, где восседал уже знакомый нам шериф Вильям Джерард. С заискивающей улыбкой Фергал повторил своё добросердечное предложение, изображая при этом сильный шотландский акцент, что, разумеется, было для него пустяковым делом.
Шериф оглядел претендента на должность присяжного заседателя. Несмотря на приличное платье, добродушный взгляд и возвышенные фразы, что-то в облике этого Вильяма Ласси насторожило шерифа. К тому же Мастер Джерард, вопреки своей должности, надеялся, что не отыщется шотландца, готового стать присяжным в криминальном суде Лондона, и его отсутствие предоставит возможность подопечному сэра Хью, если и не лучше подготовиться к суду, найти доводы в свою защиту и попытаться оправдаться, то, по крайней мере, продлит его жизнь на два-три месяца, до следующей судебной сессии.
– А чем вы, сэр, докажете, что являетесь подданным шотландской короны? – нахмурившись спросил Мастер Джерард.
Фергал, уповая на слова Арчи, вовсе не ожидал такого неприязненного приёма.
– Достопочтенный шериф, у меня есть документ, – заявил он, доставая из-за пазухи какой-то клочок бумаги, затем о чём-то подумав, вдруг спрятал его обратно. – Впрочем, прошу меня извинить, сэр. Я не могу его вам показать, это очень личное… Но в Лондоне есть один человек, который год назад врачевал шотландского примаса…
– При чём здесь какой-то лекарь, Мастер Ласси? – раздражённо перебил шериф. – Если вы желаете сказать, что он тоже шотландский подданный, то приведите его ко мне!
– Прошу прощения, ваша милость, но дело в том, что я тоже долгое время, будучи отчасти монастырским инфирмарием, лечил архиепископа своими травами и настоями, а также растираниями и примочками, – несмело сказал Фергал. – Я могу назвать некоторые приметные места на теле шотландского примаса, которые могут быть ведомы лишь тем, кто немало хлопотал над телесами Сент-Эндрюса. И ежели этот человек подтвердит названные мною приметы, то поверите ли вы, что я прибыл из Шотландии?
– Любопытнейший способ обоснования своей национальности, нечего сказать, – заметил шериф. – Ну, и как же зовут сию персону и где её найти?
– О, сэр, нет ничего проще, – охотно ответил Фергал. – С вашего позволения, это итальянец по имени синьор Кардано, и проживает он во дворце Элай. За ним можно послать нарочного.
Шерифу очень хотелось бы отказать Вильяму Ласси в причислении того к сонму присяжных, но против такого предложения возразить ему было нечем, и оставалось лишь уповать на то, что почтенный итальянский лекарь не соизволит тащиться в столь невесёлое местечко как уголовный суд города Лондона.
Поскольку от Ньюгейтских Ворот до дворца Элай было рукой подать, то, написав короткую грамотку и поставив жирную шерифскую печать, Вильям Джерард отправил с этой бумагой своего письмоводителя, толкового молодого человека, неплохо владевшего латынью и кой какими другими языками. На удивление тот вернулся уже через полчаса, а вместе с ним пришёл и сам синьор Кардано, облачённый в дорожный костюм.
Итальянец надменно глянул на присутствующих, что-то сказал молодому писарю и тот передал его слова так:
– Синьор Кардано выражает огромное возмущение, что его, величайшего из учёных, которому покровительствуют всевышние силы на небесах и могущественные царедворцы на земле, вызывают в уголовный суд для каких-то там показаний. У почтенного синьора слишком мало времени, ибо повозка с его багажом уже отправилась на пристань, где его ждёт ялик. Синьор к завтрашнему вечеру должен быть в Грейвсенде и подняться на борт судна. Он соизволил зайти сюда лишь потому, что ему было по пути.
Шериф, опять-таки через письмоводителя, объяснил в чём дело. Кардано снисходительно кивнул головой, после чего к нему приблизился Фергал и что-то негромко сказал. Когда смущённый толмач перевёл сказанное, итальянец дурашливо захихикал и заверещал словно воробей, толкая в бок то Фергала, то письмоводителя.
– Синьор говорит, – сказал писарь, не в состоянии сам удержаться от улыбки, – что описание телесных достоинств шотландского архиепископа от кончика носа и до кончика хвоста соответствует действительности.
Если бы Кардано знал, что своей помощью лондонскому суду он помогает ещё туже затянуть петлю на шее юного шотландского школяра, которого он как-то ловко обыграл в кости и которому дал несколько добрых советов, то, вероятно, он не был бы так весел и необычно доброжелателен. Но, увы, он этого не знал и ко всему прочему настроение ему поднимала мысль о том, что через пару дней он покинет этот туманный и холодный остров, несколько поправивший его финансовое положение, но становившийся слишком опасным для его жизни. Простимся же на этом с именитым итальянским учёным, азартным и экстравагантным, сыгравшем свою неоднозначную роль в судьбе Ронана Лангдэйла, и великодушно позволим ему направить свой путь в родную солнечную Италию…
– Достаточно ли вашей милости этого свидетельства? – с любезнейшей улыбкой спросил Фергал у шерифа.
– А почему же, сэр, вы оставили ваше иночество и очутились в английской столице? – не хотел сдаваться пытливый Мастер Джерард и строго добавил: – Уж не для того ли, чтобы исподволь искушать папистскими лжеучениями честных горожан, вместе с вашими настоями и зельями вливая им яд недовольства лондонскими властями, нашим благочестивым монархом и сея среди них смуту и роптание?
Однако Фергалу очень хотелось стать присяжным-шотландцем, чтобы суд над Ронаном Лангдэйлом свершился как можно скорее и без проволочек. А потому его ничуть не смутила и не ввела в замешательство такая открытая неприязнь шерифа, и со смиренным лицом и покорным голосом бывший монах ответил:
– Господь ниспослал на меня прозрение и велел оставить монастырь, этот рассадник праздности, блуда и прочих прегрешений, и повелел идти и лечить верных ему благочестивых жителей славного города Лондона.
После такого обезоруживающего ответа у почтенного лондонского шерифа не осталось ни малейшей зацепки, чтобы отказаться от услуг столь навязчивого лекаря из Шотландии, и он сообщил добродушно улыбавшемуся Мастеру Ласси, в который день тому надлежит явиться…
Надо сказать, что и Ронан не сидел сложа руки в ожидании, пока справедливые присяжные вынесут свой милосердный вердикт, милосердие которого заключалось, как правило, лишь в количестве дней от суда до исполнение приговора, отпускаемых преступнику (или считавшемся таковым) на то, чтобы с помощью молитв и покаяния или же, наоборот, проклятий и ругательств подготовить свои душу и тело к расставанию друг с другом на веки вечные.
Юноша мерил неуклюжими шагами свою маленькую камеру и одновременно предавался размышлениям, что было очень даже непросто в силу тяжести оков на ногах (двухпенсовой щедрой услуги от Тернки) и серьёзности его положения (благодаря дармовому благодеянию неизвестных доброжелателей).
Но если передвигаться по камере худо-бедно было возможно – к тому же это являлось не обязательной процедурой, а скорее неплохим упражнением для мышц, – то вот с выискиванием убедительных доводов в пользу своей невиновности дело у Ронана двигалось гораздо труднее, нежели его ноги.
Как он мог убедить присяжных, что на встречу пришёл по приглашению Томаса Толбота, если послание от него сжёг в камине, а подмётное письмо странным образом исчезло из карманов Толбота? Вероятно, эта лживая эпистула была выкрадена ловким воришкой во время суматохи в таверне, точно так же, как был подброшен пузырёк под его шапку, полагал Ронан; и здесь, как мы уже знаем, он попал в самую точку.
Но зачем злодеям понадобилось убивать Толбота и подвергать себя лишнему риску, подбрасывая склянку и выкрадывая письмо, так, чтобы обвинение пало именно на Ронана? Если злоумышленники замышляли расправиться с Томасом, то не проще было бы напасть на него где-нибудь на тёмной улице или малолюдной дороге? А если они жаждали его, Ронана, смерти, то почему им было попросту не отравить его, а не Томаса?
Юноша вновь вспоминал про Фергала и никак не мог отделаться от навязчивой мысли, что ко всем происходящим с ним неприятностям каким-то непонятным образом причастна эта персона. Ронан вновь и вновь перечитывал письмецо Эндри, вспоминал свою встречу в Саутворке с похожим на монаха из Пейсли человеком. Перед его мысленным взором не раз представало искажённое гримасой боли удивлённое лицо Томаса Толбота, и острое чувство жалости пронзало его сердце. Одновременно в его душе поднималась волна ненависти к подлому отравителю, от рук которого погиб такой весёлый и жизнерадостный юноша. Неожиданно, вызванная этой страшной картиной смерти, на память Ронана пришла другая, очень похожая на эту сцена, когда ни с того ни с сего вдруг скончался такой же молодой, жизнелюбивый человек – монах по имени Эмилиан, – умер в страшных мучениях в монастырском дормитории в Пейсли.
Пока его пытливый ум тщился разобраться в хитросплетении этих страшных событий вокруг него, сам Ронан осознавал, что ему, в первую очередь, следовало бы побеспокоиться о своей собственной судьбе, тревога за которую читалась и во взгляде ежедневно навещавшего его командора, и в коротеньких ободряющих записках, которые тот приносил от Алисы. Чтобы показать своё жизнелюбие и оптимизм, Ронан посылал девушке ответы, зашифрованные с помощью решётки Кардано, зная, что у неё есть подаренная им копия таблицы. И она, в свою очередь, обладая весёлым и озорливым характером, стала отвечать ему такими же непонятными постороннему глазу сообщениями.
Хотя посещения сэра Хью и обмен игривыми записками с Алисой скрашивали томительные дни одиночества и отвлекали его мысли от тягостных размышлений, всё же главной заботой любого человека, оказавшегося в подобной ситуации, было бы отыскание способа избежать печальной участи, ожидавшей большинство «постояльцев» такого почтеннейшего заведения как Ньюгейтская тюрьма. Чувство жестокой несправедливости и сознание своей полной невиновности подогревали пыл и желание Ронана спасти собственную жизнь от незаслуженной кары и оправдать своё честное имя. Но, увы, в голову ему не приходило ничего, кроме как честно рассказать историю своего краткого знакомства с молодым Толботом, попытаться убедить присяжных и судей в установившихся за тот час приятельских, даже дружеских отношениях между ним и Томасом, в отсутствии причин желать зла погибшему и настаивать на фальшивости подброшенных улик.
Когда Ронан поделился с командором всем, на чём он надеялся построить свою защиту, сэр Хью нахмурился, помрачнел и сказал, что в этом случае юноше стоило бы обладать красноречием почище, нежели у Демосфена, дабы донести до твердолобых ремесленников и торговцев, избираемых как правило в присяжные и наперёд настроенных против обвиняемых, – так вот, дабы донести до сей публики его, Ронана, неспособность и отвращение ко всякого рода злодействам, а уж тем более убийству.
– У меня, весьма вероятно, и недостаёт талантов к ораторству и сладкоречию, – твёрдо произнёс юноша, – зато мне известно главное – а именно, что я неповинен в смерти Томаса Толбота. И сей факт придаст моим словам силы и убедительности.
– Желал бы я, чтоб так оно и случилось, – задумчиво произнёс Уилаби, питая в душе мало надежды на добросердечие судей и присяжных, а если говорить по правде, то и вовсе не надеясь ни на их справедливость, ни на их милосердие.
Действительно, ведь с одной стороны стояло семейство могущественного графа Шрусбери, опечаленное гибелью своего отпрыска и горящее желанием расквитаться за кровную обиду, а с другой – никому неизвестный школяр, к тому же шотландец, не имеющий здесь влиятельных друзей. Поэтому можно понять, почему с каждым днём командору становилось всё труднее являться к Ронану с бравурным и жизнерадостным видом. Мысли и заботы, связанные с подготовкой плавания, теснились в его голове с раздумьями о том, как спасти сына барона Бакьюхейда. Тот же, казалось, неплохо усвоил урок сэра Хью, напрочь забыв о своём печальном положении и с живым интересом расспрашивал командора про снаряжение кораблей и приготовление к путешествию, как будто это было теперь единственной волновавшей его темой.
В отличие от своего подопечного Хью Уилаби ожидал суда с недобрыми предчувствиями. Его хмурый вид и неразговорчивость заставляли Алису трепетать от страха, несмотря на беспечальные записки от узника. И чем ближе становился этот роковой день, тем мрачнее становился командор и бледнее его племянница.
Наконец, апрельская сессия уголовного суда города Лондона открылась, и за первые несколько дней в Олд-Бейли уже было вынесено две дюжины смертных приговоров…
Глава LV
Среди преступников
Как правило, во время судебной сессии никаких заблаговременных расписаний со списками подсудимых не составлялось. Но ввиду того, что случай Ронана Лангдэйла являлся особенным, потому как затрагивал могущественное семейство Толботов и требовал наличия среди присяжных шотландца, для его рассмотрения была назначена точная дата. Именно в этот день Фергал явился в Олд-Бейли, дабы занять своё место среди присяжных. Его юный сподручник как обычно ошивался на пятачке между тюрьмой и Олд-Бейли, готовый по первому требованию появиться в суде и подтвердить свои свидетельские показания.
В то время судебная система в Англии была далека от совершенства, от чего больше выигрывала сторона обвинения, ибо на свободе гораздо проще было собрать необходимые улики, доказательства и свидетельства для обвинения, нежели заключённому в тюрьме преступнику (или, во всяком случае, считавшемся таковым) – для своей защиты. Дело в том, что тогда ещё и в помине не было ни прокуроров, ни адвокатов, и обвинение представляла сама пострадавшая сторона (или просто зачитывался обвинительный акт), а обвиняемому приходилось самому, без чьей-либо помощи оправдываться и защищать себя перед лицом судей и присяжных. Можно было бы ещё долго и нудно рассказывать про судебную систему той эпохи, разглагольствуя о её очевидных упущениях и изъянах, но вряд ли это было бы интересно большинству читателей, за исключением, быть может, отъявленных правоведов, каковые, хочется надеяться, черпают свои знания из других, заслуживающих большего доверия источников.
В Олд-Бейли во время судебной сессии ежедневно проходило обычно около дюжины разбирательств (иногда, правда, и больше или меньше), и для удобства работы суда первую партию обвиняемых рано утром приводили из Ньюгейтской тюрьмы в здание суда и запирали там в хорошо охраняемой комнате, водя по одному в большой судебный зал, где на своих местах восседали судьи, клерки и присяжные. После небольшого перерыва, когда все приговоры были вынесены, осуждённые водворены обратно в тюремные камеры и сделаны соответствующие записи в судебных книгах, приводили другую партию узников и всё начиналось заново.
Ронан оказался в первой партии, ибо судейские не хотели заставлять сэра Джорджа Толбота, представлявшего сторону обвинения, семью Толботов, дожидаться, когда очередь дойдёт до дела об убийстве его младшего брата. Однако сей вышеупомянутый джентльмен в свой черёд счёл ниже своего достоинства выказывать чрезмерную поспешность и являться в Олд-Бейли ни свет ни заря. А посему молодому шотландцу пришлось провести три добрых часа томительного ожидания, запертым под охраной городских стражников в тесной комнатушке бок о бок с несколькими жалкого вида созданиями, также ожидавшими слушания своих дел и вынесения приговора.
– А ты на чём попался-та, дружище? – спросил примостившийся на полу напротив Ронана колодник, весь заросший волосами, из-за которых виднелись два дико сверкающих глаза. – Я-та вот старшего мастерового побил за то, что он, гнида, невзлюбил меня да самую собачью работу на мои плечи взваливал. Раз только его стукнул-та, а он взял да на месте и окочурился. Мозгляк оказался, а ещё вздумал указывать, что мне делать-та. Ну ты скажи, приятель, разве ж я повинен, что он ко мне придирался-та и что у меня такой норов несдержанный, а наперво-та, что он эдакий хилый оказался?
– Ты ещё спрашиваешь! – вмешался другой колодник, единственный из всех, лицо которого вовсе не было отмечено тенью уныния и тревоги, а наоборот, играло шебутной улыбкой. – Укокошил мастерового, и не виноват! Да покажите мне средь нас честного человека! Вон тот, хромоногий, в дом ночью вломился, пока сам хозяин в отлучке был, а слуги ленивые то ли дрыхли, то ли со страху под кровати запрятались, да серебра столового по жадности своей аж на пять фунтов уволочь вознамерился. Только так под своей ношей сгорбатился, что и дороги-то пред собой не различал. Ну, и угодил бедняга в яму и ногу поломал, тут его с поличным прочухавшиеся слуги догнали и схватили, будто свора гончих раненного зайца.
– Чёрта с два они меня взяли бы, – угрюмо сказал сидевший на единственном в камере табурете человек, ноги которого были свободны от кандалов, а отсутствия оных легко объясняли лежавшие рядом два грубо сколоченных костыля. – В переулке темно было как в могиле, да туман ещё. Провалиться мне на месте, ежели б не жил я ныне как граф. А всё яма эта проклятущая. И какой дьявол её выкопал!
– Вот рассмешил, брат висельник! – воскликнул шебутной колодник. – Да ты бы в первую же неделю спустил эти пять соверенов на выпивку, жратву и блудниц, жизнью клянусь!
– В этом месте больше пристало смертью клясться, а не жизнью, – пробурчал калека. – Иль ты надеешься этих боровов судейских в дураках оставить, раз весёлый такой?
– В том-то всё и дело, что моя шея наверняка уж в самые ближайшие денёчки с петлёй познакомится, – ответил балагур. – Ещё бы, умыкнуть полстада коров со Смитфилдского рынка, да всего за один месяц! Каков я молодец, а! Но дельце стоило того, чтобы рискнуть головой. Эх, и забавно было деревенских олухов дурачить, покуда они глотки элем в трактирах заливали. Ну и славненько же я повеселился. Будет о чём в преисподней вспомнить! А ты, голубка, что слёзы льёшь?
Эти слова были обращены к молодой женщине самого жалкого вида. Она забилась в угол камеры и тихо всхлипывала, уткнувшись в грязный передник своего потрёпанного платья. Женщина подняла заплаканное некрасивое лицо и ответила, что ей было бы не жаль расстаться с земной юдолью, с омерзительной жизнью среди воров и грабителей, но она плачет по своему ребёночку, который теперь так и не увидит белого света.
– Вот дурёха! – сказал балагур, в голосе которого послышались добрые нотки. – Ты так и заяви судьям да присяжным, что ждёшь ребёнка. Тебя сповивалки и сидельницы глянут и, ежели так и есть на самом деле, то, ручаюсь, тебя не вздёрнут, покуда не разрешишься. А коли дитя не помрёт сразу же, так тебя могут и вовсе помиловать.
Женщина перестала плакать и в глазах её засветилась надежда.
– Дай бог, чтоб её не повесили, – сказал другой арестант, с большим шрамом через всё лицо и закрывавшей пустую глазницу повязкой. – Может, и не по своей вине она до жизни воровской дошла.
– А по чей же, чёрт её побери! – сказал хромоногий. – Чтоб мне лопнуть, ежели среди нас есть хоть один невиновный.
– Э, колченогий, не суди о прочих людях по себе, – возразил одноглазый. – Меня вот тоже повесят за смертоубийство. Я как порешил их обоих, так сидел и ждал, чтобы пришли и отвели меня в тюрьму, потому как все равно мне стало, что со мной будет. Хоть вроде я и убивец, так они сами такую кару заслужили, – угрюмо добавил одноглазый.
– Это как же, приятель? – с интересом спросил балагур, будучи не прочь развлечься хорошей историей про душегубство и кровопролитие.
Человек со шрамом обвёл всех своим глазом и продолжил:
– Моя история незавидна. Пять лет назад я был молодым йоменом, статным, весёлым и беззаботным. Ну, и взял я замуж девицу одну, причём, такую красотку, каких не в каждом селении сыщешь. Мыслил я, что заживём хорошо, дети у нас народятся. Но приспичило нашему барону повоевать – от скуки, видать. Вот он и собрал на своей земле кого покрепче, вооружил и во главе маленького своего ополчения влился в английскую армию, которая в то время на севере воевала, в Шотландии. Ну, и выпало нашему отряду примкнуть к гарнизону одного чёртова форта недалеко от города Данди. Через год шотландские и французские отряды осадили нас со всех сторон и, в конце концов, ворвались в крепость. Я бился отчаянно, как и подобает честному английскому йомену, получил несколько ран и в конце упал без чувств. Очнулся я уже в плену у французов, весь израненный и покалеченный. Они меня кое-как подлатали и отправили на одну из своих галер. Вскоре слух до меня дошёл, что между нашими странами заключён мир, и я потребовал у капитана галеры, чтобы меня отпустили. Но вместо этого получил удар плетью по лицу и чуть второго глаза не лишился. С тех пор я только о том и думал, как удрать. Два года прошло, прежде чем мне удалось сбежать с галеры. Кое-как я добрался до Булони. Она хоть и отошла уже французам, но английские купцы и ремесленники там прочно обосновались. Они-то и помогли мне через Канал перебраться. Я прибрёл в своё селение и нашёл в родном доме давно погашенный очаг. Соседи сказали, что меня все давно почитали погибшим, в том числе и моя супружница, ибо война в Шотландии уж два года как закончилась, а я всё не объявлялся. Тогда я спросил, где моя жена сейчас. Соседи честно мне всё и поведали. Оказалось, что через полгода, как я ушёл с нашим бароном на войну, родился у нас сынок. Но Господь не дал ему прожить и года. Жена моя стала считать себя вдовой, потому что война закончилась, а обо мне не было ни слуха ни духа. А за месяц до моего возвращения в местной таверне останавливался проезжий лондонский торговец. Он увидел мою жену и предложил ей уехать с ним. Вот так-то бывает… Барон наш давно жил дома как ни в чём не бывало: после войны обменялись пленными и он преспокойно вернулся в свой особняк. Он обрадовался моему возвращению и предложил самые выгодные условия для аренды земельного надела. Я согласился и ответил, что прежде мне надобно вернуть свою жену, ибо я заранее её простил. Ведь не ведала она, бедняжка, размышлял я, что муж её жив был. Я выведал в таверне, как звали того купца, и отправился в Лондон. Город оказался настолько огромный, что я потратил много недель, прежде чем нашёл дом этого торговца. Я пришёл туда и попросил слугу позвать хозяйку. Когда жена вышла, то сразу поняла, кто перед ней, но сделала вид, что не узнаёт меня. Я прямо сказал, кто я и что я её прощаю. А она только рассмеялась мне в лицо. Тогда я упал на колени и умолял вернуться со мной в наше селение. Но она в ответ кликнула своего купчишку. А когда тот пришёл, она сказала ему, что какой-то наглый бродяга осмеливается её оскорблять. Представить только! Она назвала меня наглым бродягой, и это её законного-то мужа! Я прямо сказал тому купцу, что я её настоящий муж и намерен вернуть её. Но он приказал своим слугам выгнать меня вон, а коли я не уйду, то побить меня дубинками. Тут меня такое зло взяло. Какая-то туча затмила мой рассудок. Ну, ничего не соображая, я выхватил нож и умертвил их обоих.
– Эх, и нескучно же будет мне болтаться в такой доброй компании, – высказался балагур. – У одного силушки оказалось излишне и он мастерового угробил, у другого, наоборот, чересчур мало и он в яму с украденным свалился, ну, а третий из-за глупой ревности умом помешался. Впрочем, похоже, что к нам в гильдию висельников чает присоединиться ещё и молодой джентльмен, который словно воды в рот набрал. Ты что же, приятель, брезгуешь нашей честно й компанией? Не годится так, перед верёвкой, как и перед Богом все равны. Лучше поведай-ка нам про свой грешок, и, ручаюсь, сразу на душе полегчает, словно после исповеди.
Ронан понял, что обращаются к нему, заставил себя улыбнуться, хотя находил мало весёлого в пребывании среди этих людей, а уж тем более не мог разделить бесшабашности балагура, и ответил:
– Увы, сэр, мне нечего рассказывать, ибо я очутился здесь по ошибке. Меня подло оклеветали, и перед законом я ни в чём не повинен.
– Ну, ты и скажешь, приятель! – воскликнул с присвистом беззаботный колодник. – Таковые песни в судебном зале распевай, а перед собратьями законопреступниками лукавить и ангелочка из себя изображать есть самое последнее дело.
– Эх, если уж мне настоящие преступники не верят, то как мне убедить судей и присяжных в моей невиновности? – сокрушённо пробормотал юноша. – Клянусь всем святым, что есть на свете, я невиновен в том ужасном преступлении, в котором меня обвиняют!
– Хм, да твоя кобыла, видать, и в самом деле не в то стойло попала, – подумав, сказал доброхотный балагур. – Но коли так, то не вешай носа, приятель, иначе повесят тебя. Клянись и божись перед присяжными, что не совершал того, в чём тебя обговорили. Слезу пусти, а то и вовсе разрыдайся. Авось они и усомнятся… Надеюсь, зачтётся перед Богом мне добрый совет, ежели тебя оправдают.
Тут шебутной колодник затянул какую-то песню, которая, судя по первой строфе, должна была быть весёлой и разухабистой. Однако второго куплета не последовало, ибо в этот самый момент дверь в комнату открылась, и дюжий стражник увёл балагура в судебный зал. После его ухода в камере воцарилась мрачная тишина, ибо каждый понимал, что скоро решится и его судьба.
Долго им, однако, скучать не пришлось, ибо не прошло и четверти часа, как балагура привели обратно, и он тут же продолжил начатую перед уходом песню, причём, ещё более громким и радостным голосом, вероятно, собираясь провести последние дни и часы своей жизни как никогда весело и беззаботно.
Следом на суд увели молодую женщину, которая довольно долго не возвращалась – по всей видимости, суду потребовалось некоторое время, дабы удостовериться, что она ожидает ребёнка. Когда же женщина вернулась, то на некрасивом лице её гуляла нежная улыбка, и она бросала благодарные взгляды на продолжавшего распевать во всю глотку балагура. А тот, казалось, не замечая стоящей над ним девушки, тянул и тянул свои весёлые куплеты, покуда горло его не осипло от натуги и ему не пришлось дать себе передышку. Тут молодая женщина опустилась перед ним на колени, схватила его грязные руки и стала покрывать их поцелуями – так велика была благодарность этой презренной, погрязшей в пороках женщины.
– Да что ты, глупая курица! – сказал смущённый балагур. – Тебя любой ведь, кто с порядками здешними мало-мальски знаком, надоумил бы как выкрутиться.
Затем увели одноглазого ревнивца. Он ушёл со спокойным и безразличным видом. В таком же настроении и вернулся. Его не было около получаса – вероятно, судейские и присяжные тоже не прочь были послушать историю его злоключений.
Калека и волосатый колодник, каждый в свою очередь, отсутствовали недолго, ибо дела их были достаточно простыми из-за очевидности доказательств. Оба вернулись тёмные как тучи и сыпали самыми гадкими и непристойными ругательствами в адрес судейских чинов и присяжных…
Ронану порядком надоело пребывание в подобном обществе, которое вкупе с его смятенными чувствами делало ожидание просто невыносимым. Однако, как бы то ни было, ему суждено было лицезреть этих разномастных преступников и выслушать их речи до тех пор, пока он не оказался последним из партии, не побывавшим в судебном зале.
Быть может, не будь юноша столь поглощён тревожными думами в преддверие встречи с судейскими и присяжными, то в силу своего любопытства он и нашёл бы некоторый интерес, возможно, и немалый в наблюдении пороков и добродетелей, так причудливо смешавшихся в том, что мы зовём человеком, будь то преступник или праведник. Но в отличие от балагура или одноглазого, уже знавших ожидавшую их участь и потому относившихся ко всему с бесшабашной весёлостью или со спокойным безразличием, Ронан оставался молчаливо безучастным ко всему происходящему и сосредоточенно ждал, когда же стражник в дверях выкликнет его имя.
И вот, наконец, это событие произошло. После достаточно длинной паузы вслед за водворением в камеру последнего осуждённого (им был хромой калека), вызванной вероятно особыми по случаю приготовлениями в судебном зале, дверь открылась и стражник, указав алебардой в его сторону, сурово произнёс:
– Теперь ты!
Сердце Ронана бешено заколотилось. Он поднялся и, громыхая оковами, направился в судебный зал, куда вёл небольшой полутёмный коридор.
Глава L VI
Суд

Его ввели в светлый зал с высокими окнами, освещённым к тому же большим люстрой с сотнями свечей. Отделанные деревом стены лишены были каких-либо декораций, дабы не отвлекать присутствующих от главной своей цели в этом месте – отправления правосудия.
У дальнего конца комнаты на величественной кафедре в два яруса расположились судьи. На первом, верхнем ряду как вороны на парапете восседали трое представителей этого почётного, древнейшего ремесла, облачённые в тяжёлые, чёрные мантии. То были королевские судьи, уполномоченные вести данную сессию уголовного суда города Лондона и Мидлсекса. Ниже расположились представители столичного правосудия: лорд-мэр, судебный секретарь, его заместитель и оба шерифа.
Между этим величавым возвышением и забранным железной решёткой табуретом, предназначавшимся для обвиняемого, простирался обширный, заваленный бумагами и уставленный чернильными принадлежностями стол, за которым сидели клерки и писари: одни рыскали в бумагах, другие готовили перья.
С правой стороны от них за резной деревянной перегородкой расположилась отара присяжных, уже изрядно подуставших от выслушивания омерзительных историй, изнемогавших от духоты помещения и жаждавших скорейшего наступления перерыва, дабы отправиться на водопой и прокорм в ближайшую таверну.
Напротив за таким же барьером сидел лишь один человек, сухопарый, среднего возраста и, по-видимому, только что прибывший, судя по тому, как он прилаживал на соседней скамье меч и расправлял складки своего роскошного одеяния, на котором как-то нелепо смотрелся приколотый на груди чёрный траурный бант. На худощавом гордом лице, мрачном и торжественном, читались высокомерие и надменность, которые он даже и не пытался скрыть. Увидев введённого обвиняемого, глаза этого человека сверкнули ненавистью и презрением. Черты его лица разительно напоминали Томаса Толбота, и Ронан сразу догадался, что это не кто иной, как старший брат погибшего – сэр Джордж Толбот.
Оглянувшись, юный шотландец увидел позади что-то наподобие балкона и среди теснившихся на нём людей различил почтенного Оливера Голдсмита, когда-то проявившего к нему толику симпатии и сочувствия, а сейчас сидевшего с задумчивым видом. Не без радости Ронан узрел среди публики на этой галёрке и своего друга и покровителя – сэра Хью Уилаби, он был серьёзен и сосредоточен.
Был, однако, в этой комнате и ещё один человек, хорошо знакомый юному шотландцу. Если бы Ронан попытался архи внимательно присмотреться к толпе присяжных, то различил бы в ней не безызвестное ему рябое лицо. Но обвиняемому было не до праздного разглядывания голов, к тому же Фергал всячески исхитрялся отворачиваться, нагибаться и прятаться за спинами других присяжных, лишь бы до поры до времени времени не попасться на глаза обвиняемому.
С тяжёлым сердцем Ронан уселся на табурет, на котором до него сидели сотни, а может и тысячи людей, окончившие свои дни на виселице или костре. Едва он занял столь безрадостное место, как действо началось. Один из трёх судей, которому настал черёд быть председателем и вести разбирательство, спросил у обвиняемого как того зовут и, получив заранее известный ответ, велел клерку огласить обвинительный акт, что тот с радостью и сделал.
Если кратко, то в сём документе говорилось, что джентльмен Ронан Лангдэйл, поданный шотландской короны, обвиняется в том, что двадцать пятого марта в седьмой год царствования его величества Эдварда Шестого, короля Англии, Франции и Ирландии и пр., в таверне «Дьявол и святой Дунстан» в городе Лондон умышленно убил посредством отравления джентльмена по имени Томас Толбот.
Затем судья спросил, признаёт ли обвиняемый себя виновным в озвученном преступлении, на что получил отрицательный ответ. Видимо нисколько сему факту не удивившись, ибо мало кто из преступников на его памяти сразу же признавал себя виновным, судья велел тому же клерку зачитать приложенное к акту свидетельство, а также показать присяжным улику, обнаруженную на столе под головным убором обвиняемого.
Когда свидетельское показание, аккуратно записанное Оливером Голдсмитом, было зачитано, а пузырёк со всех сторон рассмотрен каждым из присяжных – причём, с чрезвычайной осторожностью, ибо все опасались, что на нём ещё могут быть остатки яда, – так вот, когда предъявление этих неоспоримых доказательств вины Ронана Лангдэйла было закончено, судья опять, и на этот раз с большей настойчивостью, спросил обвиняемого, сознаётся ли тот в совершении преступления.
В судейском зале было жарко и душно. Весеннее солнце весело заглядывало в высокие окна. Люди обливались потом и безуспешно обмахивались платками. И судьи и присяжные желали поскорее закончить это разбирательство и отправиться на водопой, то есть на перерыв. Поэтому можно понять изумление и раздражение, с которыми они встретили повторный отрицательный ответ обвиняемого. Присяжные возмущённо зашушукались между собой, а Джордж Толбот на противоположной стороне то бросал гневные, негодующие взгляды на строптивого убийцу, имевшего наглость отрицать очевидное, то взглядом призывал судью положить конец этому спектаклю и вынести дело на суждение присяжных.
Королевские судьи перекинулись друг с другом парой фраз, и ведущий дело судья спросил у Ронана, чем тот может опровергнуть предъявленные доказательства его вины.
– Мой лорд, клянусь честью, что мальчишка-свидетель сказал наглую ложь, а этот пузырёк кто-то намеренно подложил под мой головной убор, что было нетрудно сделать в царившей в таверне суматохе, – заявил обвиняемый.
– Хм, весьма смелое утверждение, – ответил судья. – Но вы должны понимать, что без существенных доводов и доказательств с вашей стороны его можно воспринимать лишь как пустые слова в тщетной надежде защитить себя.
– Могу я задать несколько вопросов этому юнцу? – спросил Ронан.
– Безусловно, по закону у вас есть такое право, – удостоверил судья и, повернувшись к обвинителю, поинтересовался: – Надеюсь, сэр Толбот, вы позаботились о том, чтобы привести в суд свидетеля?
Однако, сей джентльмен глядел хмуро и не отвечал, и лишь лёгкая тень растерянности выдавала его замешательство. Ему и в голову не пришло, что отравитель может до того обнаглеть, что потребовать ещё раз выслушать свидетельство против себя же. Пока оторопевший Джордж Толбот искал что сказать, присяжные зашушукались между собой и один из них высунулся за перила и что сказал клерку. Тот мгновенно вышел и тут же вернулся, ведя за собой хоть и слегка оробевшего, но, тем не менее, не потерявшего свойственной ему бесстыжести, Арчибальда Петхэма. Юнца поместили на скамью рядом с Джорджем Толботом и привели к присяге.
Несмотря на разницу в возрасте между обвинителем, наследником графского титула и свидетелем, худородным юнцом, от самых внимательных из присутствующих не укрылось их поразительное сходство, что стало причиной некоторого шума и смешков в зале. Это странное обстоятельство, однако, посчитали за чистое совпадение, ибо никому и в голову не могло прийти, что двух таких разных людей могли объединять весьма тесные кровные узы, а уж тем паче, что этот худосочный отрок отправил на тот свет другого братца, смерть которого и стала поводом сего судебного разбирательства.
Когда юнец водворился на сторону обвинения и краем глаза заметил довольное выражение на лице Джорджа Толбота, он приободрился и стал ждать что будет дальше. Судья дал сигнал, и Ронан произнёс чистым и твёрдым голосом:
– Пусть этот лживый мальчик скажет, когда я якобы вплеснул яд в кубок Томаса Толбота: перед тем как возник переполох из-за мнимого пожара или же после.
Арчи слегка растерялся, потому как ему почудился какой-то подвох в вопросе. Он поискал глазами Мастера Ласси, но тот сидел, почему-то опустив голову. Юнец сказал неуверенно:
– Ну, это уж у меня начисто из котелка вылетело. Может, до того, а может и опосля. Давненько дельце было-то, ручки в ножки, сумочки-кошёлки. Я ж даже не припомню, чем давеча-то с утретца занимался. Да и не всё ли равно, что-то я в толк не возьму. Вы, что же, мне не верите, а? – Арчи с наигранной обидой оглядел судей и присяжных.
– И всё же я настаиваю, – произнёс Ронан, – чтобы этот маленький проходимец напряг свои недалёкие мозги, ежели они у него есть, ибо от этого обстоятельства многое зависит.
Арчи растерянно поглядел по сторонам, поскольку не знал, сказать ли правду или соврать. И он неуверенно и наобум сказал:
– Ну, кажись, до пожара.
– Ага, до пожара! – подхватил Ронан. – Тогда с какой стати мне было возвращаться и прятать пузырёк под шапкой, рискуя при этом быть замеченным? Не проще было бы мне избавиться от такой важной улики во время всеобщей сумятицы?
Присяжные переглянулись и закивали головами. До Арчи дошло, что он сморозил глупость, и он тут же заявил:
– Ах, тупая моя башка! Вспомнил, вспомнил! Чтоб мне на месте провалиться, ежели это было до пожара! Знамо дело, опосля. Конечно же, опосля, как же иначе. Вот я бестолковый!
Видя, к чему клонится дело, сэр Джордж Толбот соблаговолил вмешаться в дело.
– Почтенные судьи и уважаемы присяжные, – с важным видом начал он, – не кажется ли вам, что сей подлый отравитель пытается запутать и сбить с толку нашего юного свидетеля?
– Отнюдь, сэр Толбот, – возразил Ронан. – Я хочу, чтобы суд убедился в криводушии этого лжесвидетеля, каковой меняет свой рассказ по ходу дела и которого несомненно ждёт заслуженная кара Господня.
– Ну, знаете ли! – возмутился достойный сэр Джордж. – Мне мнится, будто мы собрались здесь не для того, чтобы заклеймить проклятого убийцу и вынести ему честный приговор, а для того, чтобы оскорблять этого невинного и смелого мальчика и издеваться над ним. У него хватило храбрости заявить, какому страшному преступлению он стал свидетелем. Он не испугался мести возможных сообщников и друзей преступника, пришёл сюда, дабы обличить этого подлого негодяя, а вы, почтенные судьи, дозволяете его оскорблять и даже угрожать ему!
Обвинитель задыхался от возмущения, а на бледных щеках разгорелся яркий румянец гнева. Видимо, чтобы защитить его от обещанной ему преступником кары Божьей он положил руку на плечо Арчи, предварительно натянув на неё тонкую замшевую перчатку, затем быстро успокоился и печально продолжил:
– Этот мальчик лицезрел, как убивали моего возлюбленного брата, видел действия подлого убийцы. Я более чем уверен, что если бы он осознавал, к чему ведут манипуляции гнусного негодяя, он не остановился бы перед тем чтобы поднять шум и предотвратить преступление, и мой дорогой Томас был бы сейчас жив.
Сэр Джордж убрал руку с плеча Арчи, снял перчатку и достал изящный батистовый платок, чтобы приложить к глазам, на которых не было ни единой слезинки.
– Слова сэра Джорджа Толбота звучат весьма убедительно, – согласился судья, желавший, как и большинство его коллег, поскорее закончить дело и покинуть эту комнату на час-другой. – К сожалению, уважаемый Мастер Голдсмит не уточнил у свидетеля сей вопрос на месте преступления, и мы вынуждены отвлекаться на такие мелочи. Ронан Лангдэйл, есть ли у вас ещё что сказать в свою защиту?
– Прошу прощения, мой лорд, что отнимаю ваше драгоценное время и время всех этих достойных людей в зале, – сказал обвиняемый, – но когда у честного человека пытаются отнять жизнь, разве не может он молить уделить ему лишний час, чтобы доказать свою невиновность?
– Говорите ad rem95, обвиняемый, – усталым голосом ответил судья, осознавая, что на скорое прекращение прений рассчитывать не приходится.
– Я заявляю, что у меня не было ни малейших поводов желать какого-либо зла бедному Томасу Толботу, – сказал Ронан. – И в обоснование сего мне необходимо поведать здесь присутствующим, что предшествовало закончившейся столь трагически нашей встрече.
– Я полагаю, это излишне, мой лорд! – вскричал сэр Джордж. – К чему нам ещё выслушивать жалкий лепет этого негодяя, тщетно надеющегося витиеватыми речами спасти свою ничтожную жизнь? Не пора ли передать решение на обсуждение присяжных?
В действительности у этого почтенного джентльмена, с такой силой и вполне резонно жаждавшего отмщения кровному врагу своей семьи, был куда более веский повод избежать разговоров о своём убитом брате, нежели просто месть. Джордж Толбот прекрасно понимал, что его брат, находясь в услужении у Марии Тюдор, мог принимать участие в политических интригах в пользу этой высокородной леди; и если бы эти догадки нашли подтверждение в словах обвиняемого, то тень подозрения пала бы на всё семейство Толботов и в первую очередь на графа Шрусбери, его отца.
Однако у присяжных, несмотря на усталость, необыкновенная страстность, с которой обвиняемый пытался себя защитить, если и не заинтриговала, то пробудила некоторое любопытство. Почтенные лондонские ремесленники и купцы зашумели и потребовали у судьи дать им возможность выслушать обвиняемого, на что судья – с неохотой и к большой досаде Джорджа Толбота – согласился и велел Ронану Лангдэйлу продолжать.
Юноше дали слово и он рассказал, как получил странное послание от Томаса Толбота – человека, о котором он ни разу в жизни дотоле не слышал. В письме тот признавался в желании поближе с ним познакомиться и приглашал его на встречу в Таверну Дьявола. Однако Ронан ни словом не упомянул о побуждениях Томаса, заметив только, что необычайно удивился такому письму и пошёл на встречу лишь из чистого любопытства.
– Позволю себе задать вопрос обвиняемому, – сказал дотоле молчавший судебный секретарь, человек с пронзительным, живым взглядом96. – Было ли вам известно, с какой целью Томас Толбот намеревался с вами встретиться, и сохранилась ли сия epistula? Punctum saliens est97.
Юный шотландец оказался чересчур благороден, чтобы забыть просьбу Томаса уничтожить письмо и никому о нём не говорить. И хотя он упомянул в суде об этом письме в страстном желании спасти свою жизнь, полагая, что это никому не повредит, но рассказывать о его содержании представлялось Ронану не чем иным, как клятвопреступлением. А потому юноша ответил, что сжёг письмо и что не имел ни малейшего понятия, с какой целью Томас Толбот желал с ним познакомиться (что, в общем-то, было недалеко от истины).
– Ut meus est animus98, обвиняемый не говорит всю правду об этом письме погибшего, – спокойно заметил учёнейший и опытнейший судебный секретарь, давно уже являвшийся главным лондонским законоведом. – Наверняка в письме Томас Толбот выразил некие намёки на свой incintamentum99. Впрочем, это моё сугубо личное мнение.
Во время этого разговора Джордж Толбот сидел как на иголках, опасаясь чрезмерных откровений обвиняемого, но на его счастье Ронан, даже во вред себе, упрямо хранил молчание обо всех инсинуациях и деталях письма. Почтенный наследник графского титула начал было успокаиваться, но как оказалось, слишком рано, ибо обвиняемый выказывал явное желание продолжить рассказ.
Далее подсудимый поведал, как он пришёл в Таверну Дьявола и встретился с Томасом, как они нашли взаимное удовольствие в общении и быстро подружились. Юноша, впрочем, опустил ту часть разговора, где речь шла о политике и религиозных воззрениях, ибо это могло повредить друзьям Томаса, но зато подробно передал, о чём они беседовали за несколько минут до несчастья.
– Свидетельством нашей, к несчастью, короткой дружбы с Томасом, – говорил юный шотландец, – могут быть сведения из личной жизни семьи графа Шрусбери, которыми Томас в порыве дружеской откровенности поделился со мной.
– Я требую, чтобы ему запретили говорить! – вскричал Джордж Толбот. – Я не позволю разглашать внутренние дела нашей семьи!
– Сэр, но это служит лишь доказательством моих доброжелательных отношений с вашим братом, – возразил Ронан.
– Действительно, было бы интересно послушать, – высказался судебный секретарь, и по лицу его пробежала лёгкая ироническая усмешка. – У обвиняемого есть jus certum100 высказать всё, что могло бы послужить для dictionis causae101.
Его шумными возгласами поддержали присяжные, которые были не прочь покопаться в чужом белье, особенно, ежели речь шла о столь знатном сановнике. А посему главному судье ничего не оставалось, как с этим согласиться, а встревоженному Джорджу Толботу – с недовольным видом усесться на своё место.
– Том коротко поведал мне о своём семействе. Видите, мы настолько с ним сдружились за эти пару часов, что звали друг друга просто Том и Рон, – с печалью вспоминал обвиняемый. – Он рассказал о достаточно прохладных отношениях с вами, сэр Джордж (при этих словах последний пренебрежительно скривил губы). А также он поведал что, у вас был кровный брат, прижитый служанкой в ту пору, когда умерла ваша мать. Однако позже ваша мачеха выгнала служанку с её детьми. У Тома было доброе сердце, и он признался мне, что хотел бы отыскать этого паренька, чтобы позаботиться о его воспитании и благополучии. Но, увы, теперь этому не суждено сбыться. Итак, как вы убедились, уважаемые судьи и присяжные, мне известно то, о чём рассказывают лишь лучшим друзьям.
В то время, как обвиняемый говорил о сыне служанки и отношении к нему Томаса Толбота, по лицу Арчи пробежала тень растерянности. Но, видимо, укорам совести и раскаянию не дано было преодолеть с детства укоренившуюся у юнца ненависть к Томасу. Да и с какой стати он должен был верить словам этого лживого, как уверял Мастер Ласси, шотландца? А потому физиономия Арчи скоро опять приобрела своё чуть нагловатое и самодовольное выражение.
– Забавная история, – с тайным облегчением сказал Джордж Толбот, ожидавший худшего. – Я мог бы заявить, что это грязная ложь против моего отца, но не вижу ничего предосудительного в том, что, лишившись супруги, граф Шрусбери имел отношения с прочими женщинами. Как благородному человеку мне претят ложь и обман, а потому я честно заявляю, что, действительно, мне известно об одном бастарде, и я даже как-то видал его краем глаза, но в отличие от моего почившего брата, я не стал бы разыскивать этого щенка, и предоставил бы его участи прочих приблудных детей. Что же касается убийцы, то я предполагаю, что Томас мог разболтать наши семейные дела под влиянием винных паров, а также из-за своего чересчур чувствительного и изнеженного характера – он ведь воспитывался пажом при одной высокородной леди. А потому я призываю вас счесть последние слова преступника за ещё одну тщетную попытку избежать заслуженной кары.
По залу пошёл гул, и непонятно было – то ли одобрения слов будущего графа или же несогласия с его мнением. В этот момент дотошный судебный секретарь вдруг сказал:
– Обвиняемый, в рапорте мирового судьи сказано, что на месте преступления вы утверждали, будто из кармана убитого miris modis102 исчезло некое письмо, якобы присланное Томасу Толботу и клеветавшее на вас. Можете вы пояснить, в чём суть сего письма и как оно могло ни с того ни с сего вдруг пропасть из одежды покойного?
Вопрос, похоже, смутил Ронана, ибо теперь, в отличие от своего горячечного возбуждения в таверне, он осознавал, что не сможет рассказать о сути того подмётного письма, не бросив тени подозрения на Томаса Толбота, пусть и уже мёртвого, и его друзей. А поскольку жизнь, этот великий педагог, ещё не научила юношу скрывать свои эмоции – когда это необходимо, – то написанное на его лице замешательство, разумеется, было всеми подмечено, что, конечно же, сыграло против него.
– Раз письмо исчезло, и я не в силах предложить ни малейшего объяснения сего мистического явления, то к чему мне толковать о его содержании, ежели это воспримется, как «ещё одна тщетная попытка избежать заслуженной кары», – с горькой иронией произнёс юноша,.
– Вот видите, он сам признаётся в лживости своих измышлений! – воскликнул Джордж Толбот.
В зале воцарилась нервная тишина.
– Видит Бог, я невиновен в этом гнусном убийстве! – нарушил безмолвие Ронан. – Зачем мне было губить человека, которого я видел первый раз в жизни? Зачем мне было заранее готовить яд для отравления незнакомой мне персоны?
– Да в наше время у молодых юнцов найдётся сотня причин лишить друг друга жизни, – скривив рот, заметил Джордж Толбот. – Ну, к примеру, они могли повздорить из-за какой-нибудь девицы или один задел плечом другого на улице у всех на виду. К тому же, я сомневаюсь, что убийца не был знаком с моим дорогим братом прежде. Кто может подтвердить, что они встретились впервые в тот злосчастный день?
– Я могу! – раздался зычный голос с балкона, голос, принадлежавший командору.
Сэра Хью привели к присяге, и он заявил, что за несколько дней до происшествия Ронан Лангдэйл спрашивал у него, не знаком ли ему человек по имени Томас Толбот, из чего можно вполне естественно заключить, что Ронан этого человека не знал.
– С вашего позволения, мне хотелось бы знать, – сказал Джордж Толбот, – кем вы, сэр Уилаби, приходитесь этому жалкому преступнику.
– Если вы, сэр, называете преступником моего подопечного и друга семьи Уилаби, – пылко ответил командор, рука которого безотчётно потянулась к рукояти меча, – то я воспринимаю это как личное оскорбление, на которое я желал бы ответить вам в ином месте и при другой публике!
Его антагонист с видом оскорблённого достоинства вскочил с места, задыхаясь от возмущения, и потому, наверное, не в силах вымолвить ни слова (но, конечно же, никак не из-за страха перед Уилаби).
Главный судья, видя, что дело принимает нежелательный оборот, поспешил вмешаться:
– Сэр Хью Уилаби и сэр Джордж Толбот! Позвольте заметить вам, что вы находитесь на сессии уголовного суда города Лондона, а не на ристалище придворного турнира. Подобные речи здесь не уместны и оскорбительны для королевских судей и городских властей, а также для почтенных присяжных.
– Прошу прощения, мой лорд! – сказал командор. – Но, клянусь моим рыцарским званием, Ронан – не преступник, за какового его настойчиво хотят выдать. Это юноша высокого ума и романтических наклонностей. Несколько месяцев назад он изъявил горячее желание присоединиться к плаванию, которому я назначен командором. Он усердно к нему готовился, изучая вместе с капитанами науки навигацию, астрономию и математику. Все его помыслы были только об этом далёком морском путешествии. Из чистого любопытства Ронан согласился и отправился на встречу с Томасом Толботом, а в результате попал в хитро расставленную западню.
– Странное дело, сэр Уилаби, – возразил Джордж Толбот, – ваш подопечный получил некое туманное послание от незнакомого ему человека и пошёл на встречу с ним, и вы его не остановили. Мне кажется весьма подозрительной подобная неосмотрительность с вашей стороны.
– Увы, мне было неведомо ни о письме, ни о намерении Ронана отправиться в Таверну Дьявола, – сказал командор. – Знай я об этом, вероятно и не случилось бы сего страшного несчастья.
– Вот видите, Ронан Лангдэйл скрывал от всех свои намерения! – радостно воскликнул Джордж Толбот, уже, однако, не рискуя называть Ронана преступником и убийцей. – Да это не просто подозрительно, а прямо-таки свидетельствует о злых умыслах человека, которого сейчас судят. А ежели он даже и не был лично знаком с моим дорогим братом до встречи, то это не может быть доводом в пользу его невиновности. Никак не может! Я допускаю, что обвиняемый мог в этом случае быть лишь инструментом чужого замысла, что не снимает с него ответственности за убиение Томаса.
Джордж Толбот оглядел зал с выражением непоколебимой уверенности. Глаза его метали молнии праведного гнева. На своей скамье на трибуне обвинения почтенный джентльмен напоминал хищного коршуна, победоносно усевшегося на скале с пойманной добычей в своих цепких когтях.
Судья вытер платком мокрый лоб, распрямил согбенную спину и произнёс измождённым голосом:
– Обвиняемый Ронан Лангдэйл, есть ли у вас какие-либо более веские доводы в пользу вашей якобы невиновности?
По формулировке вопроса и виду самого судьи не сложно было догадаться, чью сторону держит сей беспристрастный слуга закона. Понял это и Ронан, давно уже почувствовавший нерасположенность к себе главного судьи. Тем не менее, сдаваться юноша был не намерен.
– Какие ещё веские доводы необходимы, чтобы доказать мою невиновность! – воскликнул Ронан. – Неужели вы хотите осудить человека лишь на основании лживых слов единственного свидетеля и одной только улики, быть может, им же и подброшенной?
Среди судей возникло лёгкое замешательство. Судебный секретарь повернулся к главному судье и сказал ему вполголоса:
– Certe, testis unus est testis nullus103.
На это главный судья с раздражением заявил:
– Atqui habemus argumentum ad oculos quod homicidium voluntarium est104.
Судьи обменялись ещё несколькими фразами, которые Ронану расслышать не удалось. По-видимому, судебный секретарь – то ли силясь, всё-таки, докопаться до истины, то ли стремясь показать свою учёность, а может просто из желания досадить сыну графа Шрусбери, – был не прочь продолжить диспут между обвиняемым и Джорджем Толботом, в то время как королевский судья желал поскорее закончить дело. Судя по всему, главный судья настоял на своём, ибо он обратился к присяжным со следующими словами:
– Мы справедливо выслушали обе стороны сего, как мне кажется, весьма простого дела. Обвиняемый не признался в совершении преступления и оспаривал подлинность улики и свидетельства. Тем не менее, он не привёл ни одного убедительного с нашей точки зрения довода в свою защиту. Теперь вам, почтенные члены корпорации города Лондона предстоит вынести вердикт, виновен ли Ронан Лангдэйл в отравлении Томаса Толбота или нет.
Присяжные сбились в тесную кучку, придвинув свои лавки, и оживлённо зашептались между собой.
Джордж Толбот восседал с торжествующим видом победителя, ибо он ясно понимал, к какому решению склоняется королевский судья; а поскольку понимали это и присяжные, то у почтенного джентльмена не было сомнений, что они, как послушные овечки идут за дудкой пастуха, также покорно последуют за призывом королевского судьи.
Ронан, внешне спокойный, но с бешено бьющимся сердцем, настороженно ждал. В отличие от своего антагониста он с юношеской наивностью надеялся, что, несмотря на предубеждённость королевского судьи, лондонские присяжные проявят самостоятельность в вынесении вердикта, и он будет действительно справедливым.
Уилаби был хмур и мрачен, поскольку не питал особых надежд на благородство и честность горожан, к которым он, как многие уроженцы удалённых графств, относился с недоверием и предубеждением. В голове командора витали уже другие мысли.
Шум среди присяжных всё увеличивался, и один из них встал и попросил главного судью, чтобы им позволили уединиться в другом помещении. Просьба сама по себе была весьма необычна, ибо, как правило, присяжным хватало двух-трёх минут для вынесения вердикта – а тут они ещё потребовали и отдельное помещение! Главный судья недовольно нахмурился, но всё же попросил лорда-мэра предоставить присяжным отдельную комнату, куда их тут же и отвели.
Почтенные присяжные отсутствовали около четверти часа – небывалое по тем временам время для вынесения вердикта по уголовным делам! В судебном зале стояла тревожная тишина, когда присяжные вернулись и торжественно и неспешно заняли свои места. Ронан, до того всё время стоявший лицом к судейской кафедре, теперь повернулся к присяжным и пробежал глазами по их лицам, пытаясь догадаться, к какому решению они пришли. И вдруг, перебегая с одного лица на другое, он наткнулся на знакомую рябую физиономию. Фергал как ни в чём не бывало глядел на него ясным, чистым и чуть печальным взором.
Изумлению юного шотландца не было предела. Вмиг всплыли в памяти все подозрения и догадки про этого человека, а вместе с ними к Ронану пришла твёрдая уверенность, что главным виновником всех его бед является хитрый оборотень по имени Фергал, брат Галлус или как он там теперь назывался. Все эти мысли настолько завладели юношей, что он напрочь забыл, что сейчас должна быть оглашена его участь.
Но вот среди присяжных поднялся один человек, которому его собратья по жюри поручили огласить их решение. Он робко посмотрел на обвиняемого и начал было говорить, но на первом же слове поперхнулся и слова застряли у него в горле. Присяжный откашлялся, невольно испытывая терпение присутствующих в зале, и, стараясь говорить торжественным голосом, произнёс:
– Мы приносим извинения за столь долгое обсуждение сего непростого дела, ибо мнение нашего жюри разделилось.
Главный судья охнул и всплеснул руками, поскольку это значило, что первоначально число голосов разделилось поровну, и лишь после долгого совещания у присяжных появился перевес конкретного вердикта: либо «виновен» либо «невиновен».
– И как же разделились ваши голоса? – голосом, в котором сквозили раздражение и беспокойство, спросил королевский судья. – Виновен ли Ронан Лангдэйл в совершении убийства? Pro et contra105?
– За вердикт «виновен» проголосовали семь членов жюри, против – пять, – ответил присяжный и, выполнив свою миссию, устало опустился на скамью.
– Итак, Ронан Лангдэйл, – с радостной торжественностью произнёс главный судья, – уголовным судом города Лондона вы признаны виновным в предумышленном убийстве Томаса Толбота посредством отравления, за что подлежите лишению жизни путем повешения за шею. Causa finita est106.
Часть 8 Казнь
Глава LVII
Надежды и разочарования
Трудно передать словами те чувства, которые испытал Ронан, услышав чудовищный по своей несправедливости приговор суда. Юного шотландца не так страшила сама смерть – ведь любому человеку рано или поздно приходится с ней встречаться, – как невыносимо было осознавать неправедность подобной своей кончины и унизительность самой казни, а также своё бессилие добиться правды – что, пожалуй, больше всего его и угнетало. Пелена чистосердечной наивности, постепенно, день ото дня спадавшая с его глаз, нынче, казалось, растворилась совсем, как утренний туман в лучах восходящего солнца. А вместе с тем в его голове, пытаясь поколебать его дух и озлобить сердце, мелькнула коварная и обманчивая мысль о том, как мало справедливости в этом мире, разом восставшего на бедного страдальца.
Юный шотландец не заметил, как снова очутился в своей камере. Он не видел гордой и торжествующей улыбки Джорджа Толбота, самодовольной и разгильдяйской ухмылки юнца, грустных глаз Оливера Голдсмита, злого и решительного выражения на лице командора и странной задумчивости и даже растерянности во взгляде Фергала, а также безразличия всех остальных и всяческих прочих эмоций, с которыми его провожали из судейского зала.
Лишь когда тяжёлая дверь захлопнулась за ним, Ронан горестно вздохнул, растянулся на тюфяке и принялся осмысливать всё, происшедшее в этот день. Увы, как и предполагал командор, председательствовавший судья явно был настроен против него, и присяжные в большинстве своём оказались послушны его желанию. У юноши не оставалось уже ни малейших сомнений, что ложное обвинение против него являлось делом рук Фергала, и виновником гибели Томаса Толбота также был этот оборотень. Что плохого он сделал ему и с какой же целью лже-монах хочет погубить его? – что, впрочем, ему уже почти удалось. Юноше не терпелось поскорее увидеть Уилаби, чтобы поделиться с ним своими мыслями и умолять расквитаться со злодеем, если уж ему, Ронану, не суждено будет самому отомстить этому Иуде. Как узник желал сейчас поговорить с командором, излить ему свою душу и услышать добрые слова в ответ! Ему хотелось не утешения, нет, а просто дружеского разговора. Но, увы, в этот вечер Уилаби, вероятно, поглощённый прочими своими заботами, не появился.
Первая половина ночи прошла в кошмарных сновидениях, наполненных плахами, виселицами и кострами, откуда неслись страшные вопли несчастных жертв, отлетали отрубленные головы, в воздухе болтались ноги повешенных и пахло горелым человеческим мясом. А надо всем этим какой-то человек без лица, с ног до головы закутанный во всё чёрное, произносил всё время: «Causa finita est». Из-за этих ужасных видений узник часто просыпался в холодном поту, но затем переживания предыдущего дня вновь заставляли его погружаться в тот же самый жуткий сон.
Лишь под утро страдалец крепко заснул. Но и здесь не обошлось без видений, хотя и более радужных. Ронану привиделось, будто он пробудился от страшного, химерического сна, в котором он почему-то был обвинён в каком-то тяжком злодеянии и оказался узником в мрачной, зловонной тюрьме. Но то был всего лишь сон, страшный сон, порождённый причудливыми ночными прихотями сознания, и он остался там, позади, в ночной темноте, а в действительности он, Ронан, свободен и властен делать, что ему вздумается. Вот сейчас он откроет глаза и увидит балдахин своей кровати в доме в Саутворке, пробивающиеся сквозь ставни лучи утреннего света, падающие на причудливые гобелены на стенах. Повара уже колдуют на кухне над приготовлением вкусного завтрака, за которым он встретится с доблестным командором, с милой Алисой, с её строгим отцом. А затем он отправится к доктору Ди, чтобы принять участие в его удивительных опытах. Не открывая глаз, Ронан пошевелил пальцами, намереваясь ощутить мягкую, шелковистую ткань простыней. Но – о, ужас! – под ладонью он почувствовал грубый тюфяк, а запястье давила цепь. Значит, это был не сон! Он и в самом деле узник в страшной тюрьме, узник, приговорённый к смертной казни!
Да, сновидения порой играют с нами дурную шутку, заставляя во сне испытывать переживания сильнее и ярче чем наяву и в один миг переходить от ощущения безмятежного счастья и радости к состоянию горя и отчаяния. Сколько ещё таких ночей осталось мне, спрашивал себя Ронан, – одна, две… или больше?
Днём несколько раз заходил Тернки с любезным предложением притащить узнику пинту эля или каких вкусностей – за весьма умеренное воздаяние, разумеется. Ронан гнал его прочь и просил оставить в покое.
Наконец ближе к полудню пришёл сэр Хью. Он не стал выказывать узнику каких-либо сожалений и утешений, а лишь заявил, что Ронан в суде держался блестяще, вёл себя умно и достойно.
– Одного я не возьму в толк, – сказал Уилаби, – какого чёрта ты не рассказал о содержании подмётного письма и послания Томаса Толбота. Неужели ты полагаешь, что покойник зашевелился бы в склепе Толботов, если бы ты нарушил его просьбу и огласил содержание?
– Он доверял мне, и это могло повредить его друзьям, – только и сказал Ронан.
На миг в камере повисла тишина. Вдруг какая-то мысль промелькнула в голове юноши, и он тут же рассказал Уилаби, что среди присяжных был Фергал и вновь напомнил командору обо всех своих догадках относительно роли экс-монаха в его бедах. Но ежели раньше Ронан говорил о них как о подозрениях, то теперь – с твёрдой убеждённостью.
– Умоляю вас, сэр Хью, отомстите за меня этому негодяю, – смущённо попросил Ронан, – когда… когда меня не станет. Я знаю, это в ваших силах.
– Ну, уж нет, милый мой, – твёрдо ответил Уилаби. – Я с радостью уступлю это удовольствие тебе.
– Мне? Но как? – подивился Ронан. – Меня же со дня на день… – и он замолк, не в силах вымолвить страшное слово.
– Этого не должно случиться! – уверенно заявил Уилаби. – Нынче утром я встречался с Генри Сидни, одним из ближайших друзей короля. Помнишь ли ты его?
– Право слово, как я мог забыть сего вельможу, которому имел честь быть представленным во дворце Байнард! – сказал юноша, которому приятны были любые упоминания, связанные с путешествием. – Ведь он содействовал синьору Кабото в подготовке плавания и покровительствовал Ричарду Ченслеру, нашему кормчему.
– Так вот, Ронан, я поведал ему про неприятную историю, в которую ты вляпался по своей наивности и неопытности, – продолжал командор, – и убедил этого молодого вельможу в твоей невиновности.
– И он вам поверил?
– Более того, он с готовностью взялся тебе помочь! – сказал Уилаби. – В отличие от этих надутых судейских павлинов, он человек открытый, здравомыслящий и непредвзятый. От твоего имени я написал прошение о помиловании его величеству, и сэр Генри поклялся при первой же возможности передать его королю, со своими, разумеется, пояснениями и толкованиями сего дела. А Эдвард, как всем известно, – король великодушный и милосердный, к тому же он благоволит к Сидни и покровительствует всему нашему предприятию. Несомненно, он не откажет тебе в оном прошении.
– Неужели, я снова буду свободен! – воскликнул Ронан, не веря такому счастью. – И поплыву в дальние страны! О, вы вновь вернули меня к жизни, сэр Хью! Благодарение небу, что у меня есть такие друзья! И как долго, вы полагаете, мне предстоит ожидать решения короля?
– Сие радостное событие может случиться в любой день, но… – Уилаби запнулся и нахмурил брови.
– Но? – беспокойно повторил юноша.
– Видишь ли, мой дорогой, по словам Генри Сидни, самочувствие короля в данный момент весьма плачевно, он не поднимается с кровати и находится в полубессознательном состоянии. К тому же по приказу герцога Нортумберлендского со вчерашнего дня в покои его величества не пускают никого, кроме нескольких лекарей, некоторых слуг и, разумеется, самого герцога, дабы нисколько не волновать Эдварда и не беспокоить его излишними разговорами.
– А ежели он так… так и не встанет с одра болезни? – дрожащим голосом вопросил Ронан, воскресшие надежды которого, казалось, готовы были рассыпаться в пух и прах, как волна разбивается о вставшую на её пути скалу. – Сэр Хью, мне ведь достоверно известно – и пожалуйста, не спрашивайте откуда, ибо это чужая тайна, – что молодой король, увы, долго не проживёт.
– Ну, не стоит уподобляться гарнизону окружённой врагом крепости, у которого кончился провиант, порох и пушечные ядра, падать духом и отчаиваться, мой друг, – произнёс командор. – Клянусь честью, мне искренне жаль, ежели царствование юного Эдварда ограничится таким коротким сроком. И я надеюсь, что он сподобится ещё совершить в своей жизни немало благодеяний, одним из которых станет твоё помилование. У нас ещё достаточно времени, чтобы дождаться некоторого улучшения – пусть и временного – здоровья его величества. Шериф Вильям Джерард – сотоварищ нашего торгового предприятия и мой хороший знакомый. Не поступаясь своей совестью, он готов оказать тебе такую услугу, как отсрочить твоё э… повешение, насколько это в его силах, то есть до начала следующего месяца. Таким образом, у нас есть больше трёх недель.
– А ежели за это время Генри Сидни всё же не удастся поговорить с королём и подписать помилование? – спросил Ронан, стараясь говорить ровным голосом. – Это будет значить, что меня повесят?
– Не бывать тому, клянусь небом и землёй! – пылко ответил командор и, понизив голос до полушёпота, продолжил: – Я спасу тебя, чего бы это мне ни стоило. Если нам не суждено будет получить помилование до самого этого дня – во что я не верю ни на йоту, – то я найму целую армию отчаянных головорезов, уличных бродяг и прочих лиходеев, и они освободят тебя по пути от Ньюгейтской тюрьмы то Тайберна.
– Нет! – после некоторого раздумья решительно возразил юноша. – Если этот план и удастся, то подозрение сразу падёт на вас, сэр Хью. Всем ведь известно, что вы являетесь моим покровителем. А ежели в этом рисковом предприятии будет задействовано уйма людей, то графу Шрусбери и его сыну нетрудно будет сыскать или выдумать какую-нибудь улику и они обвинят вас. Вы рискуете своей свободой, именем и честью, что поставит под угрозу наше плавание. Лучше уж я погибну, чем стану причиной провала сего смелого предприятия, разрушу чаяния многих людей и вашу, сэр, репутацию, а то и саму жизнь.
В камере воцарилась гнетущая тишина. Уилаби понимал всю разумность доводов юноши и не знал, чем ему возразить. А Ронану же было яснее ясного, что единственный его шанс на спасение заключался в возможности юного английского короля прийти в чувство и в настойчивости Генри Сидни.
Напоследок Ронан робко и с некоторым замешательством сказал командору, что будет весьма счастлив, если в следующий раз сэра Хью соблаговолила бы сопровождать мистрис Алиса – в том случае, конечно, ежели её не пугает появиться в столь ужасном и отвратительном месте. Уилаби понимающе улыбнулся и пообещал притащить вертихвостку, даже если потребуется сделать это силком и вопреки воле её отца…
Через день сэр Хью вместе с Алисой стояли у дверей Ньюгейтской тюрьмы. Девушка в простенькой серой одежде, подходящей скорее кухарке или скромной прислужнице, чем дочери богатого негоцианта, с неряшливо убранными волосами, с налётом сажи на лице и корзинкой в руке составляла разительный контраст командору, который как обычно имел весьма грозный и воинственный вид. Пёс Тернки приоткрыл решётку в двери, осклабился и, оправдывая своё прозвище, залился радостным лаем:
– Э-хе-хе! Бедняге жить-то осталось несколько дней, а к нему девиц водят. Каков шустрый малый, а? А пропуск для посещения преступника, сэр, для этой красотки у вас есть? Да чтоб собственноручно лордом-мэром был подписан и его печатью скреплён. Без него её не пущу.
– Ты же знаешь, собака, что лорд-мэр после судебной сессии слёг с горячкой! – с возмущением сказал командор. – А пропуск девице, меня сопровождающей, подписал шериф Джерард.
– Э, нет, сэр! Так дело не пойдёт, – приотворяя дверь, обрадовано заявил Тернки в предвкушении лёгкой наживы. – Порядок есть порядок. Пропуск должен быть подписан самим лордом-мэром и всё тут!
Уилаби, уже неплохо знакомый с царившими в Ньюгейтской тюрьме «порядками», открыл кошель и брезгливо бросил шиллинг под ноги тюремщику.
– И я требую, чтобы ты относился к этой девушке с почтением, которое заслуживают великодушные и благопристойные люди! – грозно сказал командор.
Тернки с невозмутимым видом поднял серебряную монету, но дверь распахивать, похоже, не собирался. Он оглядел Алису с ног до головы и сказал с кривой усмешкой:
– А позвольте полюбопытствовать, уважаемая леди (тюремщик сделал ударение на этом слове), что у вас в корзинке? Порядок у нас таков, что надобно проверять всё, что вносится в эти двери. А вдруг у вас там верёвки, ножи и прочие приспособления для побега, или же чтобы преступник мог убить себя и лишить добрых горожан приятного зрелища в Тайберне?
– Осмелюсь заверить вас, сэр тюремщик, – начала Алиса печальным голоском, иногда прерываемым горестными всхлипываниями, – что в этой корзине собраны самые вкусные яства, которые, я по приказу моего господина приготовила для бедного юноши, зная, как мало ему осталось жить.
– И всё же, любезная девонька, я обязан проверить, что так оно и есть, – настаивал на своём Пёс Тернки, подозрительно поглядывая на корзинку. – Таковы в нашем заведении порядки.
– Неужели вы, сэр тюремщик, подозреваете меня, дочь честных лондонских горожан в подобных неблаговидных замыслах?
– Ничего не могу поделать, красавица, – ответил Тернки. – Может, ты дочь и честных людей, но в твоей добропорядочности я что-то сомневаюсь. К тому же, что ни говори, а порядок есть порядок.
– Голубушка, да покажи ты корзину этому Церберу, – нетерпеливо сказал сэр Хью. – Пусть убедится в твоей честности.
– Как же, сэр, чтобы он своими грязными лапами переворошил с такой любовью приготовленную и так аккуратно уложенную снедь! – возразила девушка. – Несчастный страдалец подумает, будто ему набросали кое-как кусков разных, словно костей собаке.
– Сэр, вы совершенно правы, чёрт возьми! – сказал Тернки, бросая жадные взгляды на торчавшее из корзины горлышко бутылки. – Мне непременно необходимо проверить содержимое корзины.
– Увы, боюсь, мне придётся согласиться на это жестокое требование, раз всё против меня, – со вздохом промолвила девушка. – Но, быть может, вы, сэр тюремщик, взгляните лишь краешком глаза, не прикасаясь к яствам? Умоляю вас. – Алиса сощурила карие глазки и добавила: – А за это – надеюсь, мой хозяин не будет меня бранить, – я поделюсь с вами одной из двух бутылок прекрасного французского вина, какого, ручаюсь, вы ни разу в жизни не пробовали.
Пёс Тернки, не долго думая, решительно, словно сорвался наконец-то с цепи, выхватил корзину из рук девушки, сорвал прикрывавшую еду салфетку, выудил одну из бутылок, бросил быстрый взгляд на всё остальное и вернул корзинку Алисе.
– Ну, кажется, ничего недозволенного у вас нету, – рявкнул тюремщик. – Можете проходить.
– Я позволяю вам, любезный сэр, выпить её за здравие Ронана Лангдэйла, – снисходительно промяукала Алиса, проходя мимо Тернки.
Тот недоуменно уставился на девушку и, словно получивший сахарную косточку пёс, незлобиво прорычал:
– Да почто ему теперь здоровье? Разве что вниз спуститься. Даже ноги волочить никуда не придётся. Усадят на повозку и прямиком в Тайберн со всеми почестями и доставят…
– Фи, какое же тут внутри зловоние! – сморщив носик, сказала Алиса и уцепилась за руку сэра Хью, чтобы не споткнуться в полумраке незнакомых лестниц и переходов Ньюгейтской тюрьмы.
Уилаби с удивлением взирал на девушку. Ему было совершенно невдомёк, с какой стати Алиса вырядилась простушкой, любезничала с тюремщиком и наградила его бутылкой отменного вина, а к тому же, почему она была так печальна и тревожна, покуда они шли сюда под весёлым весенним небом, и вдруг превратилась в беззаботную пташку внутри этой мрачной тюрьмы.
И вот, наконец, заскрежетал ключ в замке, загромыхал отодвигаемый засов и Тёрнки с мрачной ухмылкой впустил посетителей в «покои» Ронана. В камере было свежо и прохладно, ибо всю ночь, несмотря на холод, узник не закрывал деревянный ставень, чтобы проветрить комнату. Вдобавок, он отдал несколько пенсов Тернки, чтобы тот принёс и набросал на полу пахучей сухой травы.
Войдя, Уилаби сразу оценил эти приготовления и понимающе улыбнулся. Девушка остановилась в дверях и с невыразимым ужасом глядела на закованного в кандалы и цепи Ронана. Хотя она и готовилась к подобному зрелищу, но воочию видеть своего друга – и быть может, даже более чем друга, – в такой страшной обстановке было для молодой девушки непомерно тяжело и горестно. Но, последовав примеру сэра Хью, она подошла к Ронану и протянула ему руку, которую юноша галантно попытался поднести к губам. Однако цепи сильно мешали, и вышло это у него так неуклюже, что Алиса, несмотря на обстановку, не удержалась и прыснула со смеху, потом смутилась и виновато замолчала.
Ронан поинтересовался у командора о самочувствии его величества и получил ответ, что покуда ничего не изменилось, но Генри Сидни надеется, что через день-другой королю полегчает. Юноша вздохнул, ибо он и не ждал другого ответа, хотя и надеялся в тайне души на лучшее. У него было ещё почти три недели.
Командор рассказал о подготовке плавания, о том, что все корабли уже на плаву и стоят в излучине Темзы напротив верфи, товары для торговли и припасы для долгого плавания свозятся в склады в Редклифе, команды почти набраны и обживают кубрики. Кормчему и капитанам известно, в какую неприятную переделку попал Ронан, они призывают его не унывать и от всего сердца надеются на милость его величества, чьё имя носит их главный корабль. Затем Алиса в свою очередь поведала, как обстоят дела дома, что все скучают и ждут скорейшего возвращения Ронана. Одним словом, оба Уилаби пытались подбодрить юношу как могли, хотя все трое прекрасно понимали, на чём зиждется их хрупкая надежда.
Ронан с Алисой, осознавая, что, возможно, им уже не суждено никогда встретиться, не избегали смущённо, как раньше, взглядов друг друга. И глаза их красноречиво выражали то, что они не могли высказать словами. Грусть и желание, страх и нежность, тревога и влечение причудливо смешались в их взорах.
Но вот, разговаривать больше было не о чем, и командор напомнил, что им пора уходить.
– Дядюшка, а не позволите ли мне задержаться здесь ну на несколько минуточек? – умоляюще вымолвила вдруг Алиса.
– Это зачем же? – строго спросил командор. – Да и пристойно ли это?
– Нет-нет, сэр, – возразила девушка, и краска залила её восхитительное личико. – Я понимаю, что моя просьба может показаться вам безнравственной, но умоляю вас, не будьте так уж предосудительны. Клянусь памятью моей доброй матушки, что мне необходимо сказать всего несколько слов молодому человеку.
Уилаби забарабанил в дверь, и, когда пришёл Тернки, сказал ему тоном, не терпящим возражений:
– Выпусти меня. А когда отведёшь наружу, то досчитай до пяти сотен, да слишком не спеши. А потом вернёшься и выведешь эту девицу. Ты уже от меня монет получил больше, чем иной работяга ремесленник за год зарабатывает, чтобы не выполнить этого указания.
– Конечно, сэр, всё сделаю, как вы изволите, лишь бы это не нарушало наши правила, – пробормотал тюремщик, бросив при этом лукавый взгляд на Алису. – Разве ж я не понимаю, хе-хе. Впрочем, я могу и до тысячи досчитать, и даже несколько раз кряду. За весьма умеренное воздаяние, разумеется, потому как считать – это дело, знаете ли, нелёгкое, ох, как нелёгкое.
– Я же ясно сказал – до пяти сотен! – повысил голос командор. – Ни больше и ни меньше!
Около Ньюгейтских ворот сэра Хью поджидал его верный слуга, который, как правило, везде сопровождал своего господина, а в этот день именно он взял на себя труд тащить нелёгкую корзину с яствами для узника. Гудинаф ничуть не удивился, увидев своего хозяина, вернувшегося в одиночестве.
– Хм, а что же ты не спрашиваешь, как я дозволил этой вертихвостке задержаться в камере узника? – подивился Уилаби. – Я знаю, ты умеешь держать язык за зубами, но ещё раз предупреждаю: никто не должен узнать о моём неблагоразумном потакании этим птенцам.
– Буду нем как могила, ваша милость, – ответил Дженкин. – Говоря по правде, мне было известно, что девица хочет поболтать с Ронаном наедине, потому как она мне сама об этом и обмолвилась.
– Интересно, о чём же они собираются щебетать в сей каменной клетке? – полюбопытствовал Уилаби. – Да и с какой стати Алиса вздумала это представление разыгрывать: оделась как последняя кухарка и не велела мне её по имени называть?
– Ну, об этом я не могу вам сказать, хотя и догадываюсь, – туманно ответил ординарец…
Когда за командором захлопнулась дверь, Алиса со смущенным взглядом медленно подошла к юному шотландцу. Это был, пожалуй, первый раз, когда они остались наедине – но в каких обстоятельствах! Руки их соединились, и так они стояли несколько мгновений, пристально глядя друг другу в лицо и не решаясь начать разговор, который, как им казалось, мог разрушить установившееся между ними негласное понимание и чувствование друг друга. Это молчаливое нежное соприкосновение рук сказало им друг о друге гораздо больше, чем все слова на свете.
– Ронан, – начала девушка и замолкла.
– Что, милая Алиса? – ласково спросил юноша.
– Ронан, у нас слишком мало времени, а я должна… сказать что-то очень важное для тебя.
Юноша молчал и, забыв всё на свете, глядел на Алису нежным взглядом.
– Мне известно, что дядюшка написал прошение о твоём помиловании, – продолжила девушка. – Но король очень болен и не встаёт с постели. Я не могу об этом думать, но если он не поправится в ближайшие две-три недели, то тебя отвезут в Тайберн.
– Увы, это так, – печально согласился Ронан.
– В этой корзине в одном пироге вместо начинки ты найдёшь длинную верёвку, а если разломишь каравай, то вытащишь оттуда крепкий напильник, – шёпотом сказала Алиса.
– Как! Я же изъяснил сэру Хью, чем чревата для него эта отчаянная попытка спасти меня. А он всё одно так неразумно рискует, хотя давеча, казалось, внял моей просьбе не пробовать спасти мою жизнь путём беззакония и насилия, – с некоторой досадой сказал юноша.
– Нет-нет, Ронан, он ничего не знает, – быстро промолвила Алиса. – Это я попросила Дженкина разыскать длинную верёвку и крепкий напильник, а повара – запрятать их в снедь. Коли уж король Эдвард поправится и сможет подписать твоё помилование, то никому и дела не будет до того, что ты задумывал побег. А если – нет, то неужели ты не хочешь спасти свою жизнь и намерен заставить многих людей оплакивать тебя?
– Многих ли? Не такой уж я именитый человек, чья смерть способна собрать море плакальщиков.
– Тем не менее, среди них будет одна, чьё сердце разорвётся от горя, если тебя не станет, – промолвила Алиса и краска смущения залила её красивое личико.
– Ну, посмотри сама. Как же я сбегу из этой башни? – вздохнул Ронан и распахнул створку узкого зарешеченного окна. – Даже если я перепилю цепи и решётку, то как мне протиснуться в это тесное оконце? Разве что превратиться в сокола и упорхнуть на крыльях свободы! Но таких магических чар у меня нет.
Алиса озадаченно глядела на оконце – она и не предполагала, что оно будет столь узко!
– Но в таком случае, если пропадут надежды на ходатайство королю, ты можешь избавиться от оков и, когда тюремщик войдёт в комнату, кинуться на него и убить – ты сильный как лев, я знаю, – а потом выбраться через дверь внизу, – посоветовала вызволительница.
Ронан поглядел на девушку с доброй улыбкой и сказал:
– В этих четырёх башнях несколько тюремщиков, которые тут же сбегутся на шум. И не успею я отцепить ключ у убитого тюремщика, спуститься вниз и отпереть дверь, как они бердышами изрубят меня на части. К тому же я вовсе не желал бы убивать Тернки – того самого тюремщика, который вас привёл. По словам сэра Хью, он обещал печься обо мне как о родном сыне «за весьма умеренное воздаяние, разумеется», и пока от него я ничего худого не видел. Ежели не брать в расчёт его главный недостаток – безмерную алчность, то в целом он человек даже и не такой уж плохой. Но главное, Алиса, если я сбегу, то они непременно догадаются, кто всё подстроил, схватят тебя как пособницу и бросят в эту ужасную тюрьму! Разве же я могу такое допустить?
– Не схватят, Ронан! Мы с Дженкином всё-всё предусмотрели, – возразила девушка и бойко продолжила: – Если бы здесь было достаточно света, ты увидел бы, на какую замараху я похожа. Я оделась служанкой, измазала лицо и запретила дядюшке Хью называть меня по имени и говорить, что я его родственница, хотя пока ещё и не посвящала его в наш план. Если ты сможешь убежать из тюрьмы, и они придут искать эту бедную служанку, то её уже не будет и в помине, а преследователям расскажут историю про молодую кухарку, которая без ума влюбилась в юного шотландца и, рискуя своей жизнью и не говоря никому ни слова, решилась спасти его, а после того, как он сбежал, покинула дом, присоединилась к беглецу и они убежали неведомо куда. Восхитительный план мы с Дженкиным задумали, не правда ли?
– План чудесный, Алиса, – с нежной грустью произнёс юноша. – Только сомневаюсь я, что он выполнимый. Тсс!
Последнее восклицание было вызвано скрежетом ключа и засова – вернулся Тернки. Входя, он успел заметить, как девушка отпрянула от узника, лукаво ухмыльнулся и увёл Алису. На лестнице, полагая, что имеет дело с обычной потаскушкой, он попытался обнять её за талию, но получил такую звонкую оплеуху, звук которой слышен был, казалось, по всей Ньюгейтской тюрьме.
– Ах ты, чертовка! – пробормотал тюремщик, потирая щёку. – Попала бы ты в мои постояльцы, тут норов твой разом укротили бы.
– Да я и не против здесь поселиться, лишь бы в одних покоях с Ронаном Лангдэйлом, – дерзко и развязно заявила девушка, играя роль той, за которую она желала сойти.
«Господи, если бы мой батюшка видел сейчас свою дочь, – подумала Алиса, – он бы как пить дать со стыда сгорел! А этот тюремщик такой гадкий, фи! И чего Ронан его жалеет?»
Глава LVIII
Навязчивый жених
На следующий день за пяльцами Алиса тщетно пыталась отвлечься от терзавших её душу тягостных мыслей. Её ловкие пальчики делали стежок за стежком, которые мало-помалу складывались в затейливые узоры. Но, увы, тяжкие, беспокойные думы не отпускали девушку, а прекрасные ажуры не радовали глаз. Алиса давно уже понимала, что испытывает к юному шотландцу чувства, каковые благопристойной девушке её возраста и послушной дочери знатного лондонского купца подобает гнать от себя как прокажённых с городского рынка. Однако всё её девичье естество, подкреплённое жалостью к оказавшемуся в смертельной опасности юноше, восставало от проявления подобного благонравия. А потому вопреки приличию Алиса в тайне души лелеяла свои нежные чувства и думала теперь только об одном – как спасти Ронана.
По Лондону ходили слухи, что его величество сильно болен, да и дядюшка Хью об этом упоминал, и потому Алиса ужасно боялась, что юный король не поправится и не сможет подписать прошение о помиловании. Вот почему на такой худой случай она и придумала план побега Ронана из тюрьмы. В этом у неё был верный союзник – Дженкин Гудинаф, который помог ей всё в тайне подготовить. Но теперь возникли и негаданные трудности, о которых она не могла раньше и предположить: узкое, словно бойница, оконце в камере заключённого и нежелание самого Ронана убивать тюремщика ради спасения собственной жизни.
От досады Алиса кусала себе губы, стежки стали выходить неровные. Она отложила шитьё, и из карих глаз по бледным щёчкам потекли слёзы отчаяния. Пожилая горничная, которая в тот час составляла Алисе компанию по рукоделью, подошла к девушке и по-матерински погладила её по шелковистым волосам.
– Благодарю тебя, моя добрая Эффи, – промолвила девушка, немного успокаиваясь. – Ты ещё прислуживала моей бедной матушке и когда-то носила меня на руках. Ты сведуща в лечении человеческих мук и знаешь, как без слов унять душевные страдания. Мне уже и в самом деле лучше от одного лишь прикосновения твоих тёплых ладоней. Давай же снова приступим к вышиванию.
Старая служанка молча отошла к своему месту напротив камина и села за пяльцы. Алиса тоже взяла в руки иглу, но приступить к вышиванию в этот день ей уже было не суждено…
В комнату, где они сидели, осторожно и крадучись, словно охотник, выслеживающий дичь, нешумно вошёл Мастер Бернард. Увидев Алису, он робко приблизился к ней и произнёс:
– На сегодня моя работа закончена, и я зашёл намеренно, дабы попрощаться с вами до завтра, мистрис Алиса.
Девушка удивлённо подняла лицо, на котором ещё не прошли следы недавних слёз и переживаний.
– Однако, это весьма странно, Мастер Бернард, – ответила она всё ещё чуть дрожащим голосом. – Как правило, вы избавляете меня от необходимости каждый божий день здороваться и прощаться с вами.
– Это верно, мистрис Алиса. Потому как я человек благопристойный и не хочу докучать вам ради своего лишь неутихающего желания видеть вас, – согласился клерк.
– И почему же вы нынче изменили своему благонравию? – с иронией спросила девушка.
Мастер Бернард хотел было что-то сказать, но замялся и поглядел в сторону старой Эффи.
– Я бы хотел предложить вам помощь в одном деликатном деле, – тихо произнёс клерк, – но для этого мне необходимо переговорить с вами с глазу на глаз.
– Да за кого вы меня принимаете, Мастер Бернард, если полагаете, что я могу поступиться приличием и остаться наедине с молодым мужчиной! – негодующе воскликнула девушка, вспомнив в то же время – одновременно с удовольствием и смущением, – что вчера она так и поступила.
– О, мистрис Алиса, у меня самые честные намерения, – сказал клерк. – Но вопрос столь щекотливый – ибо речь идёт об одном хорошо известном вам человеке, попавшем в беду, – что вы вряд ли пожелали бы посвящать в него других лиц.
Бернард умолк и многозначительно поглядел на дочку своего патрона. Алиса минуту молчала, раздумывая над странными словами Бернарда, потом повернулась к старой горничной и сказала:
– Эффи, дорогая, надеюсь, ты не обидишься, если я попрошу тебя пересесть к окну и поплотней укутать голову шалью, чтобы тебя не продуло.
Старая горничная была слишком опытна, чтобы не понять, что от неё требуется, а потому безропотно пересекла комнату и примостилась в алькове у окна со своими пяльцами, бросив лишь строгий взгляд на клерка.
– Говорите, Мастер Бернард, только негромко, – тихо сказала Алиса. – Старая Эффи уже слишком глуха, чтобы услышать наш разговор. Итак, что вы желаете мне сказать?
– Мистрис Алиса, я хочу оказать вам одну весьма ценную услугу, – начал клерк.
– По правде говоря, лучшей услугой для меня будет, если вы оставите меня в покое, сэр счетовод, – отрезала Алиса. – Но всё же, чем же я обязана такой небывалой любезности с вашей стороны?
– Вы же знаете, как я к вам отношусь, – продолжил Мастер Бернард. – Вот уже много месяцев как я только и делаю, что думаю о вас. Ваш батюшка вселяет в меня надежду, ибо он весьма благосклонно относится к нашему будущему браку и, как вам известно, всецело поощряет его. Однако меня очень даже беспокоит ваше равнодушие, которое, мне хочется надеяться, всего лишь показное и происходит от свойственных вам скромности и добропорядочности. Месяц назад ваше отношение ко мне стало более благожелательным, и вы изволили одаривать меня ласковыми улыбками и приятными словами. Однако, после того как этого шотландского молодчика засадили в тюрьму, вы ни разу не улыбнулись мне и не сказали ни единого доброго слова. Надеюсь, что это происходит только от беспокойства за честь вашего дома, и я могу рассчитывать на вашу благосклонность. Хотя должен признаться, что меня весьма удручает сухость, которую вы проявляете ко мне в последние дни.
– Что ж, ваши тревоги вполне оправданы, Мастер Бернард, – заявила Алиса. – Если хотите знать правду, то вы мне просто противны. А коли батюшка будет настаивать на этом браке, то я лучше убегу из дому или прыгну с моста и утоплюсь в Темзе.
– Что вы, мистрис Алиса! Чем же вам не по душе наш брак? Ваш батюшка хвалит мои таланты в счетоводстве и говорит, что я весьма пригоден к коммерции. Он полагает, что лучшего продолжателя своего дела ему не сыскать, и в качестве приданного намерен сделать меня полноправным партнёром его торгового дома. К тому же моя внешность позволяет мне надеяться, что рядом со мной любая девушка будет казаться ещё красивей.
– Я не желаю слушать ваши фанфаронские речи! – резко сказала Алиса. – Вы меня обманули, ибо говорили о помощи попавшему в беду человеку, а заместо этого нахально домогаетесь моей руки и восхваляете свою никчёмную персону.
– Так я и веду к тому речь, мистрис Алиса, – мягко возразил клерк. – Теперь-то мне всё яснее ясного и я уверен, что вы многое отдали бы, чтобы избавить этого шотландского молодчика от петли. Разве не так?
– С чего вы это взяли, Мастер Бернард? – фыркнула девушка и, несмотря на навалившуюся на сердце тяжёлую каменную глыбу, продолжила с наигранным равнодушием: – Ронан Лангдэйл пользовался подобающим подопечному сэра Хью гостеприимством в доме его кузена, моего батюшки. Но раз суд признал его виновным в совершении страшного злодеяния, то разве не пристало всем благопристойным гражданам принять сторону правосудия? Мне остаётся лишь сожалеть, что этот юноша оказался столь порочен и злонамерен.
Клерк притворно вздохнул и разочарованно промолвил:
– Ну, коли так, мистрис Алиса, то прошу прощения, что превратно истолковал ваше шушуканье с сэром Хью и его ординарцем, и разрешите откланяться и пожелать вам доброй ночи.
– Подождите, Мастер Бернард, – остановила его девушка. – Я всё же, пожалуй, ради любопытства выслушаю, что вы изволите мне сказать касаемо этого несчастного, заблудшего юноши.
– Видите ли, мистрис Алиса, я много размышлял о вас, об этом юнце, – начал Бернард, – и составил summa summarium107, по которому выходит, что вы, быть может, даже не отдавая себе отчёта, стали проявлять неоправданную благосклонность к этому молодчику.
– Да как вы смеете! – прошипела девушка. – Кто дал вам право рассуждать обо мне так бесцеремонно?
– О, только мои чувства и добрые к вам намерения, мистрис Алиса, – вкрадчивым голосом ответил клерк. – А о благожелательности моих побуждений говорит то предложение, с которым я к вам пришёл… Мне по силам сделать то, что не можете ни вы, ни сэр Хью, а именно – вытащить из петли этого юнца, и даже оправдать его…
Алиса бросила на клерка изумлённый взгляд, недоверие в котором смешивалось с надеждой. И действительно, хотя ей и трудно было поверить в такие сверхъестественные способности Мастера Бернарда, но страстное желание видеть Ронана на свободе заставляло её верить даже в чудеса.
Надо заметить, что Мастер Бернард и в самом деле мог спасти Ронана, причём, без особого труда. Перед тем как осмелиться прийти с этим предложением к Алисе, клерк провёл долгие вычисления в своей голове, сопоставляя все deve dare и deve avere108. Страх перед правосудием, которое могло признать его соучастником преступления, боролся в нём с желанием как можно скорее назвать Алису своей женой и стать партнёром её отца, завладев половиной торгового дома. В итоге, корысть и желание обладать Алисой победили страх, и Бернард решил, что если заявит судьям, что всего-то за некоторую плату он взялся написать хорошим почерком и стилем письмо, смысл которого ему продиктовал некий Вильям Ласси, – не ведая при этом ни сном ни духом, зачем Ласси потребовалось это письмо, – то сможет избежать подозрения в соучастии в заговоре и убийстве.
– Возможно ли это? – дрожащим голосом спросила дочь негоцианта.
– Вполне, но всё зависит лишь от вас, дорогая Алиса, – елейным голосом произнёс Бернард.
– От меня? – ещё больше удивилась девушка.
– Вот именно, – уверил счетовод. – Впрочем, к чему нам ходить вокруг да около? Скажу прямо: стоит лишь вам сказать вашему отцу, что вы согласны покориться его воле и выйти за меня замуж, чтобы мы успели, – покуда он не отбыл на открытие новых путей нашего обогащения, – оформить нашу помолвку как полагается и подписать все бумаги между мной и вашим отцом. Как только сии формальности будут соблюдены, ручаюсь вам, я отправлюсь к шерифам, дам некие свидетельские показания и шотландца тут же должны будут выпустить.
– Ах! Так значит, вам каким-то образом известно, что Ронан Лангдэйл ни в чём не виновен! – гневно молвила Алиса. – И вы не заявили об этом лондонским магистратам, а спокойно дожидались, пока невинного человека приговорят к смертной казни!
– Расценивайте это, как знаете, мистрис Алиса, но я и так сказал вам чересчур много, – надменно произнёс клерк, почти не сомневающийся, что глупая женская чувствительность принудит девушку к капитуляции. – Как видите, я готов поступиться своей ревностью и сделать вам прекрасный свадебный подарок.
Алиса в своём гневе была достойна восхищения. На бархатистых щёчках её словно два бутона розы расцвёл яркий румянец. В карих глазах из-под длинных ресниц полыхало неистовое, сумасшедшее пламя, могущее, казалось, устроить пожар в комнате. С нежных, дрожащих губ вот-вот готово было сорваться грозное проклятие. Бернард смотрел на неё и восхищался, а строптивость девицы ещё больше подстёгивала его страсть.
– Я немедленно пойду к моему батюшке и всё ему расскажу о вашем гнусном предложении! – выпалила девушка.
– Что вы, мистрис Алиса? Каком предложении? Вам, верно, от душевных расстройств и переживаний последних дней стали мерещиться химерические картины… То же самое я скажу и вашему отцу. Он единственный, кто не догадывается о ваших симпатиях к шотландцу. Всё ваше будущее он связывает именно со мной, а успехи своего торгового дела – с моими феноменальными талантами, и будет очень расстроен, узнав о ваших пагубных предпочтениях. Неужели вам бы этого хотелось? А также того, чтобы повесили этого молодчика?
Алиса оказалась в полной растерянности. Она вдруг сникла и почувствовала себя словно загнанная охотниками лань. Все противоречивые мысли переплелись в её красивой головке, спутались в комок словно змеи и каждая пыталась прошипеть громче других. Девушка обхватила голову руками, как бы пытаясь заглушить это шипение, побледнела и почувствовала, что вот-вот упадёт. Мастер Бернард счёл эту её слабость за свою победу и стоял с торжествующим видом, ибо он представлялся себе уже полноправным партнёром торгового дома с двумя кораблями, большими складами на берегах Темзы и на континенте, а также хозяином красавицы жены.
– Мне… мне надо подумать, – запинающимся голосом прошептала Алиса. – Уходите.
Клерк почтительно поклонился и оставил комнату. Как только дверь за ним закрылась, Алиса бросилась к доброй Эффи и разрыдалась у неё на груди…
Не прошло и четверти часа, как дверь снова осторожно приоткрылась и в неё протиснулась ещё прикрытая кое-где клочками седых волос голова старины Гриффина.
– Что тебе надобно, старый хрыч? – недовольно пробурчала горничная.
– Ты на себя глянь-ка в зеркало! Ей богу, заплесневелая поганка, да и только, – любезно ответил дворецкий. – А пришёл я к мистрис Алисе. Там в сенях мальчишка стоит и утверждает, будто прибыл из Рисли-Холл и хочет немедля видеть сэра Хью.
– Ах ты, пустоголовая развалина! – проворчала Эффи, стремясь перещеголять дворецкого в изъявлении нежных чувств. – Ну, а причём здесь, скажи на милость, наша госпожа? Не видишь разве, что она не в духе?
– Так, сэр Хью нынче в Редклифе на кораблях ночует, обживается, – прошамкал старик. – А ординарец его, тот и подавно целыми днями где-то пропадает. Хозяин наш ещё за бумагами сидит и не велел его беспокоить. И что же мне с мальчишкой делать?
Алиса краем уха прислушалась к этому разговору, несколько отвлёкшему её от горестных мыслей. Она вспомнила, что Дженкин большую часть времени теперь проводил в Гринвиче; там, во дворце лежал больной король, и там же всё время находился Генри Сидни, от которого Гудинафу так не терпелось услышать новость о подписании прошения о помиловании.
– Приведи его сюда, Гриффин, – промолвила девушка. – Может быть, он со мной захочет поговорить.
Через минуту в комнате перед Алисой предстал подросток, на вид лет четырнадцати, с усыпанным веснушками живым лицом, хотя и покрытым тенью тревоги. Гордо выпяченная грудь и высоко задранный нос должны были являться, по мнению мальчишки, признаками осознания собственной значимости. Добротная короткая куртка обтягивала худощавое тело, по-видимому, не привыкшее к лени и излишествам, чем грешат многие слуги в богатых домах. Из-под шапочки с гусиным пером смешно топорщились пряди рыжих волос, а дубинка на поясе грозно свидетельствовала о том, что её хозяин может не только задирать нос, но и постоять за себя в случае надобности.
Алиса оглядела прибывшего и, будь это в другое время, она бы прыснула со смеху, глядя на напыщенного мальчишку, но, оставаясь ещё под впечатлением недавнего разговора с ненавистным женишком, сказала:
– Кто ты, мальчик, и что тебе надобно передать сэру Хью? Мой дядюшка ночует нынче в Редклифе, и потому ты можешь передать твоё сообщение мне или же остаться в нашем доме до утра и завтра увидеть сэра Хью.
– Ага, а вы, верно, мистрис Алиса Уилаби? Ну, я так и догадывался! – воскликнул мальчишка.
– О чём догадывался? – невольно спросила девушка.
– С вашего позволения, мистрис, свои мыслишки я покуда оставлю при себе. Как говорит моя матушка: не позволяй носу краснеть за грехи своего рта, – ответил бойкий паренёк. – А звать меня Эндри из Хилгай. Я состою пажом при его милости Ронане Лангдэйле, мастере Бакьюхейда. Эх, не хотел я его одного в Лондон отпускать, но он упрям как ослик отца Филиппа, когда наш капеллан тщится заставить его через ручей перейти – подавайте ему, видите ли, мостик через каждую лужу. Вот и велел хозяин мне в Рисли покуда оставаться. Ей-ей, был бы я рядом, я б за ним усмотрел, и болтали бы вы сейчас с ним, а не со мной. (При этих словах бледные щёчки Алисы слегка зарумянились). А как раз на Благовещение у меня пятка чесалась – ой как чесалась! – слов нету передать мои муки. И в самом деле, через несколько денёчков к нам гонец прискакал с письмом, что мастер Ронан в большую беду попал. Вот я на выручку сюда и подался, и надобно мне у сэра Уилаби все подробности выведать, что да как. И чем скорей, тем лучше.
– Надеюсь, я сама в состоянии удовлетворить твоё любопытство, – молвила Алиса и сделала знак слугам оставить их с мальчиком одних.
После того как старики, любезно пихаясь локтями и осыпая друга милыми колкостями, покинули комнату, девушка задала мальчишке несколько незначительных вопросов про Рисли, чтобы убедиться, что он тот за кого себя выдаёт. Эндри скоро понял, с какой целью его расспрашивают про такие пустяки, заговорщически подмигнул Алисе и сказал:
– Ей-ей, ежели кто-то скрытничает и осторожничает, значит, тому есть что скрывать. Ну, что, раскусил я вас, мистрис Алиса? Признавайтесь.
– Ах ты, пострел! – воскликнула девушка. – Просто счастье, что у Ронана такой смекалистый паж. И как смешно ты слова выговариваешь! Оставайся в этом доме и мы вместе придумаем, как выручить из беды твоего господина.
– Простите, мистрис, но задержаться здесь надолго я покуда не могу, – отказался Эндри. – Вы мне лучше рассказали бы всё про мастера Ронана: где он нынче и как. А я буду держать совет с… то бишь со своей головой, глядишь, вместе что и надумаем. Только вы мне сейчас всё как есть расскажите. А я к вам уж непременно снова зайду.
– Но почему ты не желаешь остановиться в нашем гостеприимном доме? – допытывалась Алиса. – К тому же две головы лучше одной.
– Всему своё время, мистрис, – уклончиво ответил Эндри и бесцеремонно уселся на лавку около девушки, всем своим видом давая понять, что готовится внимательно слушать.
Весёлостью и простотой общения мальчишка внушал Алисе полное доверие, хотя ей было непонятно, почему он не хочет остаться в доме. Девушка слышала раньше, как Ронан не раз упоминал своего честного и преданного, хотя и озорного слугу и порой даже цитировал его остроты и прибаутки. Поэтому Алиса не удивилась острому язычку и непосредственности пажа. Она поведала Эндри всё что знала, от начала и до конца, не упомянув лишь о своих личных чувствах и переживаниях. Алиса посвятила его в свой план спасения, рассказала про её посещение тюрьмы, про прошение королю и про болезнь последнего, пытаясь не упустить в своём рассказе ни малейшей детали.
Мальчишка слушал очень внимательно и с необыкновенно серьёзным видом, какой совсем не шёл к его смешливой физиономии. Иногда он с сосредоточенным видом настойчиво переспрашивал и уточнял все малейшие подробности. Можно было подумать, что это знатный лондонский негоциант выслушивает условия займа у ростовщика с Ломбард-стрит, а не мальчишка-слуга из далёкого шотландского замка внимает щебетанию молодой девицы.
После того, как он всё узнал про дела своего хозяина, Эндри засобирался и заявил, что ему пора уходить, и попросил никоим образом не сообщать мастеру Ронану о своём появлении в Лондоне, потому что он ослушался хозяина и покинул Рисли, хотя и с добрыми намерениями.
На все попытки Алисы уговорить его остаться и дождаться ужина, мальчишка ответил решительным отказом. Единственное, на что он с радостью согласился, так это прихватить с собой узелок с кое-какой снедью, оставшейся с обеда. После этого Алиса почти по-дружески попрощалась с юным пажом, который пообещал заглянуть к ней в ближайшее времечко и с озабоченным видом покинул дом в Саутворке. Девушка же принялась сочинять письмо Ронану.
Глава LIX
Отчаяние
После того, как Алиса покинула его «покои» в Ньюгейтской тюрьме, взгляд Ронана упал на корзинку с яствами. Где-то в ней были запрятаны верёвка и напильник – главные инструменты для совершения побега, которые во все времена тайно передавали невольникам сокрытыми в еде. По крайней мере, во всех прочитанных им романах именно с помощью этих нехитрых предметов узники умудрялись выбираться из самых страшных узилищ. Но то было в историях, написанных для развлечения читателей, а в жизни всё обстояло иначе. Ронан подошёл к узкому окну и взялся за решётку. Если перепилить прутья, ребёнок, может быть, и протиснулся бы сквозь это оконце, но уж никак не взрослый человек.
Узник распотрошил корзинку и вытащил оттуда верёвку и напильник. Минуту он поглядел на эти необычные гостинцы, вздохнул и спрятал бесполезные предметы в соломенный тюфяк с намерением выбросить их через окно в ров внизу, чтобы избавиться от улик, могущих обесчестить сэра Хью и опорочить Алису. Однако выполнить это благородное намерение Ронан не торопился, осмотрительно решив отложить прощание с этими сподручниками побега до ночи, когда снаружи никто бы не заметил выбрасываемых из окна предметов.
Заснул юноша с мыслями об Алисе, вытеснившими все прочие думы и переживания. Он ещё осязал в своей ладони тепло её нежных пальчиков. И это ощущение приятно волновало его молодую душу и вызывало сладкие грёзы, которые постепенно переросли в волшебные сновидения. Мы не осмелимся приводить здесь подробности этих юношеских снов, что, возможно, разочарует некоторых читателей, жаждущих описания самых сокровенных чувств героев романов, но автор вынужден просить прощения за то, что не готов вторгаться столь глубоко в сознание персонажей…
Пробуждение для Ронана было малоприятным, ибо ему пришлось из волшебной страны радужных снов опять перенестись в суровую действительность. Впрочем, он стал привыкать к таким метаморфозам своего сознания, ибо за последние ночи регулярно видел один и тот же сон, в котором ему казалось, что тюрьма, обвинение, суд – всё это ему пригрезилось во сне, и стоит лишь ему проснуться, как он вновь станет вольной пташкой, как и прежде. Но наступало настоящее пробуждение, которое приносило воспоминания о действительном судебном заседании, о леденящем душу смертном приговоре и о его единственном шансе на спасение – прошении о помиловании.
Юноша никак не мог представить себе, что через каких-то три недели – нет, уже даже меньше – его, такого молодого, сильного, полного планов и желаний вдруг не станет. В такую прекрасную весеннюю пору, когда весело светит солнце и просыпается всё живое, радостно щебечут птицы и так хочется жить, любить, мечтать. Нет, это просто невозможно, чтобы у него отобрали всё это, лишили возможности чувствовать и думать!
Будь он действительно виноват, ему, вероятно, проще было бы смириться с подобной мыслью. «Но ведь я совершенно ни в чём не повинен, – думал юноша. – Как Господь Бог может допустить такую несправедливость?» И вдруг его осенило: верно, на него свыше ниспослано испытание, чтобы малодушными сомнениями поколебать его веру. Ронан ухватился за эту ниточку надежды и начал себя убежать, что если не будет сомневаться, то божественное провидение рукой короля Эдварда дарует ему жизнь. Надо лишь верить во всемогущество всевышнего и безропотно ждать его милости.
О, как часто в минуты отчаяния и неопределённости мы обращаемся к Богу как единственному избавителю нас от горестной доли! Мы уповаем на него и просим о благостной помощи, забывая подчас, что помощь эта может прийти не со стороны, а изнутри нас самих. И такая забывчивость становится сродни пассивности. Увы, случилось такое в то утро и с нашим героем, уверовавшим в действенность прошения о помиловании. Пришло спокойствие, а тревожные мысли как будто безвозвратно исчезли. Как узник мог знать, что на самом деле все его беспокойства и страхи лишь затаились в самых потаённых закоулках души, готовые при первом же звуке горна ринуться в атаку…
В этот день арестанта никто не беспокоил, кроме Тернки, который пришёл спросить, не желает ли его милость получить обед из соседней таверны – за весьма умеренное воздаяние, разумеется. Ронан попросил тюремщика принести лишь пинту эля и больше ему не докучать. Он знал, что сэр Хью в этот день не появится, ибо дата отплытия кораблей приближалась, и хлопот у командора, связанных с этим знаменательным событием, ничуть не убавлялось, а скорее даже наоборот, становилось всё больше.
Освободившись упованиями на Господа от гнетущих мыслей, юноша предался своим мечтам. Он мыслил о далёком плавании, представляя себе бескрайние морские просторы, крики чаек, парящих над барашками вздымающихся волн, проплывающие на горизонте неизведанные, манящие берега. Воображение юноши рисовало ему корабли, упорно идущие на восход солнца под холодным северным небосводом – туда, где лежат волшебные земли Востока; каждый член команды был занят своим делом, и там, среди этих людей, находился он, полноправный участник морского похода.
Затем ход мыслей юноши вернулся к тому, кто был менее далёк во времени и расстоянии, хотя пока также досягаем лишь в фантазиях и сладких грёзах, а именно – к мистрис Алисе. Ему вспомнились ночные сновидения и его сразу переполнила безмерная волна нежности к этой девчушке, представлявшейся ему настоящим ангелом во плоти (иллюзия, присущая, впрочем, любому влюблённому). Ронану доставляло огромное наслаждение представлять милый, волнующий облик Алисы, полной весёлого задора или меланхоличной грусти, девичьего кокетства или скромной сдержанности, иногда взбалмошной и шаловливой или, наоборот, серьёзной и благонравной – так много всего было в этой необыкновенной девушке! Он ещё ощущал тепло её ладони, которая так долго покоилась в его руках накануне, робкое прикосновение её нежных пальцев. Как бы он желал когда-нибудь открыть ей свои чувства! Хотя, судя по всему, Алиса обо всём догадывалась, с волнующей радостью думал юноша, и чувства их были взаимными.
Но тут Ронан вспомнил о Мастере Бернарде, этом напыщенном типе со слащавой улыбкой и чересчур приятными манерами, и ядовитое жало ревности отравило такие сладкие юношеские грёзы. Ронан пытался гнать от себя мысли о сопернике и обуздать свои чувства. «В конце концов, у Алисы есть отец, который волен распоряжаться её судьбой по своему усмотрению и согласно родительскому праву, – сам себя пытался вразумить юноша. – А кто я таков? Не живой и не мёртвый. Весьма даже вероятно, что через пару недель эта неясность решится в пользу второго варианта. Но нет, это невозможно, потому что Господь не оставит меня своей милостью, король поправится и подпишет ходатайство. Однако в таком случае я отправлюсь в далёкий, полный опасностей путь, и обо мне скоро позабудут. Так к чему поддерживать в себе и бедной девушке эту безрассудную страсть? А быть может, давешний её порыв был всего лишь проявлением сострадания и желанием помочь».
Так рассуждал юноша, и здравый смысл в нём боролся с романтичными чувствами. Причём, последние явно побеждали, потому как Мастер Бернард скоро был забыт, и мысли об Алисе в сознании юного шотландца расцвели красивым весенним букетом. Ронан отбросил прочь всякую рассудительность и предался грёзам и фантазиям, чему немало поспособствовала бутылка великолепного вина, принесённого ему накануне…
На следующий день ближе к полудню появился Уилаби. По его серьёзному лицу Ронан сразу понял, что существенных новостей у командора нет, или пока нет, а потому даже не стал ни о чём спрашивать. То была самая короткая из всех их встреч в тюремной камере. Они обменялись всего несколькими фразами, сэр Хью передал юноше письмо от Алисы и с озабоченным выражением, за которым пытался скрыть все истинные свои чувства, покинул узника.
Разумеется, Ронан сразу же достал решётку Кардано и бросился с жадностью читать записку. И то, что он узнал из неё, перевернуло всё у него внутри.
Алиса написала, что по пути от камеры Ронана до наружной двери тюремщик позволил себе распустить руки с целью обесчестить её, но получил твёрдый отпор. Едва только юноша узнал об этом, как волна возмущения вздыбилась в его гордой шотландской душе. Как! Какой-то презренный английский тюремщик осмелился прикоснуться к дорогому его сердцу милому созданию! Негодование разом переросло в ненависть, и в этот момент Пёс Тернки, не подозревая о том, превратился в глазах Ронана из простой, жадной до подачек дворняжки в хищного волка, поджидающего в зарослях кустов свою жертву, и, несомненно, заслуживающего беспощадной травли и стрелы охотника.
Не успел Ронан прийти в себя после столь злого намёка Алисы в адрес сладострастного Тернки, как был ошарашен признанием девушки в том, что Мастер Бернард требует немедленной помолвки, за что он обещает вызволить Ронана из тюрьмы, ибо обладает некими доказательствами его невиновности. Алиса написала, что у неё не остаётся другого способа спасти Ронана от смерти, но она хотела бы оттянуть своё согласие на предложение Мастера Бернарда, пока остаётся хоть капля надежды на помилование короля.
Узник вскочил на ноги и принялся неуклюже вышагивать по камере, тщетно пытаясь унять охватившую его ярость. Этот Бернард всё знал! Вероятно, он и помог Фергалу засадить его в тюрьму, а теперь намеревался заполучить Алису, каким-то образом выгородив Ронана. «Как только я выберусь отсюда, я, в первую очередь, разберусь с этим негодяем, – мстительно думал узник. – Он узнает крепкую шотландскую руку, пусть даже мне придётся покинуть дом купца Габриеля Уилаби». Ронан метался по камере, словно разъярённый лев в клетке, грохотал своими оковами, в порывах бешенства и бессильной злобы колотил руками по стенам и двери, изрыгал страшные проклятия. Все копившиеся в его душе чувства, которые разум узника долгое время держал под контролем, вдруг разом вырвались на волю подобно тысячи неукротимых демонов. Юноша бушевал и неистовствовал словно безумный. Казалось, вся Ньюгейтская тюрьма содрогается от остервенелых ударов и ужасного рёва.
На шум, ворча, пришёл тюремщик, приоткрыл оконце в двери, увидел разъярённого арестанта и спросил, что вызвало недовольство его милости. В ответ Ронан бросился к двери и, потеряв самообладание при голосе Тернки, попытался пальцами сквозь зарешеченное дверное оконце дотянуться до противной физиономии. Тюремщик, привыкший, вероятно, к подобным сценам, проворно отпрянул от двери и пробормотал с явным огорчением:
– Эх, и этот рассудком тронулся. Теперь от него воздаяний не дождёшься.
Появление Пса Тернки ещё более распалило Ронана, и он с бешеным остервенением продолжал метаться по камере и выкрикивать безумные проклятия.
Хотя Ронан по натуре своей человек был вовсе не злой и уравновешенный, но ревность, чувство жестокой несправедливости и ненависть к человеческой подлости подогревали его и сводили с ума. Однако постепенно сквозь этот ураган присущих человеческой природе чувств, недобрых и порой даже пагубных, и, наверно, благодаря именно им и на их почве, стали пробиваться ростки более благих и сильных желаний. Ронан был юн, он любил, у него были мечты. А потому нет ничего удивительного в том, что скоро огромный шквал жажды жизни и стремления к свободе налетел на юношу, перехлестнув злые чувства. Этот поток эмоций был такой силы, что Ронан чувствовал себя способным разорвать удерживавшие его руки оковы и вырвать железные прутья на окне, даже выломать дверь не представлялось ему чем-то непосильным. И как они смеют его, невиновного человека, удерживать в этой проклятой башне вместе с ворами и убийцами!
Прошло, наверное, с полчаса, и этот неожиданный пароксизм страстей оставил юношу так же внезапно, как и появился. Ронан в недоумении остановился и без сил опустился на табурет, ничего не понимая. Такого никогда с ним ещё не случалось, чтобы он настолько терял контроль над своим рассудком, отдавался на волю чувств и эмоций, а уж тем более впадал в бешенное исступление. На миг ему стало стыдно. Но тут взгляд юноши упал на письмо, и он вспомнил, чем был вызван этот приступ. Ронан снова перечитал послание и задумался. Пока эти негодяи и настоящие преступники наслаждаются свободой и безнаказанно строят козни, он, словно агнец в преддверии заклания, безропотно ждёт, когда наступит его черёд отправиться на виселицу, теша себя слабой надеждой на выздоровление и милосердие короля. Какой глупец! Ничтожество! Друзья прикладывают все усилия для его освобождения – и командор, и Алиса с Дженкином, – а он сидит сложа руки и развлекает себя бесплодными мечтаниями.
Ронану стало вдруг безмерно стыдно за своё бездействие. Он упрекал себя за слабость духа и вспоминал, как несколько месяцев назад сам в душе укорял Джорджа Уилаби, сына сэра Хью, за праздность жизни и сибаритство. Сознание Ронана вдруг возмутилось подобно ставшей на дыбы лошади. Нет, он отринет прочь постыдное бездействие и не станет отравлять свой дух сладкими грёзами!
Юноша тут же написал короткое письмо Алисе, где заклинал её ни в коем случае не соглашаться на низменное предложение клерка, ибо он, Ронан, предпочитает скорее умереть, чем стать причиной неисправимого несчастья Алисы. Также юноша сообщил, что постарается с пользой употребить принесённые ею «лакомства».
Покончив с письмом, Ронан внимательно осмотрел свои оковы. Запястья и лодыжки охватывали прочные широкие обручи, соединённые между собой тяжелыми цепями, не позволявшими сделать большой шаг или развести руки в стороны. Кроме того, на ножной цепи была прикреплена тяжеленная гиря, ещё больше затруднявшая движение. Обручи на руках и ногах были туго сжаты и закрыты увесистыми замками, дужки которых проходили сквозь проушины в боковых отгибах на обручах. Тюремщик как-то проговорился ему, что хотел было изначально заклепать обручи, но это добавило бы Тернки лишней работы, причинило бы арестанту изрядно боли и обошлось бы, конечно, чуть дороже. Но смекнув, что юный джентльмен скорее всего пожелает отдельные покои – где не будет сокамерников, среди которых попадаются умельцы отмыкать замочные механизмы, – Тернки решил облегчить себе жизнь и закрыть обручи на замки.
В общем-то, узник давно уже изучил навешанные на него вериги. Ведь он прожил в них уже чуть ли не месяц и стал привыкать к этому атрибуту своего одеяния. Теперь же они вызывали у него омерзение, причём, ещё большее, чем в первый день заключения. «От них нужно избавиться!» – твёрдо решил Ронан. Что делать после этого – уже другой вопрос, над которым можно поразмыслить по ходу дела или позже. Но сперва необходимо было сбросить эти железки и не чувствовать себя более напрочь беспомощным.
Этой же ночью Ронан и приступил к осуществлению поставленной задачи. Он дождался вечернего обхода Тернки, который положил в оловянную миску перед ним небольшой кусок варёной говядины и поставил кувшин с водой, заметив при этом с довольным видом, что очень рад возвращению рассудка к юному джентльмену и надеется и дальше оказывать услуги его милости за весьма умеренное воздаяние. Ронан презрительно промолчал и не издал ни звука. Он выждал, пока шаги тюремщика не стихли в переходах, выбросил вонючее мясо в оконце и достал из тюфяка напильник.
Сначала он вознамерился перепилить дужку замка на левом запястье, но замок съезжал в проушинах, постоянно соскальзывал и как-либо зажать его и зафиксировать не было никакой возможности. Узник понял, что единственный способ избавиться от оков на руках это перепилить боковины с проушинами. От края боковых пластин до проушин было около двух дюймов, да и сама пара боковин была толщиной с мизинец, а поэтому работы предстояло много.
Узник зажал левую руку между колен, решительно провёл напильником по боковинам и тут же в испуге остановился. Раздался страшный металлический скрежет, который, конечно, не мог быть не услышан в камере снизу и коридоре. Пришлось стащить дерюгу с тюфяка и обмотать ею левую руку, чтобы таким образом заглушать скрежет напильника. Просунув другую руку сквозь дерюгу, юноша вновь принялся за работу, на этот раз более медленно и осторожно.
Ронан пилил всю ночь, в кромешной темноте, иногда останавливаясь и прислушиваясь, не слышно ли шагов потревоженных тюремщиков. То ли сон у них был чересчур крепкий, или же узник слишком осторожен и предусмотрителен, но только никто не прервал упорный труд юноши.
Он работал с упорством и остервенением, с каким угодившая в паутину мушка бьётся и трепыхается, стремясь вырваться из страшной ловушки и улететь, в то время как огромный паук медленно и неумолимо подбирается к жертве. Ронан не замечал, как летит время, не обращал внимания на боль в саднящей ладони и усталость, позабыл о сне. Юноша горел одним только желанием – скорей избавиться от ненавистных оков. Он исступлённо пилил и пилил, без перерыва и отдыха, и пришёл в себя, лишь когда сквозь щель в ставне начал пробиваться утренний свет, а снаружи доноситься карканье ворон и как будто вторящий им звук колокола на недалёкой церковной башне. Ронан остановился и почувствовал неимоверную усталость, мышцы правой руки болели, ладонь покрылась кровавыми волдырями. Юноша спрятал напильник, растянулся на тюфяке и мгновенно уснул.
Разбудил его приход Тернки, который принёс заплесневелый кусок ржаного хлеба – обычный утренний рацион в Ньюгейтской тюрьме, – положил его на табурет и помедлил некоторое время в камере, подозрительно к чему-то принюхиваясь и косясь на недвижно лежащего арестанта. В тревоге Ронан замер и притворился спящим, ибо опасался, что если скинет служившую в качестве одеяла дерюгу, то Тернки может заметить на его руках следы ночной работы, и тогда – крах всем его планам. Однако алчный тюремщик лишь делал подозрительный вид, а на самом деле, догадываясь, что узник только притворяется спящим, выжидал, что, может быть, юноша как обычно соизволит получить более приличную еду – за умеренное воздаяние, разумеется. Однако в этом Тернки постигло сильное разочарование, ибо узник даже и глаз не соизволил открыть, и тюремщику пришлось уйти ни с чем.
Подождав некоторое время, Ронан поднялся, открыл ставень и при дневном свете осмотрел свои руки. Зрелище предстало нерадостное: боковины на левой руке были пропилены только лишь на четверть дюйма, а волдыри на не привыкшей к такой работе ладони полопались и сочились сукровицей. Получалось, что если каждую ночь выполнять такой объём работы, то перепилить все боковины удастся в лучшем случае лишь через месяц. А времени у Ронана оставалось вполовину меньше. Да, для юноши это было весьма неприятное открытие. Теперь, чтобы успеть перепилить все оковы требовалось идти на риск и работать не только ночью, но и в дневное время, когда тюремщики шныряли по коридорам и лестницам от камеры к камере, разносили жалкую еду, проверяли, не помер ли кто из узников (достаточно частое явление в Ньюгейтской тюрьме в те дни), уводили преступников, чей черёд пришёл подвергнуться наказанию (обычно смертной казни), а также приводили новых «постояльцев». Но самым опасным было появление Тернки, предугадать которое можно было лишь приблизительно. К тому же Пёс мог заметить пропилы на оковах узника, скрыть которые требовало от Ронана чрезвычайной смекалки и осмотрительности.
Открыв ставню, чтобы по тени на полу можно было примерно определить время и подготовиться к приходу тюремщика, юноша снова принялся за работу. Поскольку правой рукой он работать уже не мог, то пилил левой другую боковину. Теперь он был уже умнее и обмотал левую ладонь платком, а также изредка делал небольшие перерывы. Время от времени Ронан поглядывал на тень – много ли ещё времени осталось до прихода тюремщика – и постоянно напрягал слух, чтобы успеть прекратить работу и спрятать напильник при первом признаке тревоги. Когда церковный колокол ознаменовал наступление полудня, Ронан убрал напильник, закрыл ставень и лёг на тюфяк, накрывшись дерюгой. Через полчаса пришёл Тернки, налил в миску жидкой гороховой похлёбки, положил рядом перепрелую луковицу и в недоумении уставился на узника, ибо тот как и утром недвижимо лежал на тюфяке, лишь глаза были слегка приоткрыты. Тёрнки не выдержал и сочувственно промолвил:
– Видать, хандра на вас напала, сэр. Что ж, это случается. Только не лучше ли вам последние денёчки на этом свете прожить в радости и довольстве? Девицу я вам привести, конечно, не могу, ибо это совсем не по правилам, а вот жаркого и вина доставить мне по силам – за весьма…
Договорить Тернки не успел, потому что Ронан, на которого намёк на Алису в устах проклятого тюремщика подействовал как красная тряпка на быка, забыл осторожность, откинул дерюгу и гневно крикнул:
– Убирайся прочь, негодяй!
К счастью для узника, ошарашенному Тернки было не до разглядывания в полумраке оков, и тюремщик снова вынужден был ретироваться без «умеренного воздаяния», бормоча себе под нос:
– Чёрт возьми, какая муха его укусила!
Едва лишь тюремщик убрался, Ронан вновь взялся за работу, забыв даже поесть. Лишь ближе к вечеру, сделав очередной перерыв, он почувствовал сильный голод и проглотил холодную еду, не обратив даже внимания на её отвратительный вкус. «Да лучше я умру с голоду, чем дам ещё хоть один фартинг этому мерзавцу! – думал юноша. – К тому же не стоит показывать ему мои руки». Поэтому вечером жалкий кусок мяса уже не полетел в окно, а Пёс Тернки стал ещё угрюмей.
Узник снова работал почти всю ночь, позволив себе лишь пару часов предрассветного сна. Утром пришёл Уилаби и сразу заметил, как за два прошедших дня осунулся юноша и каким лихорадочным огоньком искрятся его глаза. Новостей опять не было, но Ронан уже их не ждал, хотя, может быть, где-то далеко в глубине души ещё теплилась надежда на помилование. Однако узник запретил себе думать о чудесах и предаваться мечтам, ибо все его помыслы были только об одном – скорее сбросить оковы.
Расставаясь с командором, Ронан отдал ему записку для Алисы и смущённо попросил в следующий раз принести ему снеди, объяснив это тем, что не хочет больше брать съестное из грязных рук тюремщика.
Чем меньше дней оставалось до казни, тем быстрее летело время. Ронан трудился днём и ночью. Боязнь опоздать подстегивала его. Через четыре дня он наконец-то перепилил боковины на правой руке. Теперь можно было, используя напильник как рычаг, отогнуть боковины и вытащить замок. Но предосторожности ради спешить с этим Ронан не стал. К тому времени зажила правая ладонь, и юноша заново принялся за оковы на левой руке.
Он не думал почти ни о чём и только иступлёно работал. От бессонных ночей под глазами образовались большие тёмные круги и постоянно хотелось спать. Часто, когда в ожидании прихода тюремщика Ронан ложился на тюфяк, то измученный недосыпанием он мгновенно проваливался в сон. Однако постоянное состояние тревожной бдительности не покидало его даже во сне, и стоило лишь заскрежетать засову, юноша сразу просыпался и лежал с открытыми глазами, глупо уставившись в потолок, только бы тюремщик ничего не заподозрил.
Однако недосып был столь велик, что однажды Ронан проснулся, лишь когда Тернки, вошедший в камеру и увидевший лежащего с закрытыми глазами и, казалось, бездыханного узника, вознамерился проверить, не помер ли тот, подошёл к Ронану, нагнулся и стянул с него рогожу, чтобы проверить бьётся ли пульс. Думать было некогда, и очнувшийся юноша со всей силы ударил Тернки в грудь. Тот отшатнулся и злобно зарычал, словно мастифф, получивший от хозяина незаслуженный пинок.
– Мне ужасно плохо и меня сильно лихорадит, – крикнул Ронан, быстро натягивая рогожу по самые глаза, – а ты, Пёс Тернки, вознамерился содрать с меня последнюю тёплую шкуру, чтобы я околел от холода в этой твоей конуре. Сколько тебе ещё дать денег, чтобы ты никогда не прикасался ко мне своими грязными лапами?
У тюремщика не хватило наглости требовать плату за подобную услугу, и он, сетуя на такую ужасную к себе немилость со стороны человека, к которому он относится как к родному сыну, оставил узника в покое и покинул камеру…
До страшного дня оставалась уже неделя. Осуждённый на смерть работал не покладая рук. Ронан уже привык довольствоваться лишь парой часов сна и опасался больше не столько пропустить в своей дремоте приход тюремщика, сколько не услыхать его ухода и втуне проспать драгоценные часы.
В свою очередь Пёс Тернки, уже отчаявшийся выудить у юноши ещё какие-либо «воздаяния» и решивший, что в ожидании неминуемой смерти тем овладели уныние и апатия, не пытался больше даже заговорить с узником и утешал себя мыслью, что за счёт этого «постояльца» он и так уже изрядно разбогател…
Наконец-то оковы на руках были перепилены. Работать стало легче и быстрее, так как теперь Ронан мог поочерёдно менять руки и не терять время на лишние паузы. Одновременно, видя, что его высвобождение от цепей уже близко, юноша стал задумываться, как он сможет использовать такую «свободу», если, конечно, успеет вовремя её обрести.
Первоначально он намеревался напасть на Тернки, когда тот принесёт очередную порцию жалкого рациона, отобрать у него ключи от внешней двери, спуститься вниз по запутанным лестницам и переходам, отпереть дверь и убежать. Это был тот простой и наивный план, который предложила когда-то Алиса. Однако, помыслив здраво, юноша понял, как мало шансов у него на успех. Тернки мог поднять тревогу, по коридорам в это время ходили другие тюремщики, разнося еду, у внешней двери наверняка всегда дежурит кто-то из тюремщиков, а на площади перед самым входом в тюрьму находился многолюдный рынок, и честные лондонские горожане тут же схватили бы беглеца.
После долгих раздумий под аккомпанемент глухого скрежета напильника Ронан понял, что, несмотря на неимоверный риск, ничего иного у него не остаётся. Узник лишь чуть поменял план побега. Он нападёт на Тернки, свяжет его и заткнёт тому рот тряпкой. Убивать же тюремщика и тем самым становиться настоящим преступником и убийцей, заслуживающим виселицы, было для Ронана мерзко и противно, хоть он и ненавидел Тернки всей душой. После этого, решил юноша, он наденет на себя куртку Тернки, его шапку и пояс со связкой ключей и окованной железом дубинкой. В таком виде он сможет в тёмных, узких тюремных переходах сойти за одного из тюремщиков. Так же, как и с Тернки, он поступит с дежурящим у наружной двери тюремщиком, после чего как ни в чём не бывало выйдет из тюрьмы, смешается с толпой на рынке и шаг за шагом удалится всё дальше и дальше от Ньюгейтских ворот.
Конечно, и в этом плане было множество изъянов и рисков, и, вероятно, ему не удастся выйти из тюрьмы живым. Всё это узник хорошо понимал. Но что ему оставалось делать? Сидеть и глупо предаваться грёзам, надеясь на помилование? Нет уж! Более того, Ронан с досадой думал о двух потерянных драгоценных днях. И не будь письма от Алисы, он, возможно, и сидел бы сложа руки, теша себя надеждой на помилование, надеждой, которая с каждым уходящим днём становилась всё меньше. Да от такого дурацкого ожидания и безделья, думал юноша, я сошёл бы с ума! Ах, дорогая, милая Алиса! Но нет, не думать о ней! Осталось лишь несколько дней, а работы ещё невероятно как много.
Визиты командора стали короткими, хотя и оставались регулярными – каждый второй день. Чувствовалось, что ему хочется ободрить узника, но, увы, поводов для того не было. Он оставлял Ронану узелок со снедью и, чтобы избежать тягостного молчания, быстро уходил, тем паче, что узник и не пытался удержать его какими-то расспросами и прочими разговорами, а как будто, напротив, проявлял странное нетерпение и желание поскорее остаться наедине. Сэр Хью лишь дивился непонятному хладнокровию юноши, не догадываясь, что на самом деле под этой маской скрывались твёрдая решимость и отчаянное желание вырваться на свободу или… достойно умереть.
Глава LX
Пиррова победа
Если для Ронана, целиком и полностью поглощённого подготовкой задуманного им плана, последние дни в Ньюгейтской тюрьме пролетали с быстротой падающей с неба звезды, то для Алисы они тянулись так же медленно, как рос рисунок на её вышивке. Каждый раз, когда Дженкин Гудинаф прибывал из Гринвича, она бежала к нему в надежде услышать радостную весть, но встречала понурый взгляд ординарца и невероятная тоска вновь сжимала ей сердце. Девушка бродила по дому не находя себе места. Едва она бралась за вышивание, как тут же мысли её улетали вдаль и игла падала из рук. Добрая Эффи качала головой, но помочь госпоже не могла ничем, кроме своего молчаливого сочувствия.
Безрадостные, горестные думы полностью завладели девушкой. Ведь до страшного действа оставался только один день. Если к завтрашнему вечеру помилование королём не будет подписано – а надежды на это уже почти не оставалось, – то на следующее утро несчастного Ронана… Алиса не могла произнести это слово ни вслух, ни про себя. Единственное, чем она могла себя тешить, так это упованием на то, что юноше удастся с помощью переданного ей напильника освободиться от оков и, преодолев все преграды на своём пути, вырваться на свободу. Но и на это времени оставалось всё меньше. К тому же Алиса Уилаби понимала, как химерична эта затея и насколько призрачна надежда на спасение и в этом случае. Во всём доме купца Габриеля царила некая траурная тишина, не было привычной суеты, слуги понимали причину горести и старались не шуметь.
Алиса, у которой всё валилось из рук, печально сидела около Эффи, единственного человека, кто её понимал, мог приласкать и пожалеть. Снова, как и две недели назад, тихо открылась дверь и вошёл Мастер Бернард. Однако на сей раз он почёл излишним стучаться, да и держался куда уверенней, почти по-хозяйски. Ещё бы! Ведь через несколько дней Габриель Уилаби поднимется на борт корабля, а он Бернард, останется в его доме полным хозяином.
Девушка взглянула на лицо вошедшего и сразу догадалась, зачем он пришёл. Она не встречалась с Мастером Бернардом всё это время – то ли потому, что подсознательно избегала мест в доме, где он мог появиться, то ли из-за того, что счетовод сам старался до поры до времени не попадаться ей на глаза.
– Я хотел бы возобновить наш последний разговор, мистрис Алиса, – сразу, без обиняков начал клерк, даже не обращая внимания на старую горничную. – Вы просили предоставить вам время подумать, и я не смел противиться вашему желанию. Однако же у вас было две недели на размышления, а ведь завтра – последний день, когда я буду в состоянии вам помочь, ежели вы того, конечно, пожелаете.
Несчастная девушка за это время напрочь забыла о том разговоре, ибо по настоянию Ронана, высказанном им в последнем письме, давно уже решилась отвергнуть низкодушное предложение клерка. Сейчас, однако, в своём отчаяние она вновь готова была пожертвовать своей судьбой ради спасения дорогого её сердцу человека, и слова «Да, я согласна» готовы были уже слететь с её губ. Однако, Алиса замялась, как бы раздумывая, и затем сказала:
– Мастер Бернард, ваше появление сейчас было столь неожиданно, что я, признаться, растерялась и моя голова просто кругом идёт. Могу ли я попросить вас дать мне время собраться с мыслями и подождать с полчасика в гостином зале?
Клерк снисходительно улыбнулся, ибо его самолюбие шептало ему, что победа близка, а в его ушах слышался уже торжественный барабанный бой, отбиваемый костяшками абаки под аккомпанемент звона золотых соверенов.
– Конечно, мистрис Алиса, – согласился он. – Что значит полчаса для человека, ждавшего так долго, чтобы сделать столь важную запись в своём giornale?
Бернард поклонился и довольный покинул комнату, предвкушая, как скоро сбудется его мечта.
Когда клерк ушёл, Алиса взглянула на свою горничную, на простодушном лице которой были написаны озадаченность и непонимание. Девушка ласково улыбнулась ей сквозь горестную пелену на своём личике и сказала:
– Добрая Эффи, к тебе у меня тоже будет просьба. Хоть ты старенькая и память зачастую тебя уже подводит, но ты, быть может, ещё помнишь, что за этой стеной находится другая комната, куда отсюда ведёт дверь. Сейчас за ненадобностью эта дверь закрыта и занавешена гобеленом. Так вот, пойди к моему батюшке и передай ему, что я очень прошу… нет, скажи, что умоляю его через полчаса быть в той комнате и послушать разговор, который состоится здесь. Что и говорить, подслушивание считается неблаговидным поступком, но в данном случае речь идёт о судьбе двух самих дорогих для него чад: его торгового дела и его послушной дочери – уж, право, не знаю, какое из них для него дороже.
– Не возьму что-то я в толк, к чему тебе, моя голубка, всё это понадобилось, – пробормотала Эффи, глянула на безрадостное личико своей госпожи, взгляд которой был мрачен, но непреклонен, и добавила: – Сделаю всё, как велишь, золотце.
Несколько минут Алиса в полном одиночестве предавалась своим горьким думам, пока снова не появилась старая горничная.
– Всё пишет и пишет что-то ваш батюшка, – проворчала Эффи. – Весь стол бумагами завален. Со дня на день уплывает на край света, а он всё работает. Чай, отдохнул бы перед дальней дорогой, с дочкой поговорил, ан нет, дела важней, видать.
– Так, он придёт? – нетерпеливо спросила Алиса.
– Поворчал про дела свои такие уж срочные, что никак нельзя их незавершёнными оставить, – ответила старая женщина, – про легкомысленную дочку упомянул, которой замуж давно пора. А про причуду твою так сказал: «Коли я не уезжал бы надолго, так нечего было бы баловать и потакать её выдумкам, но поскольку одному Богу ведомо, когда теперь свидимся, то, что ж, уважу ей прихоть».
– Придёт. Это хорошо, – промолвила девушка. – А ты, Эффи, сядь-ка опять в альков к окошку и голову шалью закутай, чтобы этот противный счетовод был уверен, что его слова никто не услышит, кроме меня одной.
Через полчаса, как и было договорено, снова явился Мастер Бернард, сияющий и довольный.
– Как вы и просили, мистрис Алиса, я пришёл ровно через полчаса, – сказал клерк, – дабы услышать ваш ответ, что вы акцептуете моё милостивое предложение, словно самый надёжный вексель.
– С чего это вы взяли, Мастер Бернард, что я приму ваше предложение? – спросила Алиса с нескрываемым отвращением.
– Прошу прощения, мистрис Алиса, но мне кажется, будто я ослышался, – сердито произнёс клерк. – Прошлый раз я дал вам ясно понять, что мне от вас нужно и на что я готов ради этого, и я, право слово, надеялся, что вы прибегнете к своему рассудку и примите правильное решение.
– Вероятно, я не совсем правильно поняла вас, сэр, – сказала Алиса. – Я буду признательна, ежели вы ещё раз поясните, в чём состоит ваше предложение.
Бернард недоумённо уставился на девушку, не в силах ничего понять.
– Что за игры вы со мной играете, мистрис, – произнёс он недовольно. – В тот день я толковал о нашем браке и выразил желание о скорейшей помолвке.
В этот миг из-за гобелена послышался странный шорох. Бернард подозрительно покосился на стену и испуганно спросил:
– Вы слышали? Что это?
– Фи, – презрительно фыркнула Алиса. – Так вы, оказывается, ещё и трус, раз мышей боитесь! А ещё в женихи мне, потомку славного сэра Дэвида Линдзи набиваетесь…
– Нет, что вы! – возразил клерк. – Я не боюсь ничего на свете, разве что в счетоводной книге запись не с той стороны сделать… Ну, так как, теперь вы вспомнили, о чём был наш разговор?
– Да, припоминаю смутно, – неуверенно произнесла Алиса, – но, как будто, тогда в обмен на моё согласие вы предлагали что-то взамен…
– Неужели вы об этом запамятовали? – спросил клерк, который упорно не мог понять, с какой стати на Алису напало подобное «беспамятство».
– В последнее время у меня хватает неприятностей, – ответила девушка. – Что же в том удивительного, что я стала такой рассеянной и забывчивой? А вы даже не соблаговолите освежить мою память.
– Что ж, я со всей готовностью напомню вам обо всех деталях того разговора, – резво заявил Бернард, потом вдруг осёкся, подозрительно сощурил глаза, что-то соображая, и затем продолжил размеренным и плавным голосом: – Действительно, я предлагал вам взамен весьма важную услугу, которая заключается в том, что я…
Алиса затаила дыхание и ждала. Ей очень хотелось, чтобы её отец услышал собственными ушами то низменное предложение, с которым посмел прийти к ней его счетовод. Она полагала, и весьма разумно, что тогда у почтенного негоцианта наконец-то откроются глаза и он поймет, какую змею пригрел в своём доме.
– Что вы… – нетерпеливо продолжила девушка.
– В обмен на ваше благосклонное согласие, мистрис Алиса, – продолжил клерк, – я предлагал вам любовь столь же крепкую, как несокрушимы замки на складе нашего торгового дома в Детфорде, и заботу о нашем благополучии столь же великую, как и внимание, с которым ваш батюшка беспокоится о ларе с деньгами и важными бумагами в своём кабинете.
– Неужели… неужели это всё, чем вы намеревались… вырвать у меня согласие? – запинаясь от волнения, спросила Алиса.
– А что же ещё нужно для нашего счастья и что же ещё может обещать любящий человек? – вопросом ответил Бернард.
– Помнится, вы упоминали о какой-то услуге, которая была бы встречена с радостью всеми в этом доме, – сказала девушка, пытаясь заставить счетовода вслух упомянуть о его способности оправдать Ронана.
– Осмелюсь заметить, что все мои вам обещания направлены на благо ваше и вашего дома, – сказал Бернард. – Я хочу вас уверить, мистрис Алиса, что все свои клятвы и ручательства я начну выполнять немедленно, как только вы объявите вашему батюшке о нашей безотлагательной помолвке, которая тут же и должна состояться.
Клерк наигранно улыбнулся и с насмешкой посмотрел на Алису, которая начала догадываться, что по каким-то причинам тот упорно не хотел вслух повторять своё предложение. Бедная девушка выглядела весьма растерянной, но сдаваться не собиралась.
– Мне кажется, вы говорили, что можете доказать невиновность нашего гостя, – напрямик заявила Алиса, которой ничего другого уже не оставалось.
Бернард давно уже заметил, что купеческая дочка упрямо жаждет от него повторения именно этих слов. Хитрый клерк подумал, что такая её настойчивость неспроста, и решил с таким же упорством увиливать от громогласного повтора своего предложения.
– Разве? – сделал удивлённый вид Бернард. – Возможно, что в порыве своей страсти я так много вам наобещал, что не всё и упомнил. Однако, мистрис Алиса, осмелюсь повторить ещё раз, что выполню все свои обещания, как бы там ни было… и вам известно когда.
Их взгляды встретились, и девушка поняла, что Бернард специально избегает говорить о Ронане. Может быть, он догадывается о чём-то? Разговор стал похож на игру в кошки-мышки. От отчаяния слёзы навернулись Алисе на глаза – всё её усилия оказались тщетными. Умному и талантливому клерку, умевшему просчитывать всё на свете, казалось, что Алиса вот-вот сдастся окончательно, и он самодовольно ждал, когда же она даст своё согласие. Он ничуть не удивился, когда девушка вдруг разрыдалась и бросилась к сидевшей у окна старой горничной. По мнению Мастера Бернарда, смотревшего снисходительно на подобное проявление чувств, его будущей жене трудно было пока смириться с необходимостью выйти за него замуж. Но что ей оставалось делать? Ведь в противном случае она, можно сказать, собственноручно затянет петлю на шее шотландца.
Видно, ласковые ладони Эффи сделали своё дело, потому как через некоторое время Алиса оторвала заплаканное лицо от передника горничной и встала напротив клерка. Искры отчаяние горели в её глазах, но взгляд был полон решимости. С минуту они глядели друг на друга.
– Я… я… – нарушила молчания Алиса, – я вас ненавижу, вот что я вам скажу! И никогда, слышите, никогда вам не видать моей руки! А теперь убирайтесь вон с моих глаз, негодяй и подлец! И будьте уверены, я найду человека, который защитит меня и моего батюшку от ваших посягательств и отомстит за всё зло, что вы сделали!
Мастер Бернард застыл на месте, раскрыв от удивления рот и не веря своим ушам. Да уж, не такой ответ он ожидал услышать! Прошло несколько минут, пока застывший как столб и оторопело уставившийся в пустоту счетовод смог прийти в себя. Он бросил злой взгляд на Алису, на горничную и с мрачной улыбкой сделал то, о чём его попросили, а именно – поспешно выскочил из комнаты.
Эффи размотала голову, глянула на кусавшую от досады губы Алису и ворчливо спросила:
– И чего это он к тебе, золотце, повадился? Небось, в женихи набивается, да? Молчишь. Ну, впрочем, это не моё старушечье дело. Тебе с батюшкой своим и решать, а у меня и других забот хватает.
И как бы в подтверждение слов старой горничной в комнату вошёл сам почтенный негоциант, слышавший весь предыдущий разговор от начала и до конца. Эффи, не дожидаясь приказа, молча вышла за дверь.
– Ну, и зачем же, дочь моя, ты отняла у меня столь драгоценное время? – спросил Габриель Уилаби, хмуря брови. – Дабы выслушивать, как ты грубишь Мастеру Бернарду? Да, я твёрдо намерен устроить ваш брак после моего возвращения из плавания, о чём я тебе уже намекал. Однако моему будущему зятю, видно, не терпится поскорее назвать тебя своей невестой. Что же, я его вполне понимаю. Ты девушка у меня красивая, смышлёная, даже обучена кое-каким наукам. Последние месяцы он не раз намекал мне о своих чувствах к тебе, но делал это скромно и тактично, как и подобает благовоспитанному молодому человеку. И я, признаться, не могу и желать тебе лучшего жениха. Он уже почти год работает у меня, и воистину показал себя образованным и талантливым человеком, просто золотая голова. Ведь это он поведал мне про итальянскую систему счетоводства, и нынче все мои книги в таком идеальном порядке, что и представить было нельзя. Мастер Бернард владеет несколькими языками и может сам вести переписку со всеми моими контрагентами на континенте. А какой у него филигранный почерк, любо-дорого смотреть. Он умён в делах и аккуратен в бумагах, да так, что уже полностью вник во все тонкости моего предприятия. Поэтому теперь мне есть кому оставить ведение торговых дел, покуда я буду вдали отсюда. И когда вы поженитесь, я непременно, в качестве твоего приданного, сделаю его полноправным партнёром торгового дома. Таким образом, у меня будет человек, которому я, когда превращусь в такую же развалину, как наш Гриффин, без опаски смогу передать полностью все мои дела и к тому же быть спокойным за твою будущность… Такие вот были мои отцовские помыслы. И что же я слышу нынче!!! Мастер Бернард в порыве любви предлагает тебе помолвиться с ним, буквально умоляет, вероятно, желая, чтобы я попрощался с сушей и предался на волю волн со спокойной душой, а ты в ответ оскорбляешь его и называешь негожими для уст моей дочери словами. Разве я не говорил тебе прежде, чтобы ты была с ним поласковее, и не намекал вполне ясно на мой замысел соединить вас брачными узами? Так-то ты, покорная дочь, выполняешь волю твоего родителя! Эх, была бы жива бедная Изабелла, она бы со стыда сгорела за такое твоё послушание.
Сие длинное нравоучение Алиса выслушала с опущенной головой, что почтенный негоциант принял за признание ей своей вины и угрызения совести. Однако скоро он к своему удивлению понял, что ошибался, ибо девушка подняла лицо, на котором не было и тени смущения или раскаяния, а скорее наоборот, читались упрямство и вызов.
– Батюшка, как вы можете нынче думать о таких пустяках, как моё замужество! – воскликнула Алиса. – Через день страшной и позорной смертью может погибнуть тот, кто долгое время пользовался вашим гостеприимным кровом, и пользовался по праву. И наш дом будет покрыт бесчестьем, если мы не сможем спасти Мастера Лангдэйла. Вы же знаете, что его оклеветали и он ни в чём не виновен. Все в нашем доме до последнего челядинца горюют по несчастному юноше и молят Бога, чтобы король поправился и был в состоянии подписать ходатайство о помиловании. Лишь у моего батюшки помыслы о том, как бы скорее свою дочку отдать замуж, причём, за ненавистного ей человека.
Габриель Уилаби от удивления всплеснул руками.
– Ума не приложу, откуда в тебе эта строптивость, – сказал негоциант. – Ты думаешь, мне не жаль нашего юного гостя? Но – увы! – что же я могу поделать, как не смириться перед божьей волей? Нет никаких богатств на свете, за которые можно было бы купить ему оправдательный приговор.
Алиса чуть было не вскрикнула «Есть такие богатства!», но вспомнила, что клерк грозил поведать негоцианту про недозволительно сильную симпатию его дочери к шотландцу, в то время как сам мог преспокойно откреститься от своей возможности спасти Ронана – тем паче, что выглядело это очень невероятно. Поэтому девушка лишь горестно вздохнула.
– Вот что я мыслю, Алиса, – после некоторого раздумья сказал негоциант решительным тоном. – Не по душе мне оставлять тебя одну, как неприкаянную тростинку на ветру. Ты девица у меня обворожительная, вся в мать, и уже взрослая, даже норов свой показываешь. А потому чего доброго, пока меня долго дома не будет, собьёшься с пути истинного и натворишь непоправимых ошибок. Ведь дьявол-искуситель миловидных девушек в твоём возрасте на каждом шагу подстерегает. А потому, решено, ровно через четыре дня, в канун моего убытия я устрою вашу с Мастером Бернардом помолвку и подпишу с ним брачный договор.
– Но, батюшка! – в ужасе воскликнула несчастная девушка.
– Только помолвка, – строго сказал Габриель Уилаби. – А повенчаетесь и станете мужем и женой, когда я домой возвращусь. Тогда же он и приданное получит. А покуда будет печься о своей невесте и охранять её как зеницу ока. Такова моя родительская воля!… И не надо реветь. Хотелось бы думать, что это слёзы радости, но судя по твоим рыданиям, увы, это не так. Что ж, у тебя будет достаточно много времени, чтобы свыкнуться со своей судьбой. И, полагаю, когда-нибудь ты меня даже благодарить станешь, что я так всё для тебя устроил.
Негоциант покинул комнату, оставив в одиночестве свою дочку, чей плач то стихал до слабых всхлипываний, то вновь усиливался до оглушительных рыдания. Да и как бедной Алисе было не горевать! Ведь вместо того, чтобы показать своему отцу всю лживость и порочность его счетовода, она лишь навлекла на себя родительский гнев и ускорила помолвку с ненавистным женишком.
Не успели ещё улечься её всхлипывания, как в комнату вошла Эффи, но не одна – с ней был юный Эндри. Обычно неунывающий и потешный, каким он предстал читателю в начале повествования, сегодня он выглядел необычайно серьёзным. На протяжении двух недель с момента первого его появления в доме, он заглядывал сюда почти каждый день, чтобы справиться у мистрис Алисы, не подписал ли ещё король прошение о помиловании, и то, что она отвечала, весёлости ему, разумеется, не прибавляло. Также молодой слуга интересовался, как выглядит его господин и как чувствует. Про это Алиса могла мало что ему сказать, потому как не передавала Ронану писем и не получала ни словечка от него с того самого раза, когда юноша в своём письме умолял её не соглашаться на низменное предложение Бернарда. А потому о том, как выглядит страдалец и как чувствует себя, она могла лишь поделиться скупыми фразами сэра Хью, по словам которого, в камере было так сумрачно, что она освещалась, казалось, только сверкавшими глазами юноши, а голос Ронана не похож был вовсе на голос человека, сникшего и покорившегося злой судьбе.
– Он хоть у меня и петушится иногда, – заметил Эндри, – но не таков, чтобы сложить крылышки и смирненько дожидаться, покудова из него запечённого каплуна сделают.
– Но ведь ежели завтра не будет помилования, – простонала девушка, – его, скорее всего, будет ждать последняя ночь в жизни.
– Да уж, мистрис Алиса. У меня тоже кошки на душе скребутся, – согласился мальчишка. – Но скажу честно: помочь ему – в ваших силах! Только пусть эта старушка выйдет из комнаты – не хочу, чтобы она слышала.
– Ты славный мальчик, – сказала девушка, делая знак Эффи, чтобы та удалилась. – Тебе, должно быть, безмерно жаль твоего хозяина, потому что ты преданный слуга и долгое время разделял с ним горести и радости. И мне тоже невыносимо думать о ждущей его участи, потому что… – Алиса несколько замялась, подбирая слова.
– Да потому что вы влюбились в него по уши, – сорвалось у Эндри. – Разве ж я не приметил? Ей-ей, только у влюблённых девиц такие зарёванные глаза бывают.
Девушка покраснела, но сильно протестовать против простосердечной бестактности юного слуги не стала.
– Что ты болтаешь? Я сделала всё, что было в моих силах, – продолжила Алиса. – Я же тебе обо всём поведала, нахальный мальчишка. Ума не приложу, чем я ещё в силах облегчить участь Ронана, кроме моих горячих молитв вседержителю. Всё бы отдала, дабы спасти его – и жизнь молодую, и душу мою смятенную, и даже честь девичью, ежели бы знала, что он примет от меня такую жертву. Но, увы, твой мастер Ронан слишком благороден, чтобы позволить мне свершить такой поступок.
– Ну, так я вам посоветую, что тогда надобно сделать, мистрис, – заявил Эндри. – Следует передать моему господину, чтобы он, – ежели помилование не подоспеет, – перед лицом смерти ни в какую не отступал от своей религии.
– Да что ты мелишь всякую чушь! – возмутилась девушка. – Завтра минует день, а на следующий его уже может не стать с нами. О, Господи! При одной этой мысли у меня как будто сердце останавливается… К чему теперь спорить о том, по каким законам ему прощаться с жизнью: по правилам англиканской церкви или католической, на каком языке священник прочитает ему последнюю молитву – на английском или латыни? Эх, глупыш ты несмышлёный.
– Называйте меня как вам угодно, только выполните эту просьбу, – настаивал Эндри. – Вы что ж, полагаете, мистрис Алиса, мне легко видеть, как к мастеру Ронану старуха с косой подбирается, или я сам не готов жизнь за него отдать, как сделал бы любой честный шотландский паж?
– Нет-нет, Эндри. Я вовсе не сомневаюсь в твоей верности, – молвила Алиса. – Да и как можно не быть преданным такому благородному господину. Меня всего лишь удивляет твой странный совет.
– Говоря по правде, мистрис Алиса, – сказал мальчишка, – ничего здесь странного нет. Только я поклялся сверх этого ничего больше не говорить.
– Поклялся? – удивилась девушка. – Кому же, интересно?
– Тьфу ты! Будь неладен мой длинный язык, который болтается как овечий хвост! – с досадой произнёс Эндри. – Я и так сказанул вам более, чем следовало. Так что, больше вам, мистрис Алиса, из меня ничего не вытянуть. Скажу лишь одно: от того, исполните вы мою просьбу или нет, зависит не состояние души моего господина, а местонахождение его тела через пару дней. И ещё умоляю вас: не передавайте, что это я вас попросил. Ежели мастер Ронан выведает, что это я, он точно не послушается, потому что в последнее время во всём мне перечил и всяко по-своему делал. И гляньте-ка, куда это его упрямство завело!
Девушка испытующе посмотрела на веснушчатую физиономию Эндри, тщетно пытаясь угадать, что скрывается за его словами, но встретила серьёзный и непроницаемый взгляд. Будь это в другое время, она непременно расхохоталась бы над напыщенным и важным видом мальчишки, но в этот день её переполняли совершенно иные чувства.
Посчитав, что от этого в любом случае хуже не будет, Алиса согласилась передать Ронану просьбу его пажа как свою личную. Эндри на этом, однако, не угомонился и потребовал от девушки поклясться, что она так и поступит.
Получив от неё клятвенные заверения, мальчишка как обычно прихватил с собой съестных припасов и исчез, чтобы вновь увидеться с Алисой Уилаби лишь через три страшных дня и уже более её не покидать, дабы стать ей верным слугой, меньшим братом и другом в будущих их странствиях, а также будить в девушке милые воспоминания о Мастере Лангдэйле и пытаться, поелику в его силах, весёлым нравом скрасить её тоску по своему господину…
Глава LXI
Последняя встреча
Завтра день казни.
С этой мыслью Ронан проснулся, когда раздался скрежет отпираемой двери. Вошёл грустный Тернки, как обычно положил на табурет кусок хлеба и оставил кувшин с водой.
«Почему он такой печальный, – подумал Ронан. – Неужели из сострадания к ожидающему смерти узнику? Или же из-за отсутствия воздаяний от меня? Впрочем, что мне до этого… Я почти не спал последние две ночи, но так и не успел перепилить оковы на ноге. Сегодня до вечера мне также никак не удастся окончить работу. А значит, я не смогу привести в исполнение мой план побега. Ах, какой же я был болван, что потерял два дня, наслаждаясь пустыми мечтаниями, в то время как напильник втуне пролёживал в тюфяке! Теперь меня ждёт смерть… Но я не буду безропотным ягнёнком для заклания! Ночью я завершу работу и разогну боковины. А когда завтра меня поведут по тёмным тюремным лестницам и переходам, я сброшу эти железки и нападу на конвойного. И возможно мне удастся завладеть каким-нибудь разящим оружием – мечом или алебардой. О, тогда я дорого продам свою жизнь! Во всяком случае, я умру воином, как и подобает сыну славного шотландского рыцаря, а не вздёрнутым на виселице на потеху глумящейся толпе, словно окаянный убийца».
Таковы были размышления юного шотландца накануне смерти, ставшей теперь уже неизбежной. Конечно, оставалась ещё толика вероятности, что король подпишет ходатайство о помиловании. Но столько уже прошло дней в напрасном ожидании, что это напрочь убило в несчастном страдальце всякую веру в чудо. Теперь он готовился умереть.
Нельзя сказать, что Ронан не боялся смерти, нет. Но потомственная гордость и чувство собственного достоинства не позволяли ему признаться даже себе, что он боится. Во всяком человеке, особенно молодом и полном сил, перед лицом неминуемой смерти в том или ином виде существует страх: пугающий почти каждого ужас небытия, для малодушных – боязнь физической боли в момент смерти или же для раскаявшихся грешников – трепет перед адскими муками. Однако в одних страх вызывает оцепенение и парализует волю, заставляя безропотно покориться судьбе и ждать своего конца. У других же наоборот наступает прилив сил и энергии, далеко ещё не растраченных ими при жизни. Как видно, к чести нашего героя он относился ко второму типу людей. Теперь, когда надежды на спасение уже не было, или почти не было, Ронана волновало лишь одно – умереть воином, а не преступником. Разумеется, ни тем, ни другим он при жизни не был. Но если коварство врагов и несправедливость судей сделали из него мнимого преступника, то возвышенная душа вкупе с полученным в молодые годы мастерством владения оружием обязывали его в свой последний час стать воином. Взращенный в духе ратных подвигов и наделённый воинскими навыками, к тому же будучи по природе человеком романтических наклонностей и начитавшийся рыцарских романов, смерть с оружием в руках он почитал теперь за величайшее благо.
В ожидании завтрашнего последнего своего героического деяния узник пилил оставшуюся боковину, когда за дверью послышались шаги и звяканье ключей. Ронан едва успел спрятать напильник, как дверь открылась и вошёл Хью Уилаби. «Конечно же, он не мог не прийти сегодня, – подумал юноша, – придти, дабы проститься, проститься навсегда. Он бывалый солдат и часто встречался со смертью с глазу на глаз. Он привычен к виду людей, которые, наверняка, не вернутся невредимыми из предстоящего сражения, и у него достаточно мужества, чтобы смотреть им в глаза».
Командор подошёл к Ронану, не успевшему ещё подняться со своего тюфяка.
– Почему ты сидишь в сумраке? – спросил Уилаби, твёрдым и невозмутимым голосом, как будто и вовсе не был взволнован тем, что случится следующим днём.
– Привыкаю, сэр Хью, – ответил узник с мрачным спокойствием. – Там, где я окажусь завтра, не бывает солнечного света и всегда царит темнота.
– Да, мой мальчик, смерть такая штука, которая может подкрасться к любому из нас, когда её меньше всего ожидаешь, – более мягким тоном сказал командор. – А иногда она приближается медленно, шаг за шагом, и человек видит её приближение, но не в силах никак его остановить.
– Я знаю, сэр Хью, что как мой покровитель и друг барона Лангдэйла вы хотели бы утешить меня, – произнёс Ронан необычно твёрдым для своей ситуации голосом, – но как храброму и опытному воину и командиру вам хорошо известно, что перед решающей битвой, пусть даже и роковой, войску необходим душевный подъём, дабы вселить в сердца воинов азарт и горение. Помнится, вы сами мне об этом толковали. Так и я прошу вас относиться ко мне как к идущему в бой войску.
Командор с изумлением воззрился на юношу и воскликнул:
– Вот уж воистину сын своего отца!
После они оба долго молчали. Да и к чему были пустые разговоры?
Уилаби чувствовал мрачную решимость узника, напоминавшую отчаянность окружённого со всех сторон отряда, с какой тот шёл на прорыв вражеского кольца, понимая, что едва ли кому удастся уцелеть в живых. Командор осознавал, что в данном случае утешения не уместны и даже пагубны, и что его безмолвное присутствие гораздо действеннее всех слов. Юноша ощущал эту молчаливую поддержку и чувствовал неимоверную благодарность командору…
В таком молчаливом общении прошло около двух часов. Никто не решался прервать его. Наконец Ронан сказал:
– Благодарю вас, сэр Хью, благодарю за всё. А теперь мы должны расстаться и сделать это просто, без ненужных слов. Я готов встретить завтра свою судьбу и постараюсь умереть более достойным образом, нежели презираемый всеми преступник. Я умираю честным человеком, и пусть Эндри, когда вернётся домой, так и передаст моему батюшке. А ещё скажите мистрис Алисе… впрочем, нет, ничего ей не говорите.
– Боже правый, напрочь из головы вылетело, – спохватился вдруг Уилаби, достал из кармана листок бумаги и отдал юноше. – Говоря по правде, не хотел я брать у неё это письмо. Уж я-то с этими женскими слезливыми сентенциями и душещипательными рыданиями хорошо знаком. Однако девица уверила меня, что сия писулька лишена трогательных фраз.
Ронан молча взял у командора письмо и с необыкновенной нежностью положил в карман. Две недели они не обменивались с Алисой записками. Ронан не писал, потому что дал себе зарок больше не думать о девушке. Да к тому же за эти две недели отчаянного, изматывающего труда, бессонный ночей, непреходящей тревожности и агонии приближающейся смерти у юноши просто напросто не оставалось душевных сил на лирическую переписку. Алиса, вероятно, догадывалась о мучениях юноши и не желала своими сострадательными словами усугублять его муки. Она правильно рассудила, что если бы Ронан нуждался в её сострадании, он бы написал сам в надежде получить её ответ. А потому она довольствовалась лишь скупыми фразами своего дядюшки о том, как выглядит страдалец и в каком он духе…
Они встали лицом друг к другу. Командор крепко, по-отечески обнял Ронана, с трудом сдерживая слёзы. Один раз Уилаби уже обнимал его так: полгода назад, когда считавшийся сгинувшим в тёмных и холодных водах Темзы Ронан через несколько дней неожиданно объявился в доме негоцианта. Но в тот раз он обретал воскресшего юношу из объятий смерти в лоно живых. Но, увы, то оказалось лишь временной уступкой судьбы. Ныне же смерть, похоже, пришла взять своё.
– Мужайся, мой мальчик! – сказал Уилаби и подумал про себя: «А я буду надеяться до последнего. Ведь ещё осталось несколько часов, чтобы король подписал прошение. Наверняка Сидни делает всё возможное».
– Прощайте, сэр Хью! – произнёс в ответ Ронан. – Да благословит вас Господь и дарует удачи в вашем деле!
Уилаби отошёл к двери, обернулся и вновь бросился к юноше, заключая его в свои широкие объятия. Ронан немного подождал, мягко высвободился из могучих рук и твёрдо сказал:
– Уходите, командор.
– Ну что ж, прощай! – промолвил Уилаби, быстро развернулся, подошёл к двери и застучал в неё эфесом своего меча…
Оставшись один, Ронан вздохнул и почувствовал, как разорвалась последняя нить, связывавшая его с миром живых. Нет, не последняя! Ведь у него в кармане было ещё непрочитанное письмо от Алисы. Узник подошёл к окну, приоткрыл ставень, и в камеру ярким потоком хлынул солнечный свет. Вместе с ним ворвались шумы города: топот ног по мостовой и чей-то оживлённый спор, скрип повозок и фырканье лошадей, пронзительные детские крики и тявканье собак, грязная ругань каких-то мужланов и бойкий девичий смех. Казалось, и люди и животные все радуются благодатной майской погоде, пусть и каждый по-своему, но радуются, о чём-то мечтают и носятся с мыслями о завтрашнем дне. Они живут и будут жить, а он завтра умрёт… Лёгкие дуновения ветерка заносили в камеру смертника благоухающие весенние ароматы цветущих садов и многоголосье усеявших деревья и крыши птиц. Природа проснулась и явилась во всей своей красе, радуясь теплу и солнцу. По голубовато-синему небосводу весело плыли барашки лёгких белоснежных облаков, и всё живое ликовало под этим волшебным небом… О, как же юноше не хотелось умирать в такое благодатное время!
Ронан тяжело вздохнул и открыл письмо.
«Не сочти меня за девицу, которая от горя лишилась рассудка (хотя, быть может, скоро так и будет), ибо моя просьба покажется тебе весьма странной, – так писала Алиса. – Хотя я и придерживаюсь устоев англиканской церкви, но ради всего святого умоляю тебя перед лицом смерти не отступать от веры твоих отцов и требовать для последней исповеди лишь католического священника. Знай, что эта моя последняя просьба – для твоего блага. Большего я сказать не вправе, ибо связана обещаниями. А.У.»
Надо сказать, что узник был неприятно удивлён, потому как вовсе не такие слова он надеялся найти в этом письме. Пожелать ему всего лишь исповедаться по католическим правилам – неужели это было всё, что могла она ему сказать накануне его смерти! А он-то ожидал, что в этот последний миг она откроет ему свои чувства, или хотя бы скажет скупое «прощай», как сделал сэр Хью. Да и какие могут быть в этот фатальный момент обещания, на которые она ссылается! «С глаз долой – из сердца вон. Вот как, значит, – со злостью подумал Ронан. – Видно, все её чувства были лишь преходящей влюблённостью, а принесённый мне напильник, верёвка – детская забава для неё, развлечение, только и всего. Скоро она про всё забудет и в итоге выйдет замуж за этого слизняка Бернарда, нарожает ему кучу детей, растолстеет, станет почтенной лондонской матроной и никогда не будет обо мне вспоминать. Ну и пусть. В самом деле, что мне теперь до этого? Зато завтра она узнает, как умеют умирать настоящие шотландцы. И все они узнают. Хотели видеть во мне преступника, кровожадного убийцу? Что ж, я дам вам возможность в этом убедиться, почтенные и благопристойные лондонские жители».
Увы! Даже в благородной душе, лелеявшей возвышенные и благочестивые устремления, даже в чистом сердце, не запятнавшем себя дьявольскими страстями, могут рождаться злобные помыслы, если людской ненавистью и предвзятостью суждений довести человека до отчаяния. Именно подобная метаморфоза и произошло с Ронаном Лангдэйлом. Изначально он намеревался на пути из камеры сбросить оковы и завладеть оружием, чтобы до последнего защищать свою жизнь. Теперь же он пылал жаждой мести – мести всем своим недругам, настоящим и тем, кто по долгу своих обязанностей казались ему таковыми. Впрочем, каковы бы ни были побуждения несчастного юноши, очевидно, что исход сей отчаянной попытки был предопределён.
Подогреваемый отчаянием, злостью и обидой, Ронан достал все письма, которые он дотоле бережно хранил в глубоких карманах своего камзола, порвал в мелкие клочки и выбросил сквозь оконную решётку. После этого, скрежеща зубами, он с бешеным усердием принялся допиливать оставшуюся боковину…
Глава LXII
Прошение о помиловании
А как же обстояло дело с прошением о помиловании, на которое командор и Ронан первоначально возлагали такие большие надежды, впоследствии, однако, с каждым днём всё таявшие и таявшие? Уилаби передал это ходатайство Генри Сидни, молодому вельможе, лучшему другу юного короля и горячему сподвижнику Себастьяна Кабото. Сидни действительно желал помочь Ронану Лангдэйлу, причём не только из-за проявления дружеских чувств к сэру Хью, человеку, которому они с Кабото вверяли командование плаванием. Генри Сидни ещё помнил открытое лицо этого юноши, которого ему как-то представили в комнате Ричарда Ченслера, его пытливый взгляд и пыл, с которым он мечтал о плавании. А впоследствии навигатор не раз говорил ему про таланты и способности Лангдэйла. Поэтому, когда командор рассказал Сидни про беду, в которую попал Ронан по своей неопытности и неосторожности, и достаточно убедительно поведал о догадках про настоящего преступника, у молодого царедворца не возникло ни единого сомнения в невиновности Ронана. Генри Сидни с готовностью согласился помочь спасти юношу, для чего ему всего лишь требовалось уговорить короля Эдварда подписать прошение о помиловании.
Однако юный король был тяжко болен и к середине апреля почти не вставал с кровати. По настоянию придворных лекарей а также по политическим мотивам его перевезли из Лондона во дворец в Гринвиче. Ссылаясь на заботу о здоровье короля и на рекомендации лекарей, герцог Нортумберлендский добился согласия Тайного Совета и распорядился усилить вооружённую охрану у дверей, ведущих в покои короля, и, дабы не беспокоить его величество, никого к нему не пропускать, кроме нескольких доверенных слуг и, разумеется, себя самого.
Генри Сидни вместе со всем двором также перебрался в Гринвич, но возможности встретиться и переговорить с Эдвардом у него не было. На все попытки пройти в покои короля бдительные стражники молчаливо и непреклонно скрещивали алебарды перед дверьми. Никакие увещевания и доводы не могли заставить их нарушить приказ. Сидни хотел было передать прошение через слуг, которые носили еду и посуду в королевские покои, одевали и раздевали его величество, убирали комнаты и следили за каминами, но трезво рассудил, что без его личных пояснений и суждений король и не подумает подписывать эту бумагу. По словам лекарей, которым было дозволено входить и выходить через эти запретные двери, король почти всё время находился в кровати – либо спал, либо полулежал на подушках, – но состояние его понемногу улучшалось. Большего Генри Сидни добиться не удалось.
Дни пролетели один за другим. Генри расстроено бродил по галерее перед входом в королевские покои. Он знал, что казнь Ронана Лангдэйла назначена назавтра. Сегодня он чуть ли не силой пытался проложить себе дорогу. Все просьбы и мольбы, до которых унизился сэр Генри Сидни в своём желании помочь несчастному юноше, также оказались тщетными. А потому и настроение у вельможи было далеко не радужное. Конечно, сей юный шотландец очень мало значил в его жизни, но он стал горячим приверженцем его и синьора Кабото замысла отправить корабли в Китай по северо-восточному пути. Терять такого сторонника Сидни вовсе не хотелось, а невозможность спасти единомышленника стало бы ударом по его самолюбию. К тому же личные симпатии и расположение, которые заставили Сидни взять под своё покровительство Ричарда Ченслера, простёрлись в некоторой степени и на Ронана Лангдэйла, хотя он и видел его всего лишь однажды, но зато наслышался похвал о нём от навигатора. А потому лёгко объяснить досаду и горечь, овладевшие молодым вельможей.
В этот момент в галерее появился герцог Нортумберлендский. Увидав зятя, он подошёл к нему, взял под руку и наигранно приветливым голосом произнёс:
– Генри, дорогой, да на тебе, право, просто лица нет! Конечно, король себя неважно чувствует, и все увеселительные мероприятия во дворце отменены. Но с божьей помощью скоро его величество поправится и всё будет как и прежде… Или ты беспокоишься, что Мария никак не родит тебе наследника? О, Генри! Вы молоды и женаты лишь два года, и, клянусь Купидоном, всё у вас ещё впереди. А может быть, твою жену расстроили предсказания Джона Ди? Мне говорят, она часто стала к нему наведываться.
Сидни не знал, что ответить герцогу. Молодой вельможа уже несколько дней подумывал о том, чтобы попросить содействия своего всемогущественного тестя, но его останавливало состояние мрачной раздражительности и тревоги, в котором в последнее время пребывал Джон Дадли, занятый, по-видимому, решением собственных проблем. И поэтому Сидни опасался своей просьбой лишь рассердить герцога и навредить всему делу.
Но этот день был последним, когда ещё можно было спасти Ронана Лангдэйла. Поэтому ободрённый благожелательной речью Нортумберленда Генри Сидни решил воспользоваться последним шансом, какой провидение посылало бедному узнику.
– Благодарю вас, сэр, за беспокойство о моей семье, – сказал Сидни. – Полагаю, Господь пошлёт вам ещё армию внуков.
– Надеюсь, дорогой зять, что вы с Марией поможете всевышнему не только молитвами, – с игривой улыбкой заметил герцог. – А что привело тебя в эту галерею? Вероятно, тревога о здоровье его величества? Эдвард к тебе весьма благоволит.
– Клянусь честью, самочувствие короля беспокоит меня больше чем моё собственное, – сказал Сидни. – Однако признаюсь вам, есть у меня ещё одно срочное дело к его величеству. Но каждый день, когда я пытаюсь пройти в королевские покои, я встречаю перед собой запертые двери и непреклонные лица привратников и лакеев.
– Да-да, мой друг. Я послушал совета умных лекарей и настоял в Совете, чтобы временно, пока его величеству не полегчает, не беспокоить его излишними делами, – откровенно признался Нортумберленд. – Однако если твоё срочное дело не столь серьёзно и утомительно, может быть, я смогу тебе помочь. Расскажи мне, Генри, в чём оно заключается, и я подумаю, могу ли я быть полезен моему дорогому зятю.
– О, вы так великодушны, сэр, – молвил Сидни. – Как вам известно, через несколько дней отплывают в Китай наши корабли.
– Ну конечно, я вложил в это предприятие немало капитала, – вставил герцог, – да и ты тоже, сколь мне ведомо.
– На них в плавание должен был отправиться один юноша, мой знакомый, – продолжил Сидни. – Учёнейший молодой человек. Он занимался вместе с Ченслером и нашими капитанами. Джон Ди был высокого мнения о его талантах. Но он имел несчастье попасть в западню, расставленную его недругами, был ложно обвинён в убийстве и приговорён к повешению, которое состоится завтра, если его величество не подпишет прошение о помиловании.
– Хм, любопытное дело, – задумчиво произнёс Нортумберленд. – А ты можешь ручаться, что он так уж невиновен, как ты пытаешься меня уверить?
– Клянусь вам, он так же безвинен, как ещё не родившийся младенец! – горячо сказал Генри Сидни.
– В таком случае, если ты ручаешься за этого юношу, полагаю, Эдвард не откажет в своей милости, если я покажу сие прошение его величеству, – благосклонно сказал Джон Дадли.
Генри Сидни горячо поблагодарил своего могущественного тестя, и, надо признаться, у него в самом деле появилась большая надежда на успех дела, ибо он знал, что если Джон Дадли пожелает чего либо, он этого добьётся, не мытьём так катаньем.
– И как же интересно зовут сего молодца? – полюбопытствовал герцог.
– Его имя Ронан Лангдэйл, Мастер Бак… Бакью… в общем, наследник какого-то шотландского баронства, – с готовностью ответил Сидни. – Славный юноша, владеет языками, разбирается во многих науках. Мэтр Ди горел желанием взять его к себе в ученики, но Ронан предпочёл морское путешествие.
На миг герцог задумался, как будто что-то вспоминая. И в самом деле, хотя имя ему ничего не говорило, но на память Джона Дадли пришёл молодой шотландец, который приходил во дворец Элай к доктору Ди и был ложно принят за подосланного убийцу. «Верно, этот тот самый малый, – подумал про себя Нортумберленд. – И опять его не за того приняли. Да уж, не везёт молодчику. Однако что-то меня в нём настораживает. Но что? Какое-то смутное воспоминание. Ах, да, ну конечно! Это ведь благодаря ему мне на ум пришла идея натолкнуть Эдварда в случае ухудшения его здоровья на мысль изменить завещание о престолонаследовании в пользу Джейн Грей и женить на ней Гилфорда. До свадьбы осталось менее трёх недель, а король ещё не составил новое завещание. Надо ему намекнуть, что медлить не стоит… Теперь я понимаю, почему этот… как там его… Ронан беспокоит меня. Ведь он слышал, как я забылся и по привычке размышлял вслух. А это значит, что сегодня, когда на карту поставлена судьба государства и моя собственная жизнь, любое подтверждение слухов об изменении завещания о престолонаследовании и моего в этом участии может привести к волнениям и провалу так долго вынашиваемого плана».
– Сэр, вас что-то беспокоит? – спросил Сидни, озадаченный молчанием тестя и заметивший тень тревоги на его лице.
– Нет-нет, Генри, извини, – быстро ответил герцог. – Постоянные заботы о государственных делах и, словно молнии, мелькающие в голове мысли заставляют меня порой забыть, о чём идёт речь. Любопытства ради в каком же таком убийстве обвинили сего достойного юношу?
– Он обедал в таверне с Томасом Толботом, – неохотно сказал Сидни, – когда тот вдруг упал и умер. А какой-то негодный мальчишка, сообщник настоящего отравителя, заявил, что видел, как Лангдэйл подливал что-то в кубок Толбота. Потом в одежде Ронана ещё обнаружили пустую склянку, ловко туда подброшенную. Всё было шито белыми нитками, но привести веские доводы для опровержения обвинения не удалось, и лондонские присяжные были непреклонны.
– Так, его посчитали виновным в отравлении сына графа Шрусбери? Помнится, об этом деле много толковали несколько недель тому назад. Должен признаться, Генри, сие обстоятельство несколько усложняет мою задачу… Но не стоит огорчаться раньше времени. Обещаю тебе сделать всё, что в моих силах. Так, где же прошение?
Генри Сидни со светящимися надеждой глазами отдал документ тестю, и тот мимо стражников прошёл в покои короля. «Ронан Лангдэйл будет спасён», – сказал себе Сидни…
Высокие, выходившие на юг окна впускали в комнату много света. Одну стену почти полностью занимала резная деревянная арка, укрывавшая большой камин из белого мрамора, в котором, несмотря на начало мая, ярко пылало пламя. Две другие стены были увешаны дорогими фламандскими гобеленами. У окна, рядом с большим глобусом, привезённым сюда по требованию короля из лондонского дворца Уайт-холл, стоял королевский капеллан и читал вслух отрывок из Библии, в котором рассказывалось о царе Езекии109.
Король сидел в кровати под шёлковым, вышитым серебряными и золотыми нитями балдахином. Откинувшись на подушки, он внимательно слушал чтение священника. Худое и бледное юное лицо было серьёзно и сосредоточено, а губы плотно сжаты. Если бы не взгляд, устремлённый на чтеца, можно было подумать, что юноша размышляет о чём-то важном.
Эдварду было всего пятнадцать лет, но он искренне полагал, что уже самостоятельно правит своим королевством. Можно было бы воскликнуть: «O sancta simplicitas!»110, если бы Эдвард был простым пятнадцатилетним юнцом, вступающим в жизнь и с радостью принимающим все её удовольствия и соблазны. Но это был сын Генриха Восьмого, и сын достойный. С раннего возраста он познал тяжесть английской короны, хотя и изрядно уменьшенной – сначала своим дядей, герцогом Сомерсетом, а после его падения Джоном Дадли. И если первый сделал себя регентом Англии и фактически правил страной от имени короля, то прозорливый Дадли разглядел в умном не по годам мальчике задатки непреклонности и своенравия, унаследованные им от своего родителя, а также тягу стать полноправным правителем. Нортумберленд всячески поощрял это стремление и умело сделал себя незаменимым помощником и советчиком юного короля. Джон Дадли обустраивал дела таким образом, что Эдварду мнилось, будто за всеми государственными решениями стоит его монаршая воля. Нортумберленд позволял его величеству полную самостоятельность лишь в вопросах религии, потому как король был главой английской церкви, и Эдвард, как убеждённый протестант, ревностно желал продвижения этой самой церкви по пути реформирования, чему в Совете никто и не противился. Также Дадли не вмешивался и в вопросы правосудия, поскольку юный король отличался милостивым нравом и часто пользовался своим правом на помилование, что, в общем-то, никак не мешало интересам герцога.
За последние месяцы здоровье юного короля сильно пошатнулось. Он чувствовал, будто какой-то червь вселился в его тело и день ото дня пожирает его плоть и высасывает силы. Эдвард заметно похудел и сильно ослаб. Он заставил себя принять участие в открытии и закрытии мартовской сессии парламента, дабы его лорды удостоверились в хорошем самочувствии короля и чтобы развеять ползущие по Лондону слухи о его болезни. Он даже изобразил на своём лице подобие улыбки. Но сколько сил это ему стоило! Об этом знал лишь Джон Дадли, который на каждом шагу опекал Эдварда, подбадривал его, советовался с врачами и учёными мужами. Нортумберленд как никто чувствовал, с каким трудом Эдвард держался на ногах перед парламентом. Герцогу казалось, что король произносит дежурные фразы необычайно слабым голосом, а бледность его лица пробивается даже сквозь лёгкий слой румян, которые он распорядился нанести на щёки его величества. Через пару недель Эдварду стало ещё хуже и он почти не вставал с кровати.
Знал ли юный король о том, что болезнь его фатальна и он обречён на смерть в столь молодом возрасте? Поначалу он даже не думал о своём недомогании. В его годы есть более приятные темы для размышлений, а его монарший сан не позволял отвлекаться на пустяковую хворь. Но день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем недомогание усиливалось, появился странный непреходящий кашель с мокротой, по утрам ночная рубашка становилась мокрой от пота, а днём лихорадка иногда была столь сильна, что ему трудно было говорить. Иногда Эдварду становилось лучше, он улыбался и шутил. Но через несколько дней недуг атаковал юношу с новой силой. В сознание Эдварда начала закрадываться страшная мысль о фатальности его недуга и скорой смерти, несмотря на уверения лекарей, придворных и в том числе Джона Дадли. Никакой человек в пятнадцать лет не может смириться с подобной мыслью. Так и в душе юного короля горело ещё пламя надежды на излечение. Однако с каждым днём свет его становился всё тусклее и тусклее…
Войдя в комнату, Джон Дадли молча преклонил колени перед королевским ложем, потом бросил быстрый взгляд на священника, и тот, дочитав главу из Четвёртой книги Царств, поклонился монарху и попросил разрешения удалиться в переднюю комнату.
Оставшись наедине с юным королём, Нортумберленд сказал:
– Я рад приветствовать моего государя. Как я и надеялся, лекари, которые осматривали ваше величество сегодня утром, не обманули меня: вы действительно идёте на поправку. Ваш взгляд стал твёрже и уверенней, а в глазах снова горит огонь свершений.
– Мой лорд, за пламя вы, верно, приняли цвет моих волос на фоне этих белоснежных подушек, – молвил Эдвард с грустной улыбкой. – Впрочем, вы правы: я действительно чувствую себя несколько бодрее. Скажите, сэр, когда же я смогу видеть своих друзей: моего дорогого мальчика для порки111 – он мне обещал ещё так много рассказать про французский двор, а также Генри Сидни – он обязан показать мне, где на terrae globus находятся Китай и Пряные острова, куда отправляются английские корабли. А ещё я желаю видеть моего учителя сэра Чеке: я не до конца понял один оборот в Одиссее и, вероятно, я ещё не в совершенстве владею греческим. Я уже порядком устал от этой тишины и покоя, которую прописали ваши бездарные лекари. И потом, я хочу перебраться в те мои покои, окна которых выходят на Темзу, чтобы смотреть на проплывающие мимо корабли.
– О, ваше величество! Столько желаний! Вы, воистину, уже выздоравливаете, – бодрым голосом ответил Джон Дадли. – Полагаю, что уже завтра… впрочем, нет, завтра я лишь посоветуюсь с врачами после того, как утром они вас осмотрят, и, ежели они не будут возражать, то на следующий день ваши друзья смогут посетить своего государя – клянусь вам, сир! – и смею заверить, им также не терпится увидеть ваше величество, и все будут бесконечно счастливы, что вы выздоравливаете.
– Вы полагаете, что я выздоравливаю? – недоверчиво спросил Эдвард и вытащил из-под подушки платок с багровыми пятнами. – А я полагаю, мой лорд, что вы все меня обманываете. Впрочем, как бы там ни было, сэр, я приказываю вам послезавтра привести моих дорогих друзей, общение с которыми будет для меня лучшим лекарством, и быть может, даже гораздо более действенным, чем все эти микстуры и порошки, каковыми меня изволят пичкать с утра до вечера.
– Не смею перечить вам, сир, – сказал Дадли. – Однако смирено прошу учесть, что все мои действия по ограждению вашего величества от чрезмерного шума, суеты и тревог вызваны лишь заботой о здоровье моего государя и рекомендациями придворных лекарей.
– Скажите, герцог, вы передали леди Джейн и лорду Гилфорду драгоценности, каковые, я пожелал, чтобы они надели на свадебную церемонию? – спросил король, довольный в душе тем, что скоро увидит своих друзей.
– О, сир! И леди Джейн и мой сын просто в восторге от такого королевского подарка, – уверил Нортумберленд. – Я и мой сын, мы искренне надеемся, что ко дню свадьбы ваше величество поправится настолько, что сможет своим присутствием украсить сию церемонию.
– Fiat voluntas Dei112, – задумчиво промолвил юный король. – Cras quis novit nos exspectat113?
«Видно, у него тоже зародились сомнения в своём выздоровлении, – подумал герцог. – Когда он закрывал сессию парламента месяц назад, он еле держался на ногах, а ныне почти не спускается с кровати. Что ж, если у короля появились подобные мысли, это мне только на руку».
– Вы совершенно правы, ваше величество, – сказал Дадли. – Мы не ведаем о том, что провидение ниспошлёт нам завтра, а тем паче через много недель и месяцев. А потому мудрый человек, которому небезразлична судьба его дома и близких, думает наперёд о том, чтобы они не перессорились и не обратили в прах построенный им дом, когда он убудет в далёкое и долгое путешествие.
Эдвард был слишком умён, чтобы не понять тайный смысл в словах своего министра. Некоторое время он молчал, собираясь с мыслями, затем сказал:
– К чему вы говорите притчами, мой лорд, словно забыли простую английскую речь? Или вы полагаете, будто я не догадываюсь, как серьёзен мой недуг? За дни болезни я много размышлял о том, что ждёт королевство и моих подданных, если Господу угодно будет призвать меня к себе раньше времени.
– Признаюсь, ваше величество, как ваш верный слуга я гоню от себя прочь подобные мысли! – с жаром произнёс герцог, сделал паузу и добавил тихим и осторожным голосом: – Но как главе Тайного Совета и приверженцу реформированной церкви мне долженствует глядеть наперёд и учитывать всевозможные события, могущие повлиять на состояние английского королевства, – даже самые неприятные и горестные.
Джон Дадли ждал, когда юный король сам заговорит о завещании, и исподволь подталкивал его к этому, но герцогу хватало ума не спрашивать Эдварда напрямик. Нортумберленд уже заметил лежавшие на столике около королевского ложа раскрытые свитки, и по выведенным большими, жирными буквами названиям ему нетрудно было догадаться, что то были копии завещания Генриха Восьмого и Акт о наследовании 1544 года. И это говорило о том, что Эдвард уже размышлял о будущем Англии, если его призовёт Господь. «Что ж, зёрна моих намёков упали на благодатную почву», – подумал герцог.
– Значит, после меня должна царствовать Мария? – хмуро спросил юный король.
– По крайней мере, сир, так написано в завещании вашего отца, короля Генриха, – ответил Джон Дадли.
– Но я не могу допустить возврата Англии к папистской ереси! – возмутился Эдвард. – В нашем королевстве закрыли все монастыри, отменили мессы, запретили идолопоклонничество, церковные службы стали вестись на английском языке. Скажите мне, герцог, неужели столькие труды моего батюшки и мои собственные были напрасными? Господь не должен допустить подобного бедствия в Англии!
– Ваша правда, сир, – согласился Джон Дадли. – Если бы леди Мария взошла на трон, наша страна снова вверглась бы в тенета католической ереси и утопла бы в крови праведников.
– Но возможно ли… возможно ли каким образом сделать так, чтобы моя сестра Мария не стала королевой? – промолвил Эдвард с некоторой неуверенностью, понимая, вероятно, что посягнул на волю своего отца, великого короля Генриха Восьмого.
О! Как много дней Нортумберленд ждал этого вопроса и готовился к нему.
– Сир, вы – Эдвард Тюдор, король Англии, Франции и Ирландии! – с пафосом сказал Джон Дадли. – И в вашей власти решать, кому перейдёт трон, если Господь преждевременно призовёт ваше величество… к великой скорби всей нации.
– Но ведь в завещании ясно сказано, кто наследует мне, – робко промолвил Эдвард. – Кто посмеет оспорить его?
– Каждый монарх имеет право составлять своё собственное завещание, – твёрдо ответил герцог, желая укрепить уверенность в короле в правоте его будущих действий. – Разве сёстры вашего величества, леди Мария вместе с леди Екатериной не признаны английским парламентом незаконнорожденными? Неужели среди legitimus in genere Tudor114 нет достойного и благочестивого наследника?
В эти три фразы Джон Дадли вложил весь смысл своего замысла, а их недосказанность и вопросительная интонация должны были подвигнуть страждущего короля на принятие решения, которое он приписал бы своей собственной догадливости – ловкий Нортумберленд знал, как обращаться с юным королём. По тому, как Эдвард задумался, Дадли понял, что тот ухватился за высказанные им намёки и уже обдумывает их.
Дав королю поразмышлять некоторое время, Джон Дадли, радуясь в душе, что всё складывается как нельзя лучше, решил, что настал черёд уладить просьбу своего зятя.
– Прошу прощения, ваше величество, – как будто спохватился герцог. – Меня все донимают вопросами о вашем самочувствии, проявляя искреннее беспокойство и сочувствие своему государю. Но, увы, иногда за этим скрываются личные интересы, как, к примеру, в случае с этим прошением о помиловании, которым я, зная о вашем благосклонном нраве, осмелился побеспокоить ваше величество.
Нортумберленд вложил в руки юного короля документ. Эдвард быстро пробежал его глазами и спросил:
– В чём же обвиняют этого Ронана Лангдэйла, Мастера Бакьюхейда?
– Он совершил преступление, каковое нанесло большую обиду вашей сестре леди Марии, а также может настроить против вас север страны, – если вы подпишите сие прошение. Этот молодой шотландский джентльмен отравил в таверне за трапезой младшего сына графа Шрусбери и имеет наглость утверждать о своей невиновности, хотя почтенные лондонские присяжные в силу неопровержимости улик вынесли вердикт «виновен». Вероятно, наслышавшись о благочестии и милосердии вашего величества, он вознамерился с помощью сего прошения спасти свою жизнь. Право слово, мне очень жаль, что я беспокою своего государя этим делом, но я не нашёл в себе сил лишить последней надежды несчастного, попавшего в дьявольские тенета юношу и его друзей.
– Вы предоставили мне эту честь? Так я должен понимать вас, сэр? – тихим, но твёрдым голосом спросил Эдвард.
– В вопросах нравственности и законности, сир, я не смею давать вам советы, и уж тем более решать за вас, – со смиренным поклоном молвил Джон Дадли.
– Хорошо же, – произнёс король. – Я прощал людей, которые шли на преступления из-за тяжёлой жизни, голода и крайней нищеты. Я подписывал помилование тем, чьи проступки были невероятно ничтожны по сравнению с абсурдными и чудовищными наказаниями, к которым их приговорили. Я отменил сожжение еретиков, дабы в покаянии и раскаянии они могли спасти свои заблудшие души. Но я не вижу ничего, чем можно оправдать поступок этого человека, а потому я не подпишу сие прошение...
Глава LXIII
День казни
В вечерний обход пришёл Тернки, положил в миску узника необычно большой кусок варёной говядины (всё в этот день было необычным) и сказал мягким, сочувственным тоном:
– Завтра, сэр, придёт нам пора расставаться. А как жаль, не поверите! Я уж свыкся с вами, да и вы, поди, тут пообжились. Дай Бог побольше таких добрых и щедрых постояльцев как вы. А то, глядишь, приведут какого-нибудь мелкого воришку, умыкнувшего рулон сукна. Ну, какой от него мне прок? Не то что вы! И джентльмен, и при деньжатах, и очутились здесь действительно за стоящее дело. Признаюсь, сэр, буду по вас скучать.
«…как собака по сахарной косточке, – подумал Ронан. – Чересчур уж он разговорился. Видно, ещё не потерял надежду вытянуть что-нибудь из меня».
– Каков порядок выбывания с этого постоялого двора? – спросил узник, бросив на тюремщика далеко не дружелюбный взгляд.
– Завтра утречком придёт капеллан из церкви Гроба Господня, – невозмутимо сказал Тернки, – той самой, чей надоедливый колокол порой мне спать не даёт. Так вот, он проведёт с вами душеспасительную беседу. Затем вы соблаговолите спуститься в комнату тюремного смотрителя, он вычеркнет ваше имя из своей матрикулы, а я вновь поменяю ваше одеяние на то, в котором вы сюда прибыли – оковы-то железные здесь завсегда востребованы, а верёвка вещь ненадёжная и недолговечная. После этого вас с почётным эскортом доставят в Тайберн. А там уж сами знаете что… Я лишь хотел бы заметить, что ежели у вашей милости есть какие-либо просьбы – ну, перед тем, как отправиться в мир иной, многие чего-то желают, – так вот, я с преогромным удовольствием возьмусь их исполнить.
– За весьма умеренное воздаяние, разумеется, – добавил Ронан – Не так ли?
– Вы же у нас давненько гостите и правила все знаете, – ответил тюремщик. – Да и зачем вам теперь деньги-то?
– Как знать, может, на том свете деньги тоже в ходу, – с мрачной иронией сказал узник. – Слушай, Пёс Тернки, ты сказал, что утром придёт капеллан из приходской церкви?
– Верно, как пить дать придёт, – подтвердил тюремщик. – Таковы правила. Как можно христианам-то без священника умирать, не облегчив душу и псалмов не послушав?
– Тернки, я – шотландец и исповедаю католическую веру, – сурово сказал Ронан. – А потому завтра мне необходим священник из лона этой церкви, который может и исповедовать и причастить. У меня ещё осталась одна золотая крона, и она будет твоей, если ты приведёшь мне утром такого человека.
– Хм, где же я разыщу такого священника? – озадачился тюремщик. – Впрочем, за целую золотую крону можно постараться, да и хоть самого папу римского вам доставить. Будет вам утречком папистский священник.
– Ну, вот тогда и получишь свою крону, – хмуро сказал Ронан. – А теперь оставь меня одного…
Полночи ещё узник работал напильником, предвкушая ощущение свободы, хотя бы и частичной, в пределах этой тюремной комнатушки. Перемычка на боковине становилась всё уже и уже, а движения напильника всё яростней…
Но вот, наконец, свершилось то, ради чего узник две недели почти не спал и работал не покладая рук! Действую напильником как рычагом, Ронан разогнул боковины на руках и ногах и осторожно, стараясь не шуметь, вытащил замки и снял оковы. Юноша несколько раз присел, потом помахал руками, неслышной поступью походил по комнате и вновь стал разминать стосковавшиеся по физическим упражнениям мышцы.
О, что за великое блаженство чувствовать своё тело свободным, лёгким и послушным! Это можно сравнить с ощущениями человека, бывшего долгое время прикованным к постели тяжким недугом, но благодаря стараниям опытных лекарей и своему огромному желанию, поправившемуся и вставшему на ноги. Казалось, в этой эйфории обретения телесной силы и свободы юноша мог провести все оставшиеся до рассвета несколько часов. Но, увы, это было мнимое и недолговечное счастье, ибо вновь вернулись мысли о том, что завтра – нет, уже сегодня – ему предстоит умереть.
Ронан опять нацепил на себя оковы, попробовал несколько раз снять их и одеть. Что ж, получалось неплохо. Теперь он мог избавиться от своих вериг в считанные мгновенья. Главное, чтобы до поры до времени никто не обратил внимание на распиленные боковины.
Юноша попрощался со сподручниками побега, по очереди просунул верёвку и напильник через решётку окна и отправил их в ров под стеной башни. Где-то далеко внизу в ночной темноте раздался глухой всплеск, и вновь воцарилась гробовая тишина. Затем узник растянулся на тюфяке и закрыл глаза – нет, не для того чтобы заснуть, ибо редко кто думает о том, чтобы вздремнуть в преддверии вечного сна. Он просто вспоминал всю свою жизнь: счастливое, безоблачное детство под сенью отчего замка, до тех пор, пока не скончалась его матушка, прикосновение чьих рук, ласковое и нежное, он до сих пор ощущал на своих волосах, и чей смутный облик в его памяти был окутан ореолом доброты и благочестия; редкое появление батюшки, пропадавшего всё время в военных походах, покуда полученное у Пинки увечье не положило конец его ратным подвигам; суровые занятии со старым солдатом, обучавшем его воинскому мастерству; охоту с гончими и соколами и весёлые скачки по горам и долам. Как ни странно Ронану вспоминалось лишь время его детства и юности, проведённое в Шотландии, а последних месяцев жизни в английской столице, полных впечатлений, эмоций и страстей, как будто и не было вовсе.
Особое место в воспоминаниях юноши занимал образ добросердечного, благочестивого отца Лазариуса, его мудрого учителя, видимо безвозвратно канувшего в неведомых казематах Гамильтонов. Жив ли он ещё? Едва ли. Его старое и немощное тело навряд ли выдержало бы те страдания, которые уготованы узникам темниц. А вот ученику его удалось ускользнуть из рук регента, думал Ронан, но лишь для того, чтобы окончить жизнь в омерзительной лондонской тюрьме. Не лучше ли было бы умереть рядом со своим наставником?
Чем ближе был рассвет, тем больше в голове узника воспоминания уступали место думам о предстоящем его последнем деянии в этой земной юдоли. В итоге, когда утренний свет пробился сквозь щели в ставне, все мысли Ронана сосредоточились на подробных деталях его действий, когда он выйдет из сумрачной камеры в коридор. Если конвойный пойдёт спереди, ему проще будет незаметно избавиться от оков и тут же наброситься на стражника или тюремщика. Кто это будет – Тернки или кто-то другой? Да и какая разница? Ну а если он пойдёт спереди, что ж, то придётся быть и хитрей, и ловчей.
Ронан встал, подошёл к окну и открыл ставень нараспашку. Как раз в этот момент колокол на церкви Гроба Господня пробил шесть часов. Уже скоро. Последний раз он слышит удар набата. Последний раз видит солнечный свет. Страдалец вздохнул, закрыл окно, сел на тюфяк, укутался рогожей и принялся сосредоточенно ждать…
Вскоре как обычно вошёл Тернки и необычно доброжелательно спросил, не хочет ли его милость напоследок вкусить пищи земной.
– Нет, – отрезал узник.
– Как угодно вашей милости, – сказал тюремщик. – Тогда я сейчас же приведу монаха, чтоб он не стоял перед тюремной дверью, словно свечка перед распятием. Ньюгейтская тюрьма это ведь не папистский монастырь. Не хватало ещё, чтобы шерифы увидали. Самый что ни на есть настоящий инок, ручаюсь вам, хоть и дряхлый уж. Ещё затемно вышел я из башни, а он стоит прямо перед тюрьмой, в рясе монашеской, чётки перебирает – всё как полагается. Просто диву даюсь, сколько ведь лет прошло, как монастыри позакрывали и монахов разогнали, а этот бродит по свету и рясу носить не страшится. Я-то полагал, придётся мне в богадельню святого Варфоломея топать – там ещё, сказывают, бывшие монахи за больными ходят. А он сам уж здесь стоит, откуда ни возьмись. Подумать только! Меня, правда, смутила его длиннющая борода – у монахов-то, помнится, наличие таковых было не заведено. Ну, я и сказал ему про то. А он заявил, что такое дозволение, дескать, ему дал какой-то французский то ли епископ, то ли сам кардинал. Ну, да Бог с ней, с бородой. Зато никогда я ещё так легко крону не зарабатывал. Вы покудова, сэр, можете монетку-то приготовить.
С этими словами, радуясь своей удаче, Тернки ушёл, чтобы через непродолжительное время вернуться, ведя за собой немощного монаха и освещая ему путь лампой.
– Вот, сэр, вам поп, чистой воды папистский, – сказал тюремщик. – Я полагаю, одного часа вам должно хватить для всяких там бесед спасительных и признаний покаянных. Ну, а где моя крона?
– Лежит справа от двери, – ответил Ронан, по-прежнему сидевший на тюфяке. – А теперь уйди прочь и оставь меня наедине с благочестивым иноком.
Дверь закрылась, заскрежетал ключ в замке, опустился тяжёлый засов, и камера погрузилась в полумрак, ибо оконце было прикрыто.
– Слева от вас находится табурет, святой отец, – сказал узник, – который может принести облегчение вашим усталым ногам. Вам ведь с самой ночи пришлось дожидаться, покуда тюремщик вас ко мне не проводит.
– Что значит утомление тела по сравнению с измученностью души! – произнёс старик глухим голосом. – Я ждал этого много дней и ночей, Ронан. Я ждал всю жизнь.
– Вы знаете меня! Кто вы? – изумился юноша.
– Неужели мой голос изменился настолько, что ты не узнаёшь человека, в ежеденном соприкосновении с которым провёл так много времени – надеюсь, с пользой для души и разума? – вопросил монах, после чего медленно прошёл мимо узника к окну, приоткрыл ставень и откинул капюшон.
– Отец Лазариус! – вскричал юноша, не веря своим глазам.
Как передать, что творилось в этот миг в душе Ронана? Разумеется, поначалу радостное изумление видеть живым и свободным своего старого наставника, которого он давно счёл за погибшего, охватило юношу, пробудило на его лице давно позабытую улыбку и зажгло глаза живым блеском. «А не призрак ли это, не обманчивое ли видение?» – подумалось вдруг Ронану, ибо так необыкновенно было появление здесь Лазариуса. Но он тут же отбросил эту эфемерную мысль. Старый монах стоял здесь, перед ним, живой и во плоти, его привёл тюремщик, который видел его и разговаривал с ним. Нет, это в самом деле Лазариус! Потом к восторженному ликованию, вызванному этим воскрешением, добавились чувство неловкости и смущение как за свой неприглядный вид – покрывшееся жёсткой щетиной лицо, взъерошенные и давно нечёсаные волосы, грязная и пропахшая зловонным запахом одежда, – так и за бедственность положения, в которое он угодил из-за собственного глупого простодушия.
Когда Ронан, наконец, пришёл в себя, что случилось не слишком скоро, он смог лишь озадачено спросить:
– Но как? Почему? Вы – здесь?
Лазариус посмотрел на юношу с ласковой и грустной улыбкой, снова притворил ставень и сказал:
– У нас осталось мало времени, сын мой. Вставай с этого ложа, на которое тебе никогда уже не вернутся. Поднимайся и снимай свои вериги.
– Как! Боже правый! Вам ведомо, что я могу их снять? – опять удивился Ронан, не понимавший абсолютно ничего. – Но откуда?
– Сын мой, ты всё узнаешь после, – изрёк старый монах. – А сейчас стряхни свои оковы к моим ногам, ибо мне они нужнее, чем тебе.
– Но зачем они вам, святой отец? – спросил юноша и добавил погрустневшим голосом: – Говоря по правде, у меня были другие намерения.
– Мы зря теряем драгоценное время, Ронан. Tempus nemini115, – увещевал старик и пояснил: – Я пришёл вырвать тебя из хищных лап смерти. Ты наденешь мою длиннополую рясу, накинешь капюшон и выйдешь отсюда вместо меня.
– Нет, это невозможно, отец Лазариус, совершенно невозможно, – невесело сказал Ронан. – Я не могу допустить, чтобы по моей вине и заместо меня погиб такой благонравный, добрый, мудрый человек. Как я буду потом жить с таким камнем на сердце? Да и, в общем-то, какая от меня польза на этом свете? Вы же ещё можете многое дать людям.
– Ох, как ты неправ, юноша, в своих суждениях, – возразил старец. – Никогда мне не искупить сего греха, ежели с тобой что нехорошее случится, ибо первопричиной всех твоих зол и несчастий стал мой неблаговидный проступок. А посему я явился спасти тебя и искупить свой грех моей жалкой старческой жизнью. Ей скоро и так пришёл бы конец. Tempus meum prope est116. Перед тобой же вся жизнь расстилается широкой дорогой, на которой ты сможешь свершить ещё множество благих деяний и с пользой для людей применить полученные знания.
– Но ведь как это будет низко с моей стороны поменяться с вами местами! – упрямо твердил Ронан. – Нет, святой отец, я не могу на это пойти.
– Наслышан я о твоём благородстве во имя людей, но сейчас ты проявляешь его в угоду тщеславию и гордыне, – с укоризной молвил монах. – Поспеши, сын мой, ибо время уходит, как вода сквозь песок, и скоро может быть поздно.
– Всё едино эта затея неосуществима, – стоял на своём Ронан. – Ваша борода! Подумайте, ведь её отсутствие сразу же бросится в глаза тюремщику, и всё мигом раскроется. Тогда мы оба погибнем.
– О, моя борода, – с грустью произнёс Лазариус и вдруг резко воскликнул: – Но так гляди же!
Старик взялся обеими руками за середину своей благообразной седой бороды, бывшей не менее двух футов длины, с силой дёрнул её и – о, чудо! – борода оторвалась от подбородка и осталась у него в руках.
– Она держалась на рыбьем клею, – пояснил Лазариус. – Им же мы её тебе и приклеим. Но надо спешить.
В душе юноши, казалось, жажда жизни ещё боролась с угрызениями совести, а тяга к свободе никак не могла пересилить благородные порывы.
– Время уходит, – напомнил монах. – Поспеши же, сын мой.
Но наконец-то увещевания Лазариуса, похоже, возымели своё действие, ибо Ронан скинул рогожу, встал и освободился от цепей. Всё это он проделал молча и с выражением глубокой скорби на лице, на котором не осталось ни единого проблеска радости. Затем старец вытащил из кармана склянку с рыбьим клеем и приладил бороду к подбородку юноши. Пришлось достаточно долго ждать, пока клей не высохнет. Всё это время Ронан печально молчал, чтобы не шевелить подбородком. Ещё более мрачный стал его лик, когда юноша в свою очередь прилаживал вериги на немощные конечности старого монаха, предварительно одев на того свой нечищеный камзол.
Едва Ронан успел усадить старика на тюфяк, напялить на него свою шапку, а самому натянуть монашью рясу, отпустить её бечёвки и закрыть голову капюшоном, как заскрежетал засов. Час пролетел незаметно и юноша не успел даже попрощаться со своим старым наставником и поблагодарить того за великодушный и жертвенный поступок. Вошёл Пёс Тернки, глянул на фигуру несчастного узника, горестно согнувшегося на тюфяке, на согбенного годами и тяжестью исповеди монаха с длиннющей бородой, хотел было сострадательно вздохнуть, но вспомнил про покоящуюся где-то в глубине его одежды золотую монету, и вздыхать ему сразу расхотелось.
– Пора тебе уходить, старик. Скоро уж мой сатрап придёт, и несдобровать мне, ежели он тебя заприметит, – сказал тюремщик, которому просто не хотелось делиться со смотрителем тюрьмы. – А ведь я такую услугу его милости оказал, хоть это не совсем по правилам сюда папистских попов пускать.
Переодетый Ронан медленно направился к двери, норовя подражать поступи старика. Для пущего сходства беглец принялся бубнить себе под нос на латыни молитву «Отче наш», стараясь подделываться под старческий голос. Юноше пришлось сильно сгорбиться, чтобы казаться ниже ростом – ибо он был на четыре или пять дюймов выше Лазариуса, – а также для того, чтобы капюшон упал как можно ниже и закрыл полностью его лицо. «Надо быть совсем слепым и глухим, – с тревогой думал беглец, – чтобы не заметить подмену узника и монаха».
Однако, к его счастью, в полумраке тюрьмы, где свет исходил только от лампы тюремщика, всё выглядело вполне обыкновенно и так естественно – убитый горем страдалец и искушённый в отправлении таинства рождения и смерти смиренный монах, что тюремщику, благодарному обоим за полученную им крону, даже и в голову не пришло посветить в лицо хоть кому-нибудь из них. Тернки выпустил монаха, запер камеру и пошёл впереди, освещая путь.
Сердце Ронана колотилось, словно набат церкви Гроба Господня. И пока беглец медленно спускался по лестницам и шёл по коридорам вслед за Тернки, он не раз со страхом подумал, что этот колокольный звон вот-вот дойдёт до слуха тюремщика и выдаст его. Однако, к счастью, для Тернки, в этот день как никогда в его ушах слышалась лишь сладкая музыка, которую издавали монеты у него в кошеле. Стоило лишь ему что-то заподозрить и обернуться к монаху, он вряд ли увидел бы ещё когда-нибудь солнечный свет, ибо Ронан, терять которому тогда стало бы нечего, не задумываясь бросился бы на тюремщика и, несомненно, уложил бы его на месте.
Когда они уже были в самом низу и до спасительного выхода из тюрьмы оставалось пройти через небольшую галерею, наружная дверь отворилась и дежурный тюремщик впустил нового арестанта, со связанными руками и путами на ногах – точь-в-точь как когда-то доставили сюда Ронана.
– Что, Дик, новый постоялец? – издали крикнул Пёс Тернки, не подозревая, какой смертельной угрозы он только что избежал. – Давай-ка я сейчас попа выпровожу и займусь свеженьким насельником.
– Недолго быть постояльцем этому висельнику. Сказали, что он какие-то хитрые трюки показывал и деньги у людей выманивал обманным способом, – ответил тюремщик по имени Дик. – А чего это там твой монашек бормочет?
Тюремщики невольно прислушались. Ронан уже по седьмому разу прочитал Pater Noster и, зная о близости выхода из тюрьмы, уже было остановился, но почувствовал обращённое к себе внимание и принялся вновь бормотать:
– Pater noster, qui es in caelis; sanctificetur Nomen Tuum; adveniat Regnum Tuum; fiat voluntas Tua; sicut in caelo, et in terra.
– Да это, видать, Отче Наш на латыни, – догадался Тернки. – Так ведь, старик?
Ронан утвердительно кивнул головой, а точнее капюшоном и длинной седой бородой, из-под него торчавшей и когда-то украшавшей более возрастного владельца. Нагнув голову ещё ниже и опустив глаза долу, юноша продолжал маленькими шажками продвигаться к двери, как вдруг почувствовал какую-то преграду перед собой, и тут же кто-то схватил его спереди за рясу. Ронан вздрогнул, напрягся, словно сжатая пружина, и готов был уже кинуться на тюремщиков, но что-то его сдержало.
– Благословите, святой отец! – раздался чей-то знакомый голос, интонация которого, однако, была больше любопытствующей, чем просящей.
«Чей это голос? – спросил себя Ронан, и вдруг в его голове пронеслось: – Ну и ну, да это же Овадия Гокроджер! Неужели он меня узнал по голосу? Помнится, он хвалился таким своим умением. Что же ему от меня нужно? Может, он намерен меня выдать и тем самым облегчить свою участь?»
Тюремщики тем временем с усмешкой взирали на эту забавную сцену, которая обещала им неплохое развлечение. Новый арестант стоял на коленях перед монахом и то ли умоляюще, то ли угрожающе крепко держал того за рясу своими связанными спереди руками.
– Заодно и грехи ему отпусти, монах, – шутки ради посоветовал тюремщик Дик. – К чему лишний раз священника к нему приводить?
– Не слушай моего сотоварища, старик, проваливай скорее, – сердито сказал Пёс Тернки, подумавший о возможном доходе с этого дела. – А ты, висельник, какого дьявола старика задерживаешь?
– Не мешайте мне, милостивые тюремщики, со святым отцом разговор вести, – ответил Овадия Гокроджер (это действительно был он). – А то он сейчас упорхнёт, аки пташка, а мне без слова господня сколько ещё времени в ваших казематах находиться?
– Ладно уж, – согласился Тернки. – Только учти, что для исповеди тебе время ещё не пришло, а коли пожелаешь перед смертью в грехах монаху покаяться, то ради такого удовольствия сохрани шиллинг, а лучше два до самого последнего своего дня.
– Благословите, святой отец! – опять вопросил Овадия.
– Benedicite! 117 – раздался глухой голос из-под капюшона.
– Я бы и во всех грехах покаялся, да тюремщики не позволяют, – продолжил стоящий на коленях Овадия, не отпуская рясу монаха и пытаясь снизу заглянуть под капюшон.
Ронан ещё сильнее нагнул голову, пытаясь укрыться от хитрого взгляда фокусника и проклиная того в душе. Неужели он его выдаст?
– Те Deum laudamus!118 – сказал мнимый монах, как можно сильнее искажая свой голос.
– Святой отец, я вовсе не прошу вас простить все мои бесчисленные грехи, – сказал Овадия Гокроджер. – И всё-таки, я надеюсь, что один из них я искуплю в сей же час.
– Gratias aginus quam maximas, Domine reverenissime119, – продолжал играть свою роль встревоженный донельзя Ронан, не понимая, что на уме у Овадии.
– О, как я погляжу, вы стали более разговорчивым, святой отец, – произнёс бывший фокусник, а ныне арестант. – Тогда скажите, как вы считаете, простит меня господь за то, что я забыл когда-то вернуть лошадь законному хозяину, зато потом сделал вид, что не узнал его при встрече?
– E dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimmus debitoribus nostris120, – молвил лже-монах, поднимая руку и осеняя крёстным знамением голову Овадии Гокроджера.
– Ну, слава Богу, хоть одним грешком меньше стало, – с облегчением промолвил фокусник, поднимаясь с колен и отпуская монашью рясу. – Эх, все равно душа моя пропащая. А началось-то ведь все мои беды с того, что я поддался уговорам йоркского разносчика и пустился в эту дикую страну, называемой Шотландией. Чтоб ей в тартарары провалиться со всеми её обитателями, из которых каждый если не скупец, то скряга! Упаси вас боже, нос свой туда совать. Вот мой вам совет. Будь она неладна эта страна, заселённая нищими и смердящими шотландцами! Чтоб их всех проказа обезобразила!
Овадия Гокроджер не подозревал, что своим разглагольствованием, казавшимся тюремщикам весёлым представлением бродячего артиста, он, можно сказать, спас жизни нескольких человек, ибо Ронан в случае раскрытия всего маскарада готов был уже броситься на тюремщиков со всей прытью дикой кошки, и одному Богу известно, чем всё бы закончилось.
Надо признаться, что хотя Овадия Гокроджер и хулил эту далёкую северную страну, делал он это преднамеренно. Благодаря своему уникальному дару он сразу распознал голос молодого джентльмена, которого полгода назад взялся проводить от самого приграничья до Дербишира и которого так неожиданно и коварно покинул, прихватив лошадь его слуги-мальчишки. Овадия неосознанно упал на колени перед лже-монахом и начал своё последнее представление, тем временем быстро соображая, какую же выгоду ему сулила эта негаданная встреча. То ли он понял безвыходность своего положения, то ли ростки угрызений совести пробились сквозь его приземлённую душу, но как бы то ни было, в итоге, Овадия Гокроджер вознамерился устроить последнее своё представление и помочь юноше. А для придания яркости и колорита своему выступлению, да и для того чтобы доставить себе некоторое удовольствие, наш фокусник принялся крыть родину Ронана и её обитателей на чём свет стоит, что он делал вполне искренне и от всего сердца.
Артист продолжал поносить Шотландию ещё несколько минут до тех пор, пока тюремщики не пресытились этим нежданным представлением и не приказали Овадии заткнуть пасть, что тот сделал с явной неохотой. Тернки взял опеку над новым постояльцем, а тюремщик Дик открыл дверь и выпроводил монаха наружу…
Когда Ронан услыхал грохот захлопнувшейся за ним двери Ньюгейтской тюрьмы, а уши его наполнил многоголосый шум рыночной площади, он с невероятным облегчением и огромной радостью осознал, что свободен. Он сделал шаг, другой и вдруг в нерешительности остановился, боясь поднять голову. Ронану даже показалось, что шум рыночной площади как-то стих, поскольку все на ней стали пялиться на странного человека в монашеской рясе, вышедшего из тюремных дверей. Беглец не знал куда идти, и более того, он не видел ничего перед собой, ибо опасался поднять голову – трудно представить, что произошло бы, если бы кто увидел длинную и седую бороду на его молодом лице.
«Надо же, – горестно подумал Ронан, – претерпеть столько лишений, миновать столько опасностей и лишь для того, чтобы меня тут же схватили простые горожане. Если я брошусь бежать, станет сразу ясно, что я – спасающий свою жизнь преступник, под обличием монаха выбравшийся из тюрьмы, и меня непременно догонят, как загнанную косулю. Ведь, по словам Дженкина, у лондонских горожан гоняться за преступниками – любимейшее занятие».
Однако стоять перед тюремной дверью было ещё опасней, а потому Ронан медленными и неуверенными шажками начал двигаться прочь. Но не успел он преодолеть и трёх ярдов, как почувствовал, как кто-то крепко вцепился в рукав его рясы.
– Ступайте за мной, святой отец, – раздался юный голос с шотландским акцентом.
– Эндри, ты! – прошептал ошеломлённый юноша.
– Тише, святой отец, – произнёс мальчишка. – Идите спокойно туда, куда я буду тянуть ваш рукав. Монахи здесь как бельмо на глазу.
Странная это была пара: рыжеволосый, веснушчатый парнишка в весёлой шапчонке с гусиным пером и согбенный инок в старом потёртом монашеском одеянии. Не удивительно, что она привлекла к себе внимания гораздо большее, чем им того бы хотелось. Они прошли под аркой Ньюгейтских ворот и покинули рыночную площадь, провожаемые десятками любопытных глаз. Сразу за воротам Эндри свернул направо и повёл беглеца в сторону Смитфилдского рынка. Едва башни Ньюгейтских ворот скрылись за крышам домов, мальчишка свернул в какой-то проулок, увлекая за собой лже-монаха. Там, вдали от людских глаз Ронан избавился от мозоливших глаза всем прохожим рясы и бороды, утопив их в сточной канаве, и остался в одной рубахе. Теперь они пошли гораздо быстрее, потому как расправивший спину молодой шотландец враз перестал быть немощным, старым монахом, еле волочащим ноги.
– Куда мы направляемся? – спросил Ронан, когда они вновь вышли на улицу. – Когда обман раскроется, за нами наверняка бросятся в погоню.
– Не беспокойтесь, ваша милость, – успокоил своего хозяина Эндри. – Где это видано, чтоб будь это даже целое стадо коров, а угналось бы за одним зайцем? Мы спрячемся там, где им и в голову не придёт вас искать – тута рядышком, под боком у судейского дома и недалече от тюрьмы. Хоть и близок загривок к зенкам, а все равно, как их ни таращь, никак его не углядишь. Да вот мы уж и пришли.
Впереди уже замаячил Смитфилдский рынок, слышалось мычание коров, ржание лошадей. Над площадью высились церковные шпили, немые свидетели не только бойкой торговли, но и ужасных, предсмертных воплей несчётного множества сожжённых на этом месте разномастных колдунов и ворожеек – мнимых и истых, еретиков разного толка – и католиков и протестантов. Не такая мучительная смерть ждала здесь других преступников, каковые не удосуживались чести расстаться с жизнью на Тауэрском холме, – а именно, им отрубали головы или четвертовали. Ронану, не так давно ещё жившему в преддверии смерти, сразу пришёл на ум зловещий ореол, каким было окутано это лобное место.
– Эндри, если хочешь знать, именно на той площади был казнён великий Уоллес121, – сказал Ронан.
– Славный, наверное, был человек, – благоговейно сказал мальчишка, – ежели всех англичан из нашей страны прогнал.
– Нет, всех не успел, – заметил Ронан. – Это через несколько лет сделал Роберт Брюс. Странно, что мне подобные мысли в голову приходят, когда мы сами ещё в огромной опасности. Наверно потому, что этот самый Уильям Уоллес, как говорят, обучался в юные годы в монастыре Пейсли у монахов, ни дать ни взять как я – у отца Лазариуса. Эх, бедный старец. Что теперь с ним станется?
Но тут, не доходя до площади, мальчишка свернул направо, прошмыгнул между домами и сараями, перемахнул через пару изгородей, прошёл по тоненькому брёвнышку через сточную канаву и оказался в каком-то заброшенном саду. Разумеется, Ронану пришлось последовать примеру своего слуги и проделать те же самые акробатические трюки, что он и исполнил, правда, без особого удовольствия, но выбора у него не было. Через несколько минут они стояли перед длинным, стоящим углом зданием. Кругом царила тишина, хотя буквально в трёх сотнях шагов за домами находился огромный, шумный рынок.
– Это больница святого Варфоломея, или дом для бедных, – пояснил Эндри. – И вам, мастер Ронан, придётся на время стать одним из них, а лучше сразу и бедным и больным. Ну-ка, извольте нагнуть вашу голову.
Ронан безропотно повиновался, как будто он был не господином, а слугой. Мальчишка, которому его роль доставляла огромное удовольствие, достал из-за пазухи припасённую тряпку и обмотал голову своего хозяина, после чего оценивающе осмотрел Ронана. Тот выглядел и в самом деле ужасно больным человеком: красные, воспалённые от бессонных ночей глаза на бледном, давно небритом лице; шатающаяся от усталости и пережитых волнений походка; руки, дрожащие от сильного нервного напряжения. По виду его можно было принять также и за человека, находящегося в крайне бедственном финансовом положении, у которого не было денег даже на верхнюю одежду (свой камзол юноша оставил бедному Лазариусу). Рубаха была грязная и измятая, а буфы штанов свалялись и были так искомканы, что напоминали скорее обмотанную вокруг бёдер власяницу, носимую в наказание за некие страшные грехи. Эндри остался доволен видом своего господина и велел ему ступать за собой.
Они вошли в калитку в невысокой изгороди справа от угла дома, прошли несколько ярдов вдоль бокового фасада и протиснулись в маленькую дверку, используемую, вероятно, лишь местными госпитальными служителями. Сначала беглецы спустились по каменной лесенке вниз, затем прошли по длинному тёмному коридору, освещаемому лишь небольшими оконцами под самым потолком. Мальчишка, похоже, хорошо знал расположение помещений в этой части больницы, так как уверенно свернул в нужном месте и стал взбираться вверх по другой лестнице. Затем они оказались в какой-то галерее с окнами по одной стороне и несколькими дверями по другой. За дверьми слышались какие-то шумы. Эндри смело открыл одну из них и ввёл своего господина вовнутрь. Это была большая госпитальная палата, одна из многих в больнице святого Варфоломея, где немощные и страждущие находили себе временный приют.
Здесь Ронану открылась печальная картина человеческих горя и страданий во всех своих проявлениях. По всему помещению на импровизированных ложах, а фактически на тюфяках, покрытых неким подобием простыней, лежали и сидели больные и нищие, старые и не очень. У кого-то обязательно что-то было перебинтовано или рядом валялись костыли, палки и посохи. Некоторые стонали от действительной или мнимой боли, другие о чём-то разговаривали друг с другом. Между тюфяками там и здесь ходили несколько человек, облачённых в длинные робы, чем-то напоминавшие монашеские рясы. Одним больным они меняли повязки и смазывали их ужасные язвы, другим давали выпить какие-то лечебные отвары, третьих просто о чём-то спрашивали. Несмотря на то, что в комнате были высокие потолки и окна, тошнотворные запахи витали по всему помещению. Не помогали даже разбросанные по всему полу пахучие сухие травы.
Мальчишка провёл Ронана в самый угол, где пустовало одно «ложе», и велел ему улечься на него.
– Эй, мальчик, а куда ж твой дед подевался? – спросил, сидевший на соседнем тюфяке нищий, судя по его лохмотьям, половина лица которого была обезображено отвратительными струпьями. – Давеча вечером мы поболтали малость, а потом он как обычно принялся мне Библию по памяти рассказывать и растолковывать что там и к чему. Мудрый у тебя дед, скажу я, и моего вида неприглядного не чурается. Жаль, что не дослушал я до конца, потому как сон меня сморил. А утром, глядь, пусто его место.
– Мой дедушка провёл всю ночь в служении Богу и в усердных молитвах, – с грустью ответил Эндри, потом лукаво улыбнулся и сказал: – Господь услыхал его, ей-ей, и вернул ему молодость. Но за ночь дедушка так утомился, что теперича от усталости с ног валится.
Нищий обомлел и в простодушном удивлением воззрился на «помолодевшего дедушку». Мальчишка тем временем подошёл к одному из «монахов» – которые, конечно же, были никакие не монахи, а ухаживающие за больными служители богадельни – и что-то сказал тому, указывая на Ронана.
– Всё в порядке, – успокаивающе прошептал Эндри, вернувшись к своему господину с полученной у служителя кружкой. – Вот глотните, да лежите себе преспокойненько и отдыхайте.
Повторять второй раз это мальчишке не пришлось. Как будто огромная ноша, давившая его душу страхом, спала с юноши, и, несмотря на множество вопросов, которыми он хотел забросать своего слугу, измученному переживаниями и бессонными ночами Ронану передалось спокойствие мальчишки, он сделал несколько глотков из кружки и тут же погрузился в глубокий сон.
Глава LXIV
История Лазариуса
Наверняка читателя удивило не меньше чем главного героя такое неожиданное воскрешение отца Лазариуса, хотя о судьбе старого монаха ему и было известно чуть больше, чем Ронану. Но как связать таинственное исчезновение старца из монастырского подвала, наглухо запертого там Фергалом, с его появлением в камере ожидавшего смерти узника за несколько часов до этого рокового события? Признаться честно, если собрать всех персонажей нашего повествования вместе, то они сообща смогли бы выяснить между собой, как всё это произошло. Но такой возможности ни у них, ни у автора, увы, пока нет и, возможно, она никогда и не представится. А потому, чтобы не испытывать терпение дотошного читателя и не заставлять его в поисках разгадки перепрыгивать на несколько страниц вперёд, мы воспользуемся паузой – и надо сказать, достаточно большой, – пока главный герой пребывает в объятиях Морфея, и расскажем по порядку, что же произошло со старым монахом с того самого времени, как мы оставили его в подвешенном состоянии в тёмном монастырском подвале…
– Эй, Санди, здесь чуточку пахнет чем-то съедобным, – раздался приглушённый голосок во мраке. – Может, они тут какие копчёности тоже держат, а? Святые отцы лакомиться любят – я слышал, матушка говорила.
– Я тоже про это слыхивал. Но, по-моему, это гарь от факела, – ответил второй детский голос. – Не, здесь они снедь не хранят, только бочки с вином. Мы же давеча всё с тобой тут облазили. Ты флягу в воде невзначай не обронил?
– Не, братик, флягу я-то не потерял, а вот ножки и ручки ужас как окоченели. Вода уж такая холоднющая, и воняет очень, фу, – ответил тоненький голосок, принадлежавший первому ребёнку.
– Да ты, Пат, руками ноги потри, они и согреются, – сказал старший мальчик. – Нам ещё обратно выбираться, а у тебя вон как зубы от холода стучат, аж искры выбивают. Мне их в темноте хорошо видать.
– Да? А нас не увидят, а, братец? – испуганно спросил маленький Пат. – А Боженька не рассердится, что мы вино из аббатского подвала утаскиваем?
– Да не переживай ты, глупыш, – успокоил брата Санди. – Никто нас не увидит. Что монахам посредь ночи в подвале делать-то? Да и Господь не в обиде будет, коли у монахов вина чуток поубавится. Зачем им его столько? Чтоб впадать во грех и напиваться до полусмерти? Вон, давеча на день святого Мирена так упились, что всю ночь в колокол трезвонили. А мы это вино продадим и какой-нибудь снеди тебе вкусной купим. Только ты смотри, мамке не сказывай.
– Не, Санди, не скажу, – уверил младший.
Голоса эти принадлежали, как читатель уже должно быть понял, двум мальчикам по имени Пат и Санди. Младшему из братьев не было ещё и пяти годков, старшему уже давно стукнуло девять. Они жили вместе с матерью в самой жалкой хижине в селении Пейсли, носившем почётное звание королевского города, хотя и было-то в нём всего около сотни домов, сложенных из глины, земли и дерева, три каменные башни, где обитали самые зажиточные члены общины, и двухэтажный особнячок, который выстроил для себя бейли, Роджер Семпилл.
Несколько лет назад, ещё до появления маленького Патрика, Санди вместе с матерью, молодой и не лишённой привлекательности женщиной, работящим отцом и дедушкой жил на внешней ферме в двух милях от Пейсли. Отец с дедом обрабатывали монастырскую землю, выращивали овёс и ячмень, держали скотину, платили в срок арендную плату и продолжали беспечально заниматься сельским хозяйством, не отрываясь от мирного труда даже во время многочисленных войн, бушевавших в те времена между Англией и Шотландией, ибо по шотландским законам монастырские ленники в обычное время не подлежали призыву на воинскую службу. В этом у них было огромное преимущество перед баронскими вассалами, которые обязаны были по первому зову своего господина бросать плуг во время пахоты или косу в жатвенную страду и браться за оружие.
Однако в тот месяц, когда мать Санди была на сносях в ожидании второго ребёночка, военное положение Шотландии стало опасным как никогда, так как с юга надвигалась большая английская армия, руководимая Эдвардом Сеймуром, герцогом Сомерсета и протектором Англии, с целью установить английский контроль над Шотландией и увезти её маленькую королеву в Лондон. А потому шотландский регент, Джеймс Гамильтон, объявил всеобщую мобилизацию, а ей подлежали также и церковные ленники. Аббатство Пейсли снарядило отряд, состоявший из десятка-другого монахов и такого же числа жителей своих поселений, наиболее годных для воинской службы, среди которых оказался и Патрик, отец Санди. Большая часть этого маленького ополчения погибла в сражении при Пинки. В их числе, к огромному горю бедной матери, был и её супруг, отец Санди. Несчастная вдова, будучи в тягости, не смогла даже отправиться на поиски тела погибшего, чтобы предать его земле по всем правилам. Вместо неё искать тело своего сына на огромном ратном поле уехал убитый горем дед, здоровье которого и так было уже неважнецким. Он запрятал в сарай косу, взял лопату, молча сел на осла и уехал. Тела сына он не привёз, сказав невестке, что предал его земле на сельском кладбище недалеко от места битвы. Целый год дед пытался тянуть на себе возделывание лена. Но ноша была чересчур непосильной для старого крестьянина, и постепенно дедушка уже двоих внуков – Санди и названного в память об отце Патрика – угас и поменял земную юдоль на обитель небесную. Вдова пошла со своим горем к бейли Мастеру Семпиллу, который в то смутное время занимался охраной аббатских владений, взиманием арендной платы и, вообще, всячески помогал настоятелю вести хозяйские дела аббатства, за что получал неплохое вознаграждение. Почтенный бейли посоветовался с настоятелем, и они предложили убитой горем женщине переселиться со своими отпрысками с фермы в Пейсли, где как раз пустовала одна старая хибара на самом берегу речки Уайт-Карт. А на жизнь она могла бы зарабатывать, стирая монастырское бельё и одежду, ибо у монахов всё время уходило на вечерни, заутрени, обедни, мессы и моления, а между ними на восстановление потраченных физических и духовных сил. Бедная вдова была рада и этому. Добрые соседи помогли застелить провалившуюся крышу новой соломой и перетащить немудрёный скарб семейства. Хотя плата за стирку монастырского белья была более чем скромной – ведь монахи проповедовали умеренность и воздержанность во всём, – а количество его, напротив, возрастало с каждым днём, ибо святые отцы наставляли держать душу и тело в чистоте, чему и старались подавать пример, заботливая мать каким-то образом умудрялась сводить концы с концами. Тем не менее, чувство голода стало постоянным спутником подрастающих Санди и Пата. А потому удить рыбу на берегах речки стало для них излюбленным занятием, позволявшим пополнять их скудный рацион. Особенно много рыбы было почему-то напротив монастырских стен, куда братья обычно и наведывались поутру, потому что днём им приходилось помогать матери.
Август в том году выдался на редкость сухим, и вода в речке даже в начале осени стояла ниже обычного. В один из сентябрьских деньков, когда на берёзовую рощицу чьи-то заботливые руки накинули шафрановую вуаль, а утренний воздух был чист и прозрачен, зоркие молодые глазки сквозь камышовые стебли разглядели между комьев тины на противоположном берегу под самыми монастырскими стенами тёмное отверстие. Ну, а разве мальчишеское любопытство в этом возрасте не побеждает, как правило, все страхи и боязни? А потому братья сбросили нехитрую свою одежонку, вброд перебрались на ту сторону и, перекрестившись и взявшись за руки, углубились в тёмное, пугающее жерло. Не будь стены сего отверстия сделаны из камня, – что говорило о рукотворности этого подземного чертога, – мальчики, возможно, и не осмелились бы сунуться в эту отверзлую пасть, напоминавшую врата в преисподнюю. Но, так или иначе, они двинулись внутрь по тёмному ходу. Дно было скользкое и противное, а вода отдавала чем-то неприятным. Мальчишки осторожно ступали по грудь в воде, крепко вцепившись друг в друга и дрожа как от холода, так и от страха. Чем дальше от входа, тем меньше света достигало их. Вдруг послышался шум струящейся откуда-то сверху воды, и тотчас сбоку из стены в мальчиков ударила струя вонючей жидкости. От испуга они рванули назад и выбрались наружу.
Однако мальчишеское любопытство взяло своё, и через день, прихватив с собой лучину, Санди и Пат продолжили исследование таинственного тоннеля. Чем дальше внутрь они углублялись, тем выше становился каменный свод, а воды убывало. Мальчики выяснили, что у подземного канала было несколько ответвлений, и Санди смекнул, что он служил ни для чего иного как для отвода использованной воды из монастырских сооружений. Эта гениальная догадка, впрочем, не удовлетворила детское любопытство, и, исследовав два или три ответвления, мальчики в конечном итоге нашли такое место, где подземный тоннель, сильно сужаясь, куда-то выходил. Санди это понял по тому, как под слабым движением воздуха задрожало пламя лучины. В другое время, менее засушливое, проникнуть сюда было невозможно, потому что вода подступала под самый свод канала. Сейчас же мальчики сильно пригнувшись дошли до самого конца этого ответвления, где они обнаружили узкое квадратное отверстие, из которого-то и тянул воздух. Санди подошёл под это отверстие, выпрямился и понял, что это колодец.
Конечно же, после стольких трудов мальчишкам захотелось узнать, что же там, наверху. Квадратный колодец был до такой степени узким и высоким, да к тому же прикрыт сверху крышкой, что Санди пришлось поставить Пата себе на плечи и, упираясь ногами в стены колодца, мало-помалу подняться настолько, что младший брат смог-таки сдвинуть крышку и вылезти наружу, а уж за ним последовал и Санди. Ни единый звук не нарушал царившей в помещении гробовой тишины. Зажгя лучину, мальчики обошли всю эту огромную комнату с холодными каменными стенами и колонами и по большому числу бочек и витающим в воздухе лёгким ароматам догадались, что она служила монахам не чем иным, как винным погребом. Бочки были помечены мелом, но читать мальчики не умели и потому не смогли узнать названия тех восхитительных вин, которые в них содержались. Но способность читать с успехом замещало обоняние. Затычки в некоторых бочонках были уже заменены на медные краники, а поэтому Санди не преминул попробовать вино на вкус, и даже благосклонно приподнял маленького Патрика, чтобы тот тоже отведал сей согревающий тело напиток. О том, что он греет ещё и душу, мальчики узнали чуть позже, ибо в этот момент главным для них было согреться после долгого хождения по грудь в воде. Закончив дегустацию и почувствовав разливающееся по телу блаженное тепло, мальчики вновь таким же образом протиснулись в колодец, не забыв прикрыть отдушину, спустились в воду и отправились в обратный путь.
После сего подвига Санди чувствовал себя настоящим героем. Но он не был бы истинным шотландцем, если бы не смог извлечь пользы из этого волнующего открытия. А потому он предложил братику развлечься весёлой игрой в разбойников и навестить монастырский подвал ещё раз, к чему Патрик отнёсся с огромным восторгом. Потом был ещё раз, и ещё раз. И всегда мальчики возвращались с флягами, полными животворящего напитка. Они ничего не говорили своей родительнице и бесшумно покидали дом посреди ночи, когда та мирно спала, утомлённая дневными заботами, и также бесшумно возвращались, покуда матушка всё ещё мирно почивала. Разумеется, столько галлонов вина, сколько мальчики за несколько раз вынесли из монашьего подвала, им было не выпить, да и Санди был уже не так мал, чтобы не понимать, к чему может привести сие пагубное пристрастие. Поэтому он позволял себе и младшему братику полакомиться лишь когда они были в подвале – для того чтобы согреться. А то, что они притаскивали во флягах, Санди тайком относил старому трактирщику в таверну, находившуюся около самых монастырских ворот. За это мальчик получал несколько фартингов, которые тратил на лакомства для себя и Пата. Он бы хотел купить ещё что-нибудь и для матери, но боялся тем самым вызвать у неё подозрения. Старый трактирщик, возможно, и догадывался о нечистом происхождении жидкости во флягах, приносимых ему Санди, но, не говоря никому ни слова, покупал у мальчика это вино, быть может, из жалости к детям несчастной вдовы, или же потому, что пополнял свои запасы прекрасным, неразбавленным французским вином и делал это почти задарма (он ведь тоже как и Санди был истым шотландцем)…
И вот теперь два брата снова отважились навестить монашеские закрома, что с каждым разом становилось всё труднее по причине наступавшей осени. Весь предыдущий день моросил дождик, солнце скрылось за пеленой туч и вода в Уайт-Карте стала ужасно холодной. А потому-то у маленького Пата зуб на зуб не попадал. Да и Санди было не многим легче. Но поскольку он считал себя бравым предводителем, которому не пристало жаловаться, то он стойко держался и старался приободрить Патрика. Старший мальчик прижал к себе братика и стал изо всех сил тереть того руками. Потом, когда голые и мокрые их тельца обсохли и обоим стало чуть теплее или, более правильно будет сказать, не так холодно, была зажжена припасённая лучина, и чтобы согреться окончательно мальчики направились к бочкам с краниками. Когда кровь веселее побежала по их жилам, Санди предложил пойти в тот конец подвала, откуда тянуло еле уловимым запахом гари, в надежде, что может быть там и в самом деле запрятаны какие-нибудь копчёности, которые монахи принесли сюда с момента последнего рейда маленьких разбойников. Но кроме бочек мальчики ничего не обнаружили. Правда, в этом конце подвала было две закрытые на засов двери, которые мальчики приметили ещё в первый свой визит и не оставили без внимания содержимое комнат, скрывавшихся за этими дверями. Ничего стоящего тогда они в них не обнаружили. Но может, стоить попытать ещё разок?
Санди открыл первую дверь и осветил внутренность комнаты. Всё было как и прежде: какие-то склянки, тигли, пучки разбросанных по всюду сушёных трав. Аккуратно закрыв левую дверь, Санди снял засов с правой, взял лучину у Пата и вошёл вовнутрь. То, что он увидел, заставило его на миг потерять дар речи. У стены с натянутыми вверх и связанными верёвкой руками сидел человек в монашеском одеянии. Непокрытая голова его свесилась на грудь, и по рясе простёрлась длинная белая борода. Первой мыслью Санди было убежать, но затем он устыдился её и осторожно приблизился к монаху, готовый в любой момент отпрыгнуть назад. В это время младший мальчик спрятался за дверным косяком и таращил оттуда свои испуганные глазёнки.
– Ой, покойник, – пролепетал Пат. – Давай уйдём отсюда, братик. Мне страшно.
– Не, когда монахи помирают, их хоронят на погосте внутри монастыря, – рассудил Санди, – а не подвешивают на стене, точно заячьи тушки. Лучше пойди сюда и подержи лучину.
Пат с неохотой повиновался. Санди вплотную подошёл к монаху, нагнулся и снизу заглянул тому в лицо, которое оказалось очень старым. Веки были закрыты, и казалось, что старый монах и в самом деле умер и уже не дышит. Мальчик боязливо дотронулся до шеи монаха, и в этот же миг из уст старика послышался слабый стон.
– Живой он ещё, но совсем дряхлый, – шёпотом произнёс Санди. – Коли его тут оставить, то помрёт, как пить дать помрёт. А ну-ка, Пат, иди к стене и становись на карачки.
– Зачем же, братик?
– Мне надо верёвку наверху отвязать, – ответил Санди. – Иначе я не достану.
Младший братик послушно опустился и подставил спину Санди. Тот так долго возился с крепким узлом, завязанным вокруг железного крюка на высоте выше роста взрослого человека, что у Пата заболела спина и он начал жалобно стонать. Но вот, наконец, руки монаха опустились и тело его сразу обмякло. Санди пришлось ещё повозиться с другим тугим узлом, стягивавшим запястья старика, но ловкие мальчишеские пальчики в конечном итоге справились и с ним.
– А теперича что? – растерянно спросил Пат.
– Помоги мне дотащить его до воды, – ответил старший мальчик. – Надо выволочь его отсюда. А иначе или сам помрёт, или загубят его тут. Вот уж не думал я, что среди наших монахов такие жестокости бывают. Надо же, так старого человека мучить!
Дети доволокли монаха до колодца и тут до них дошло, что старый монах был всё же взрослым человеком, туловище которого никак не могло пролезть в узкий колодец, по которому они сами-то с трудом вылезли. Однако Санди после некоторого раздумья догадался стянуть с инока широкую толстую рясу, и мальчики обнаружили, что на самом деле под ней скрывалось старое, худое и немощное тело. Сперва старший опустил на плечах в колодец Пата, затем снова вылез наверх и с преогромным трудом втиснул облачённого в один лишь подрясник инока в зияющее жерло. Тело старика было мягким и податливым и, поддерживаемое за руки и подталкиваемое Санди, оно, хоть и застряв пару раз, но всё же постепенно соскользнуло в колодец. Пат внизу вытащил монаха из узкого отверстия и не позволял тому полностью погрузиться в воду, поддерживая его голову над поверхностью. Вскоре спустился и Санди, не забыв прихватить рясу и опустить крышку. Дальше Санди по воде дотянул старика до того места, где было уже достаточно глубоко, взвалил себе его на плечи и так и потащил его по тёмному тоннелю, стараясь, чтобы голова монаха всё время находилась над водой. Хоть вес ноши и был сильно уменьшен водой, но все равно в кромешной темноте и холодной воде мальчишке пришлось очень нелегко. Позади с так и оставшимися пустыми флягами тащился Пат, которому тоже было непросто, так как ему постоянно приходилось подпрыгивать, поскольку воды за последние дни сильно прибыло и она зачастую доходила до самого носика мальчика. Но вот они выбрались из затхлого тоннеля на свежий воздух, и им осталось преодолеть какие-то двадцать ярдов до противоположного берега. Брод стал уже глубже, речная вода и ночной воздух холодней. Бедный Санди совсем выбился из сил, а Пат замёрз так, что ничего не соображал и пожаловался брату, что устал и хочет бросить фляги.
– Глупый, – сказал в ответ Санди, согнувшись под тяжестью своей ноши. – Мне тоже, знаешь, как тяжело? А без фляг на ту сторону ты не переберёшься. Дно уже глубокое, а они тебе помогут на поверхности держаться. Ну, пошли. И держись рядом со мной.
Когда мальчики, наконец-то, добрались до противоположного берега, Пат вконец замёрз и так дрожал, что не мог ни вымолвить и слова, ни тем паче помочь брату оттащить дальше от воды старого монаха. Ему бы согреться и в сухую кровать! Но всё, чем мог помочь ему уставший донельзя Санди, так это обтереть его своей одеждой и напялить на него его собственную. После этого старший брат велел Пату сидеть около старика и ждать его возвращения, а сам резво побежал домой. Через непродолжительное время Санди вернулся с маленькой тележкой, на которой их мать забирала и отвозила монастырские тряпки для стирки. Пат чуть согрелся и помог брату водрузить монаха в повозку.
– Скажем матушке, что пошли пораньше поудить рыбы и нашли его в реке около самого берега без сознания, – предложил Санди по дороге.
– Ага, – согласился Пат, которого по-прежнему продолжало сильно колотить.
Было ещё темно, когда мальчики вернулись домой. Они тут же разбудили мать, которой Санди без зазрения совести поведал свою выдумку о том, что произошло. Их мать поначалу обомлела, а потом пришла в неимоверное волнение.
– Да как же так! Я его давеча видела в монастырских воротах. Ведь это отец Лазариус! – изумлялась женщина. – Как же его угораздило, что он чуть не утоп-то? А мои славные мальчики спасли его! Благодарю тебя, святой Мирин! Я вот святым отцам одеянии их и простыни стираю, а потому и не оставляет нас святой. Теперь мы ещё больше благости от настоятеля получим. Глядишь, Мастер Cемпилл распорядится, чтоб сарай нам починили. Бог ты мой, да вы ж все мокрые! Живо раздевайтесь, Санди, разводи огонь. А я покуда отца Лазариуса раздену. Слава всевышнему, кажись, дышит старец. Утречком сразу же эту радостную весть надобно в монастырь сообщить.
Скороговоркой выпалив всё это, молодая женщина – ибо ей было всего-то двадцать шесть лет, хоть она и выглядела уже гораздо старше, – принялась хлопотать вокруг старого монаха: сняла его одежды, обтёрла старческое тело сухими тряпками, положила его на одеяло и потащила к очагу, издавая при этом охи да ахи и воздавая благодарности Пресвятой Богородице, Господу Иисусу Христу и святому Мирину.
Когда все высохли и согрелись, а на огне закипала вода, мать сказала Санди:
– Уже светает. А потому беги и стучись в монастырские врата. Скажи монахам, что вы с Патриком спасли жизнь старцу Лазариусу, а я его согрела и обсушила.
– Нет, мама, дорогая, прошу тебя, давай оставим старика в нашем доме, – возразил старший сын, – и никому не будем о нём сказывать.
– Это ещё почему? Что за глупости ты несёшь! – рассердилась мать. – Тот, кто помогает святой церкви – помогает самому Господу и имеет право от него благодарение получить.
– А ты глянь, мама, на его запястья. Давай оставим пока его у нас, – взмолился Санди.
– Ах! – воскликнула мать. – Да они все лилово-синие и в ссадинах, как будто… Ох, Боже ты мой! Да что же это такое? Не знаю прямо, что и подумать.
Мальчишка-то знал, что в монастыре отцу Лазариусу грозит опасность, иначе они не нашли бы его полуживого и подвязанного к стене. Но сказать матери об этом в открытую он не мог, не поведав ей про их похождения в монастырский подвал, а потому обходился намёками. Вероятно, доброе сердце было унаследована Санди от матери, потому что та, повздыхав и поохав, сказала:
– Ну, хорошо, постелю ему на моей кровати, а сама как-нибудь на тюфяке перебьюсь. Но только как же мне вас троих прокормить? Ума не приложу.
– Я могу половину моих порций отдавать старику, – великодушно предложил мальчик. – Проживём, мама. Рыбы ещё наловлю. Я место хорошее знаю. А выздоровеет отец Лазариус, там всё и прояснится. Лишь бы Пат не проболтался.
Мать с сыном одновременно посмотрели на маленького Патрика. Но тот их уже не слышал. Растянувшись на полу около очага, он уже спал, но каким-то неспокойным, тревожным сном. Веки его подрагивали, а губы что-то бесшумно шептали. Щёки Пата покрылись ярким румянцем, а на лбу блестели капельки пота.
– Не нравится мне это, – сказала мать. – Сделаю-ка я отвар таволги.
Затем они осторожно перенесли Лазариуса на кровать, плотно укутали и то же самое проделали и с Патом. После обычного своего завтрака, состоявшего из овсяной каши и кружки домашнего пива, мать ушла за очередной партией стирки, которую она получала у монастырских ворот сразу после второй заутрени, а Санди остался следить за очагом и присматривать за спящими.
– Где я? – вдруг послышался слабый старческий голос, пришедшего в себя монаха. – Здесь тепло и хорошо.
Мальчик сразу подошёл к кровати Лазариуса с кружкой отвара.
– Вот, выпейте, святой отец.
– Ох, ты, верно, ангел небесный, – удивлённо пробормотал старик, далеко ещё не пришедший в себя. – Скажи, неужели так всех привечают пред вратами чистилища?
– Здесь и в самом деле что-то вроде чистилища, отец Лазариус, – ответил Санди, – потому что моя матушка целыми днями очищает и стирает монашеские вещи.
– Но каким чудом я оказался в этом благословенном жилище? – спросил монах. – Память почему-то отказывает мне.
Мальчик смущённо опустил голову и попросил старца ничего не рассказывать его матушке.
– Что ж, коли тебе есть чего стыдиться и скрывать, мальчик, – сказал Лазариус, – тогда исповедуйся мне, и я никому не выдам твою тайну.
Санди это предложение устроило, и он обо всём поведал монаху, начиная с того как они с братом нашли вход в монастырский дренажный тоннель и заканчивая обнаружением и вызволением отца Лазариуса. По ходу рассказа затуманенная зельем память стала мало-помалу возвращаться к старому человеку, он с благодарностью смотрел на маленького грешника и хотел было поднять десницу, чтобы крестным знамением благословить мальчика, но страшная боль в суставах напомнила о перенесённых страданиях. Санди поднёс кружку к иссохшим губам монаха. Тот сделал несколько глотков и беспомощно опустил голову на набитую сухой травой грубую подушку, после чего снова заснул.
Вскоре после этого пришла мать мальчиков, волоча за собой тележку с огромным ворохом простыней, сорочек, носовых платков, скатертей, полотенец и прочих монастырских тряпок, подлежащих очищению от скверны. Но приступить к работе ни она, ни старший её сын не смогли, потому что тут проснулся Пат и принялся хныкать. Мать дотронулась до его лобика и ужаснулась – такой он был горячий. Она принялась его гладить, а на глазах её выступили слёзы. Санди тем временем заставил брата выпить отвара таволги и съесть несколько кусков овсянки. После этого мальчик опять забылся в беспокойном сне. Мать сказала, что плохо дело и поручила Санди сбегать за местной знахаркой, которая врачевала всех поселенцев Пейсли и сразу от всех болезней, была одновременно повивальной бабкой, лечила переломы, вывихи, раны и всякие прочие болезни, которые порой и вовсе не были болезнями. Та вскорости пришла, посмотрела больного мальчика, поколдовала над ним, дала какие-то травы для заварки, сказала, что надо бы снести больного к мощам в монастырь, и ушла. Лазариуса она не видела, потому как вдова предусмотрительно закрыла его занавеской. Мать с братом сделали всё, как велела знахарка: и давали пить принесённые травы, и Санди на тележке свозил его в монастырь и носил к святым мощам. Тем не менее, мальчику становилось всё хуже и хуже. У него уже не было сил говорить, и он лишь жалобно стонал и плакал.
Прошла следующая ночь, в течение которой мать и старший сын по очереди дежурили у постели Пата. Больной мальчик то метался в забытьи из стороны в сторону и что-то бормотал, то измождённый болезнью крепко засыпал, хотя и ненадолго. Утром ему стало ещё хуже, чем было накануне вечером. Мать горестно сидела около постели больного сына, нежно гладила его мягкие детские волосы, поправляла всё время сбивавшееся одеяло, прикладывала ко лбу мокрую тряпочку, тщетно надеясь, что она вытянет из мальчика весь жар.
Санди крутился вокруг, готовя питьё для братика, не забывая при этом и про другого пациента – про старого монаха. Благодаря его заботе, Лазариус уже настолько окреп, что днём смог сам встать с кровати. Он подошёл к постели, на которой лежал один из его маленьких спасителей, помогший вытащить Лазариуса из страшного подвала, а сегодня сам мучавшийся в страшной смертельной агонии.
Лазариус прикоснулся к запястью мальчика, потрогал его лобик, щёчки, вздохнул, покачал головой, потом отошёл в угол, туда, где он заметил висевшее на стене простенькое, вырезанное из дерева небольшое распятие. Старец преклонил перед ним колени, поднялся, поцеловал распятие и погрузился в глубокую беззвучную молитву.
Прошло, наверно, около часа. Мать и Санди уже и забыли о существовании монаха в их доме, ибо находились в неимоверном горе, со страхом наблюдая, как на их глазах угасает Пат. Надеяться уже было не на что, ибо все отвары и советы знахарки были испробованы, а пользы заметной они не принесли. Мать не отходила от умирающего ребёнка и всё гладила и ласкала его, в то время как слёзы беззвучно стекали по её щекам. Санди тоже был не прочь разрыдаться, но он чувствовал себя единственной опорой матери и не мог позволить себе поддаться этому малодушному, по его мнению, желанию, хотя ему, конечно, было очень жалко своего младшего братика.
– Добрая женщина, – раздался неожиданно старческий голос, – твои дети спасли меня от неминуемой гибели. Позволь же и мне во имя Бога, Отца нашего, спасти твоего мальчика, ежели на то будет воля господня.
Мать и Санди недоумённо воззрились на отца Лазариуса. Как этот старый и немощный монах может вылечить их Пата, если даже хвалёная знахарка не смогла помочь ему? Лазариус догадался об их сомнениях и продолжил:
– Бедный мальчик угасает как догорающая свеча. Ему не помогли ни земные средства, ни упования к святому Мирину. Так неужели, дочь моя, ты колеблешься принять помощь человека, коему ведом путь, как снискать божественную благодать? Неужели ты не жаждешь вновь обрести своего мальчика?
– О, святой отец! Я жажду это всем сердцем! – воскликнула мать. – Спасите его, если это в ваших силах! Я отдам, всё, что у меня есть, и даже свою жизнь, если потребуется, только спасите его!
– Обещаю тебе, добрая мать, что я не пощажу своих сил, чтобы вернуть мальчика к жизни, – ответил Лазариус. – Однако мне придётся потребовать, дабы меня оставили наедине с больным мальчиком и дали мне бадью с тёплой водой. Как монастырский набат позовёт к вечерне, так вы обратно и заходите в дом.
Мать с Санди сделали, как и велел Лазариус: нагрели ему воды и оставили своё простенькое жилище. В состоянии тревожного волнения они занялись своим привычным делом – а именно, стиркой белья, для чего у них был приспособлен сарай, стоявший недалеко от берега речки. Также Санди подоил единственную их козу, благодаря которой они могли позволить изредка побаловать себя молоком и сыром, подрыхлил землю на огородике, который снабжал их овощами, подправил покосившуюся изгородь. Ведь он теперь был старшим мужчиной в доме!
Однако все эти будничные дела и заботы не могли заставить мать с сыном хоть на минуту забыть о маленьком Патрике. Они то и дело бросали тревожные взгляды на дом и тихо шептали молитвы, даже не молитвы, ибо латыни они не знали, а простые шотландские слова, которые приходили им на сердце. Волнение их всё более возрастало с приближением вечера, и они начали уже прислушиваться, не пробьёт ли колокол.
Но вот раздалось мерное звучание этого инструмента, призывающего иноков к вечерне. Мать с Санди вздрогнули и медленно стали приближаться к своей лачуге. Вдова дрожащей рукой открыла дверь и вошла вовнутрь со старшим сыном у неё за спиной. Сцена в доме представляла собой полную противоположностью той, которую они оставили: на рогоже, постеленной поверх дернового пола, недвижно с закрытыми глазами лежал старый монах, около него стояла пустая бадья, а рядом сидел как ни в чём не бывало маленький Пат. Он дёргал Лазариуса за рукав и говорил: «Поднимайся, монах, расскажи мне ещё что-нибудь». Увидев вошедшую мать с братом, Пат пролепетал своим тоненьким голоском:
– Почему-то уснул монах. Ничего мне больше не говорит. А я его знаю. Мы с Санди его домой притащили из… – Пат запнулся, увидав предостерегающе поднятую руку брата.
Что произошло в эти часы у ложа умирающего мальчика, можно только догадываться. Ибо существуют в нашем мире тайны, природу которых люди постигнуть ещё не в состоянии. Одни объясняют это божественным промыслом, чудодейственными свойствами священных реликвий и благостью святых, другие говорят о магическом влиянии светлых и тёмных сил, по-разному истолковывая сущность этих стихий, третьи же вообще отрицают всё мистическое и тщатся придумывать разумные, с их точки зрения, доводы для объяснения необъяснимого.
Невозможно описать изумление, постигшее родных Патрика. Ещё бы! Они оставили мальчика в предсмертной агонии, а через несколько часов нашли его весёлым и здоровым. Это ли не чудо! Мать сразу бросилась к своему младшему сыну, принялась его обнимать и ощупывать, не веря своим глазам, а он же, удивлённый таким пылким проявлением материнской любви, заявил всего лишь, что хочет кушать. Санди же тем временем склонился над Лазариусом и по его слабому дыханию понял, что тот живой, хотя и был похож на покойника: такое бледное было у него лицо, белее его бороды…
Наутро Пат был здоровёхонек, болтал, бегал и крутился, как и три дня назад. А вот измождённый отец Лазариус покоился на кровати, не в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой, как будто все оставшиеся в его старом теле силы ушли на изгнание недуга из больного мальчика.
Неудивительно, что благодарные мать и её дети окружили отца Лазариуса такой теплотой и заботой, которые позволили старому монаху – хоть и не сразу, а лишь через много дней – подняться с постели. Труднее всего в эти дни приходилось счастливой матери, потому что её так и подмывало поделиться своей радостью с соседями и похвастаться перед ними необыкновенным чудом, свершившимся в её доме. Однако смышлёный Санди, детским своим наитием чувствуя подобное нетерпение матушки, всякий раз как она уходила из дома, делал страшные глаза и напоминал ей о необходимости держать язык за зубами. Мальчики, разумеется, тоже молчали как рыбы – уж им-то было чего скрывать.
Способность размышлять, похоже, возвращалась к Лазариусу быстрее чем способность двигаться, что было заметно по его живым глазам, светящимся глубоким умом. В первый день, когда ему хватило сил подняться с кровати, старый монах сказал хозяйке дома слабым, дребезжащим голосом:
– Добрая женщина, позволь обратиться к тебе с мольбой о помощи.
– Видит Бог, я рада всё для вас сделать, святой отец, – ответила хозяйка. – Спаситель вы наш!
– Спаситель не я, а он, – сказал Лазариус и поднял перст, указывая куда-то вверх. – Его и благодари. А мне надобно отправить твоего старшего сынка с поручением, и далёко отправить – два дня пути будет. Боюсь только, как бы он не заплутал в дороге.
Мать поначалу испугала перспектива отправить её сына в такую даль, но тут же вспомнив, чем она обязана монаху, она ответила:
– Санди у меня хоть и маленький ещё, да зато смышлёный не по годам. Коли надо будет, так и у людей поспрашивает. Вот завтра прямо и отправится. Пойду и поищу его.
Вскоре явился Санди, гордый тем, что старец желает доверить ему некое важное поручение. Лазариус побеседовал с ним несколько минут, растолковал как мог, куда мальчику предстоит идти, как найти это место и что говорить, а также посоветовал взять с собой дубинку на случай, ежели повстречаются волки, и на ночь остановиться в какой-нибудь хижине. Мать собрала с вечера сыну котомку с едой, и рано утром ещё до зари он вышел в дорогу…
Глава LXV
История Лазариуса (продолжение)
На следующий день вечером, когда за окном было уже темно, а в стёкла барабанил дождь, Роберт Лангдэйл сидел на стуле с высокой резной спинкой, протянув руки к камину и наблюдая за весёлыми плясками огня. Покалеченная нога ныла и не давала ему покоя в дождливые осенние дни, поэтому все вечера он проводил у себя комнате. Сегодня компанию ему составлял отец Филипп, старый его друг и советчик.
– Эх, где сейчас Ронан? – вздохнул сэр Роберт.
– Надеюсь, с божьей помощью он избежал опасности, – сказал капеллан. – Не знаю, правда, каким чудом он исчез из замка. Вероятно, то была десница господня! А, следовательно, и дальше всевышний будет ему покровительствовать.
– Дай-то Бог! – промолвил сэр Роберт. – Что же мы печалимся, старина? О-хо-хо, расставляй-ка фигуры. Давеча твоя взяла, но сегодня я тебя непременно одолею.
Отец Филипп взял с верха массивного комода шахматную доску, поставил её на лавку перед камином и высыпал из шёлкового мешочка изящные фигурки королев, рыцарей, епископов, пешек.
Однако не успели игроки расставить фигурки на шахматной доске, как дверь приоткрылась и в комнату неуклюже протиснулся дворецкий Джаспер, который в силу своего почтенного возраста и накопленной за долгие годы службы массы тела стал крайне неповоротлив и медлителен. Тем не менее, у сэра Роберта рука не поднималась дать ему отставку и выгнать старого слугу.
– Эй, старина, что привело тебя сюда в столь поздний час? – спросил хозяин замка.
– Кхе-кхе, сэр, пришёл молодой человек, – ответил дворецкий, – и по всему видать, из далека. Так вот, он спрашивает мастера Ронана. Мне, право, он кажется весьма подозрительным типом. Как ваша милость изволит с ним поступить?
– А ты сказал ему, что моего сына в замке нет, и когда он вернётся никому не ведомо? – поинтересовался сэр Роберт.
– Как же не сказал, знамо дело сказал. Как вы велели всем говорить, так я и сказал, – ответил дворецкий. – Только чересчур он упрямый. Кхе-кхе, вот это меня и тревожит, ваша милость.
– Хм, может, шпион какой подосланный? – нахмурив брови произнёс барон. – Вероятно, это происки тех негодяев, что на позапрошлой неделе сюда наведывались. Не успокоились, значит.
– Похоже на то, – согласился Джаспер. – Так что мне с ним делать? Может выставить за дверь и дело с концом?
– Мне думается, сэр Роберт, – вмешался в разговор отец Филипп, – что не по-божески в такое позднее время и в такую погоду закрывать дверь перед одиноким путником, кто бы он ни был.
– Ты совершенно прав, мой друг, – ответил хозяин замка и, подумав, добавил: – А ну-ка приведи его сюда, Джаспер. Посмотрим, что за птица.
Дворецкий ушёл и долго не возвращался. Лорд Бакьюхейд поднялся, сильно хромая, дошёл до стены, снял с неё перевязь с мечом и поставил рядом со стулом, полагая, что это придаст грозности и величавости его виду.
– Да, совсем мой дом в сборище стариков превратился, – посетовал барон, снова усаживаясь на стул. – Вон и Джаспер уже еле ноги ворочает. – Эндри бы за это время раз пять успел бы обернуться. Не хватает мне этого проворного мальчишки.
– Увы, мой любезный друг, – вымолвил священник, – с годами все мы моложе и здоровее не становимся. Но вот я уже слышу шаги.
И в самом деле, дверь вновь открылась – на этот раз почти нараспашку, – и в комнату теперь уже величаво и неспешно, словно потрёпанный бурей корабль, вплыл Джаспер. Он остановился перед хозяином и церемонно ему поклонился. Сэр Роберт удивлённо воззрился на дворецкого и промолвил:
– Ну, а где же наш незваный гость? Ты что, Джаспер, успел его потерять по дороге, как будто это не крошечный замок Крейдок с парой-тройкой комнат, а королевский дворец Холируд со множеством анфилад, залов и покоев?
Джаспер оглянулся и, не говоря ни слова, сделал шаг в сторону. Позади него стоял мальчишка не более четырёх футов росту в бедной одежонке, насквозь промокшей, и дрожащий от холода.
– О-хо-хо! – зашёлся барон и его раскатистый смех не замолк, пока не был прерван отцом Филиппом.
– Бедный мальчик, он весь продрог, – сказал добросердечный священник. – Подойди и стань ближе к камину. Огонь согреет твои крылышки, воробушек.
– И его-то мы опасались! – воскликнул вдоволь насмеявшийся хозяин, у которого аж слёзы выступили из глаз. – Ты видно, старина Джаспер, стал настолько слеп, что не в силах отличить грозного беркута от крохотного воробья, и до такой степени глух, что не улавливаешь разницы между рычанием льва и мяуканьем котёнка.
– Так ведь темно вон как и дождь барабанит. Разве ж тут что различишь и расслышишь? – пытался оправдаться дворецкий.
Мальчик тем временем встал рядом с камином, да так близко от огня, что будь на нём сухая одежда, она тут же вспыхнула бы, но поскольку она была насквозь мокрая, то от неё всего лишь пошел лёгкий пар.
– Скажи-ка, дружок, – обратился к нему сэр Роберт, – как твоё имя, откуда ты прибыл и с какой целью разыскиваешь Ронана Лангдэйла?
Мальчик стоял молча и в нерешительности. По-видимому, никогда в жизни ему ещё не приходилось бывать в обществе столь важных людей. Причём самым важным из них ему казался тот старик, который привёл его в эту комнату: такие на нём были пышные и роскошные одежды и такой у него был надутый вид. Другой, немолодой тоже человек, который пожалел его и велел подойти к камину, был худосочен и одет много скромнее, всего лишь в длинную тёмную мантию. А весёлый обладатель зычного голоса, облачённый в большой халат с меховой опушкой, на вид был теперь совсем не весёлым: страшный шрам, пересекавший суровое лицо, мохнатые брови, сдвинутые к переносице делали вид его достаточно страшным.
– Эй, Джаспер, – сказал барон, – налей-ка вина из графина на столе – только не перепутай его с чернильницей! – и дай глотнуть мальчишке. Может, ему тогда вспомнится, что он не рыба, а человек, обладающий божьим даром говорить.
Дворецкий сделал как было велено, из чего мальчик заключил, этот толстый старик лишь слуга, а главный тот, который в халате.
– О-хо-хо! Да он выпил всё вино, не моргнув и глазом! – изумился сэр Роберт. – Как будто с колыбели хлебал его вместо материнского молока. Но если тебе уже полегче, мальчик, может поведаешь мне зачем тебе нужен Ронан?
– А вы кто? – спросил мальчик, поставив всех в тупик своим казалось бы простым вопросом.
– Послушай, молодой человек, – снова вмешался отец Филипп, вознамерившийся помочь юному гостю. – Ты имеешь честь говорить с лордом Бакьюхейдом, сэром Робертом Лангдэйлом и отцом того, кого ты спрашивал.
– А вы в самом деле взаправдашний лорд? – спросил мальчик. – Я один раз настоящего лорда видал, когда в Пейсли приезжал отец нашего бейли Мастера Семпилла.
– Пейсли? Ты, значит, прибыл из Пейсли? – спросил сэр Роберт, голос которого враз стал серьёзным. – Отец Филипп, Джаспер, позвольте мне поговорить с этим мальчиком наедине.
После того как священник и дворецкий недоумённо переглянулись и покинули комнату, хозяин замка произнёс только два слова:
– Отец Лазариус?
Санди – а это был именно он – пришёл к выводу, что от этого человека скрывать нечего, раз он отец Ронана Лангдэйла и знает отца Лазариуса, и потому рассказал барону всё от начала до конца, начиная с того, как появился на свет его маленький братец (что было до того, он просто не помнил, потому что был слишком юн), как трудно было деду одному возделывать землю и как после его смерти матушке пришлось стать монастырской прачкой.
– Ах, эти монахи до того обленились, что и стирать за собой не желают, – проворчал сэр Роберт. – Где это видано было в старые-то времена, чтобы монахи сами своё исподнее не стирали?
А в заключение мальчик передал слова старца о том, что Ронану, как и ему, Лазариусу, грозит большая беда, и что лучше будет, если юноша на время исчезнет из страны, и что отец Лазариус сам хочет уйти из этих мест, когда наберётся сил, дабы не навлечь ни на кого беду. Барон заставил Санди несколько раз пересказать слова старого монаха, а когда убедился, что понял всё правильно, то позвал в комнату отца Филиппа и дворецкого Джаспера. Последнему он поручил заботу о мальчике и велел покормить того самым вкусным, что есть в доме, и уложить спать в самую тёплую кровать. Священника же сэр Роберт попросил написать на латыни – ибо сам он знал её не очень хорошо – такую фразу: «Молодой скворец, спасаясь от ястребов и холодной погоды, улетел зимовать в южные земли».
Утром сэр Роберт вывел Санди во двор, где их уже поджидал ловчий Питер – преданный слуга и добродушный малый, – державший за поводья лошадь. Погода была не намного лучше, чем накануне – на смену дождю лишь пришёл плотный серый туман, мало чем отличавшийся от дождя по своей сути.
– Довезёшь этого мальчика до Глазго, – велел хозяин. – Оставишь лошадь на постоялом дворе и под покровом темноты проводишь его в Пейсли. Мальчик покажет тебе дорогу, и хорошенько её запомни. Войдёшь с ним в дом, отдашь эту записку старику с длинной белой бородой и спросишь у него, не хочет ли он что написать в ответ. Потом вернёшься на постоялый двор и утром скачи обратно. И ни с кем не болтай по дороге, кроме твоего юного спутника. Уразумел?
– А то как же, ваша милость! – ответил Питер. – Эге-ге! Весёленькое это дело до Глазго прокатиться и до Пейсли прогуляться, да ни с кем окромя мальчика не разговаривать. Всё в точности так и сделаю, можете не сомневаться.
– Сэр, – робко промолвил мальчик, – у нас дома нет чернил и бумаги для письма.
Барон Бакьюхейда велел тут же принести маленькую склянку с чернилами и стопку бумаги. Когда эти предметы уже покоились в сумке Питера, сэр Роберт нагнулся к Санди и вручил маленький кошелёчек, набитый монетами, потом подхватил мальчика и посадил на лошадь, где уже лихо восседал Питер. Привратник открыл ворота, и путешественники скрылись в густой серой мгле…
Ловчий барона хоть и не отличался излишней смышлёностью, но был само усердие и старательность, а потому выполнил своё поручение точно и аккуратно, как и обещал. Чуть за полночь тихий стук в дверь поднял вдову с постели (то есть с тюфяка на полу), а вслед за стуком послышалось: «Мама, открой, это я – Санди». Дверь открылась. Но к удивлению хозяйки жилища вместе с её сыном в лачугу вошёл незнакомый ей мужчина, на поясе у которого грозно висел палаш, хотя при виде молодой женщины, закутанной в старое шерстяное одеяло, на лице гостя появилась тень неловкости, а при более ярком свете можно было бы заметить и краску смущения.
– Мама, это наш друг, – сказал Санди. – Его зовут Питер и ему надо поговорить с отцом Лазариусом.
Старец уже сидел на кровати и пытливо смотрел на незнакомца.
– Вот вам, добрый человек, письмо от моего хозяина, сэра Роберта Лангдэйла, – сказал ловчий, – а вот чернила и бумага, ежели у вас будет желаньице написать чего-нибудь в ответ. Эге-ге, теперича у вас будет более надёжный и быстрый посланец, чем этот малец, хотя хозяину моему он, видать, пришёлся по душе.
Лазариус быстро пробежал глазами записку, подумал немного и, взяв острую щепку, написал ей ответ, который ревнивый Питер уже следующим вечером доставил и вручил своему хозяину.
Сэр Роберт медленно прочитал письмо, с трудом разбирая латинские слова, которые в итоге сложились в его голове в следующий текст:
«Силы мои возвращаются, физические и духовные. С каждым днём растёт во мне предчувствие беды, нависшей над скворцом, хотя он и улетел в тёплые страны. Но и в них иногда случаются холодные бури и там тоже водятся хищники. Мне же опасно оставаться в этой земле. Потому я желал бы улететь вслед за скворцом, дабы предупредить его о неведомой ещё опасности и приложить мои силы к отвращению беды».
Целый следующий день размышлял сэр Роберт над странным письмом старого монаха. Единственное, что барон понял из текста, так это то, что Лазариус желал бы последовать за его сыном и что, по мнению монаха, Ронану угрожает некая опасность.
«Что ж, может статься, старец и обладает даром прозорливости, – думал хозяин замка. – Во всяком случае, сын мне рассказывал, что ходят такие слухи среди тамошних монахов. Что ж, ну и пусть святой отец отправляется в Дербишир, да и Ронан наверняка будет не прочь иметь рядом такого наставника. Вот только монахи нынче в Англии не в почёте, монастыри все позакрывали, а имущество их разошлось по рукам королевских приспешников. Трудно святому отцу там придётся. Да и на чём ему туда отправляться? Старый он уже. Ронан сказывал, будто он не то что в седле, на осле уже держаться не может. Разве что пешим порядком топать. Но, даст Бог, как-нибудь приноровится. По любому здесь ему грозят ещё большие беды».
Такие были вкратце думы сэра Роберта. Поэтому пришлось Питеру снова бросать свои дела в замке и отправляться в Пейсли, что, надо признать, он сделал не без некоторого тайного удовольствия.
На четвёртую ночь в дверь домика в Пейсли опять раздался тихий стук. На вопрос хозяйки «Кто там?» раздался ответ:
– Это Питер, душенька. Тот самый, что сынка твоего недавно привёл.
Его впустили, и ловчий опустил на покрытый дерюгой пол две большие сумы. Из одной он вытащил ворох разной одежды и сказал монаху:
– Это ваше новое облачение, святой отец. Оно, конечно, не такое уж новое и кое-где в заплатах. Но, эге-ге, мой хозяин сказал, что так оно даже и лучше. Вы уж на него не серчайте, а подберите, что вам по душе. А ещё вот этот кошелёчек возьмите.
– И ничего более он не велел мне передать? – недоумённо спросил Лазариус.
– Ах ты, пустая моя голова, – извиняющимся тоном произнёс ловчий, нагнулся к уху старика и что-то прошептал.
Содержимое второй сумы Питер вытащил на старый, весь потрескавшийся и изрезанный стол, давно уже страшно шатавшийся и готовый рухнуть в любой момент, как, впрочем, и сама хибара. Здесь было два каравая настоящего пшеничного хлеба, мясной пирог, большая головка сыра не меньше пяти фунтов веса и здоровенный ломоть жареной говядины. В довершение этого рядом появилась бутылка вина.
– Мы, слава Богу, не голодаем, – смущёно ответила молодая женщина. – Но всё едино мы много благодарны твоему доброму хозяину, Питер.
– Моему хозяину? – с растерянностью сказал ловчий. – Ах, да, моему хозяину, конечно же, ему. А то, как же иначе? – как-то обескуражено пробормотал он.
– Или это не от твоего лорда? – испытующе спросила хозяйка.
– И от него вам будут подарки, – обрадовано ответил Питер, – когда… когда вы к нам в Крейдок переберётесь… У моего хозяина недавно молодой слуга куда-то подевался, как в воду канул. Вот наш лорд и подумывает, чтобы вашего мальчика к себе взять. Ну, раз такое дело, то и я пораскинул мозгами, и думается мне, что негоже мать с сыном-то разлучать. Так что, скоро я к вам снова явлюсь, только уж не на своих двоих под покровом ночи, будто вор какой-то, а средь бела дня и верхом на славной лошадке, как… Ну, да ладно, прощай покудова!
Несколько дней ещё Лазариус провёл в гостеприимном доме вдовы. Ему не терпелось пуститься в дорогу, но приходилось дожидаться, пока утраченные силы вновь вернутся в его тело, ибо путь ему предстоял не близкий. Вот, что прошептал ему Питер: «Сэр Хью Уилаби, поместье Рисли, Дербишир», из чего монах заключил, что именно туда и отправился Ронан, а значит, в ту сторону предстояло путешествовать и ему.
В один из тёмных ноябрьских вечеров Лазариус сказал вдове:
– Спасибо вашему доброму семейству, что спасли, приютили и выходили бедного монаха в час, когда ему грозила верная погибель. Бог не оставит вас своей милостью. Время пришло мне, и нынче в ночь я покину сей кров, под коим божественной благодати не менее, чем под церковным сводом. Да пребудет с вами Господь во веки вечные!
Лазариус облачился в мирскую одежду, отобранную им из того вороха, что принёс Питер. Санди выстругал для старца дорожный посох. Никто кроме маленького Пата, не лёг спать до самого того часа, когда монах покинул дом. Напоследок Лазариус осенил крестным знамением спящего мальчика, благословил Санди и его мать, которой шепнул, что Питер хоть и простой, но добрый человек, и она не пожалеет, коли он её позовёт замуж. Это были последние слова Лазариуса, прозвучавшие в этой лачуге. Старый монах открыл дверь и ступил в темноту ночи.
Погода благоприятствовала намерению Лазариуса незаметно покинуть земли аббатства, потому как плотные облака заволокли небо и ни одно ночное светило не озаряло грешную землю. Впервые за многие недели старец оказался под открытым небом и дышал свежим, прохладным воздухом. Он побрёл по дороге, стараясь как можно быстрее покинуть места, где его могли бы узнать. Как он ни старался, но до рассвета преодолел всего шесть миль, хотя и они дались ему с трудом. Опасаясь быть узнанным, старик укрылся в перелеске, весь день просидел там и немного вздремнул. У него был небольшой запас еды – несколько сушёных рыбок, хлеб и сыр, чем он и утолил свой голод. В следующую ночь Лазариус прошёл чуть больше и снова провёл день, укрывшись в зарослях. Очутившись уже достаточно далеко за пределами аббатских земель, далее он продолжал свой путь в дневное время, на ночь останавливался в тавернах или постоялых дворах, а если ночь застигала его вдали от подобных заведений, то просился на ночлег в самую жалкую хижину, какую он мог найти поблизости.
Редко, кто мог отказать в ночлеге путнику преклонных лет, с длинной седой бородой, с толстым посохом в руке, весь вид которого говорил, что это усталый, изнемогающий от долгих странствий человек. Одежда его состояла из чёрного саржевого плаща с длинным капюшоном, который покрывал плечи и спускался ниже пояса, а голову укрывала широкополая шляпа без какой-либо ленты или пряжки, надвинутая по самые глаза. За спиной старика висела котомка с флягой, а на поясе – чернильница, как некий символ учёности. Таким способом, переходя от селения к селению, Лазариус мало-помалу пересёк юг Шотландии. По дороге его, к счастью, никто не останавливал, принимая или за пилигрима, совершавшего путешествие к святым местам, или за учителя, по какой-то причине решившего перебраться в другие места.
Не раз старику попадались по дороге люди весьма сомнительной наружности: бродяги и цыгане в разношерстных, потрёпанных одеждах, готовые хитростью и обманом обобрать любого встречного, а также до зубов вооружённые всадники в обшитых железом куртках без рукавов и стальных шляпах с большими полями и украшенных плюмажем, которые представляли собой не меньшую опасность чем первые. Тем не менее, бредущий одиноко согбенный старик имел такой дряхлый и несчастный вид, что даже у очерствелых сердцем людей не поднималась рука остановить его и попытаться извлечь какую-либо выгоду из беззащитности старца.
Помня по памяти старинные карты, хранившиеся в монастырской библиотеке, Лазариус избрал самый короткий путь до английского города Дерби, в отличие от предшествовавшего ему Ронана, которого, как мы помним, хитрый проводник увёл дальней дорогой через Йорк. Тем не менее, если Ронан с Эндри, путешествуя себе в удовольствие, неторопливо добрались до Рисли за три с небольшим недели, у гнавшегося по их следам Фергала дорога заняли почти полтора месяца, хотя он не мог позволить ни минуты передышки, то старый немощный Лазариус, путешествуя по самому кратчайшему пути, одолел его за три месяца. И время это пришлось на самый холодный сезон года, то есть на зиму, когда далеко не каждый путник отваживался пуститься в далёкое пешее странствование по горам и долам, то увязая по колено в снегу, то подвергая себя испытанию ледяным дождём и пронизывающим ветром. Излишне описывать все тяготы пути, выпавшие на долю старого монаха.
Странно только одно – как он вынес все эти мучения и как не прервал свой долгий путь. Вероятно, Лазариуса подкрепляла вера и желание предупредить и избавить от опасности Ронана, которого он полюбил всем сердцем. Старик не знал, что это за угроза, но чувствовал её благодаря своему сверхъестественному наитию.
Однако, как это часто случается, когда конечная цель уже близка и до неё уже, кажется, можно дотянуться рукой, наши силы, будучи в неимоверном напряжении весь путь, в предвкушении долгожданного, скорого отдыха вдруг предательски подводят в самый последний момент. Произошло это, увы, и с Лазариусом. Добравшись до города Дерби и узнав на постоялом дворе, что Рисли находится в каких-нибудь пяти милях – подумать только, всего в пяти милях! – уставший путник успокоено лёг спать, надеясь на следующий день добраться до Рисли. Но утром он проснулся с пугающим ознобом, сильным жаром и неимоверной болью в старческих суставах. Изношенное тело до конца сопротивлялось зимним холодам и пронизывающим ветрам, сопровождавшим путника всю дорогу. Но когда все невзгоды, казалось, остались позади, оно не выдержало и дало слабину, и Лазариус слёг с сильнейшей простудой.
Старик то лежал в забытье, то стонал и метался в жару. Хорошо, что у него ещё оставалось немного денег, так благосклонно дарованных ему лордом Бакьюхейдом. Поэтому Лазариусу было чем заплатить и лекарю, и за постой. Но, к несчастью, хозяин той гостиницы оказался на редкость бесчестным человеком и обчистил карманы своего бесчувственного постояльца, всей своей низменной душонкой надеясь, что дряхлый старикан не оклемается и в ближайшее время отдаст богу душу.
Это случилось на третий или четвёртый день болезни. Когда Лазариус, с трудом двигая своё тело, полез за деньгами, чтобы заплатить местному эскулапу, который принёс ему целебные снадобья, то со страхом обнаружил, что в кошельке осталось всего пара пенсов и несколько фартингов, которых едва хватило, чтобы расплатиться с лекарем, – хотя денег было куда больше, когда он пришёл в Дерби. Больной старик понял, что дело нечисто и виной всему хозяин гостиницы, у которого единственного были ключи и их копии от всех помещений. Несмотря на слабое и больное тело, мышление Лазариуса оставалось здравым и ясным, и поэтому он быстро осознал, как опасно для его жизни оставаться под этим кровом. Старец с трудом оделся, взял свои немудрёные вещи и через силу спустился вниз. Навстречу ему появился хозяин гостиницы, на плутовской физиономии которого были написаны удивление и опаска. По хмурому лицу старика он понял, что тот обо всём догадался, а потому, когда тот с преогромным трудом открыл дверь, хозяин великодушно не стал требовать с обкраденного постояльца платы, зная к тому же, что денег у того почти не осталось, и лишь молча с непроницаемым лицом проводил его глазами.
Едва передвигая ноги и дрожа от закрутившего его ветра и бьющего озноба, Лазариус справился у какого-то прохожего, в какой стороне находится Рисли, и, превозмогая страшную слабость, двинулся в указанном направлении. Возможно, он никогда бы не преодолел эти пять миль, а упал бы на дороге и замёрз до смерти – мало ли подобных смертей случалось ежедневно на зимних английских дорогах? – но на счастье вскоре с ним поравнялась телега, гружённая углём, и сердобольный возница спросил, куда тот идёт. Узнав, что в особняк Рисли, возница сказал, что им безмала по пути, и предложил его подвезти. Добрый хозяин телеги помог старику забраться в повозку и примоститься на куче угля. Доехав до Рисли, возница остановил телегу у поворота к одному из первых домов и хотел было помочь старику спуститься вниз, но заметив, что тот уснул, и вспомнив, с каким трудом тот шёл по дороге и залезал потом в телегу, снова тронул лошадь и проехал лишних пятьсот ярдов, вплоть до самых ворот особняка.
Разбуженный путник при помощи возницы спустился с повозки и, несмотря на трясущую его лихорадку, от всего сердца поблагодарил своего, можно с уверенностью сказать, спасителя. А тот пожелал путнику удачи и поехал в обратную сторону, довольный тем, что помог старому человеку.
Лазариус постучал молотком по двери около ворот и в ожидании, пока её кто-нибудь откроет, прислонился к стене. Дверь долго не отпирали. Но, наконец, вышел здоровенный детина, которого (если читатель ещё не забыл) звали Ральф, и спросил у старого человека, что тому надобно.
– Ронана Лангдэйла, – слабым голосом сказал Лазариус.
Ральф недоумённо почесал бороду, думая, кто бы это мог быть – Ронан Лангдэйл. Юноша покинул Рисли-Холл три месяца назад, да и прожил там тихо и недолго, а потому доблестный страж, будучи не в состоянии похвастаться хорошей памятью, так и не вспомнил его.
– Такого имени я не знаю, сэр, – ответил привратник и вознамерился закрыть дверь.
– Хью Уилаби, – прошептал старец последнее, что смог выговорить, потому как сразу после этого обмяк и стал валиться на промёрзшую землю.
Услышавший имя своего хозяина Ральф не позволил старику упасть, а подхватив его одной рукой, словно лёгкое брёвнышко, отнёс в господский дом, где передал дворецкому слова странного старика. Разумеется, о появлении загадочного гостя тут же доложили Мастеру Уилаби, который по причине ужасно холодной погоды находился дома. Он вышел в холл, где к этому времени старика уже привели в чувство, и спросил как того зовут и что он ищет здесь.
– Моё имя Лазариус, отец Лазариус, – сказал старик. – А ищу я Ронана Лангдэйла или сэра Хью Уилаби.
В отличие от Ральфа сын сэра Хью обладал прекрасной памятью и сразу вспомнил не только своего друга Ронана, но и все его рассказы. А потому он немало изумился, увидев в своём доме в центре Англии и перед самым своим лицом старого монаха, считавшегося сгинувшим в шотландских казематах. Джордж тут же велел позвать Эндри, а когда тот явился, сказал, что этого старого человека зовут Лазариус, он чрезвычайно устал и весьма болен, и что юному груму надлежит взять над ним полную опеку и смело пользоваться всем, что есть в доме, во благо этого старого и больного человека.
Лазариусу отвели уютную комнату с камином, куда перебрался и Эндри. Он сразу же сообразил, кто такой Лазариус. Ведь именно за ним его посылали в Пейсли. Ведь именно его так любил и чтил его хозяин, мастер Ронан. Поэтому мальчишка ни на минуту не отходил от постели больного, кормил его с ложки, укутывал в одеяла, давал всяческие микстуры и снадобья, принесённые местным лекарем, – в общем, окружил его такой заботой, что Лазариусу не оставалось ничего другого, как потихоньку пойти на поправку.
За долгие дни сидения у постели больного между Эндри и Лазариусом установилось полное взаимопонимание, ибо оба они были шотландцами и любили одного и того же человека – один как наставник своего питомца, другой как преданный слуга своего хозяина и во многом – старшего друга и учителя. Эндри во всех деталях поведал – приправляя рассказ по своему обыкновению весёлыми остротами, – как их замок обложили посланцы регента в поисках Ронана, как тому удалось вырваться и как они добрались до Рисли. Старик не был столь многословен, как его юный сиделец, и сказал лишь, что спасся из монастырского подвала благодаря добрым людям и отцу Ронана, лорду Бакьюхейду. Его молодой собеседник был гораздо словоохотливее. Испытывая полное доверие к старцу и чувствуя, как он любит Ронана, Эндри рассказал Лазариусу всё, что знал про своего хозяина, про его отца, про замок Крейдок и про деревню Хилгай. Мальчишка видел, какое удовольствие его рассказы доставляют монаху, да и он сам испытывал явное наслаждение в общении с любознательным человеком, которому близки его чувства и от которого можно ничего не скрывать. А посему Эндри дал полную свободу своему языку, который дотоле в окружение чуждых ему, хоть и добрых людей, он вынужден был всячески обуздывать. Все истории, легенды и мифы, которые ходили среди обитателей Хилгай и замка Крейдок, были переданы Лазариусу со всеми подробностями и с тем природным красноречием, которым обладал мальчишка. Особенно любознательный монах заинтересовала история, уже почти ставшая легендой в Хилгай и передававшаяся от поколения к поколению, о том, как на их земли напала банда горцев, которые увели стадо коров и похитили молодую супругу хозяина замка, в наказание за что голова их главаря потом долгое время украшала ворота Крейдока. Старец даже попросил пересказать эту историю ещё раз и со всеми подробностями.
Когда речь заходила о причинах сих злоключений, выпавших на долю Лазариуса и его ученика, то сколько Эндри ни пытался выведать их у старца, тот поначалу избегал полностью довериться чересчур говорливому и бесшабашному, как ему казалось, мальчишке. Однако, скоро отец Лазариус поменял мнение о своём юном соотечественнике, что случилось после того, как тот поведал ему про встречу около лесного источника. Эндри описал, как выглядел «призрак», что и как он говорил, после чего поделился с монахом своими догадками и подозрениями. Этот рассказ вызвал у отца Лазариуса необычайное нервное возбуждение. Старик порывался сию же минуту отправиться в Лондон – туда, где находился сейчас Ронан.
– О! Я знаю, что за злобный человек преследует Ронана! – воскликнул старец. – Это волк в овечьей шкуре! Он давно ненавидит моего дорогого ученика, хотя мне и не по силам постичь тайные истоки сей злобности. Мне надлежит сейчас же предупредить Ронана. Помоги мне одеться, добрый Эндри. Я сейчас же ухожу в Лондон.
– Боже упаси, отец Лазариус! Куда же вы пойдёте в таком состоянии? – запротестовал Эндри.
Старец спустил ноги с кровати, и понял, что его помощник был прав – слишком слабо было ещё его тело. Тем не менее, начиная с этого дня, больной быстро пошёл на поправку, а в глазах его появился странный лихорадочный блеск. Однажды вечером Лазариус схватил руку мальчишки и с жаром произнёс:
– Эндри, дорогой мой мальчик, через тебя Господь наш ниспослал на меня прозрение! Мне вдруг открылось, кто таков этот злобный человек и фарисей, который носил имя брат Галлус или просто Фергал. Мне надо скорей увидеться с Ронаном, чтобы обо всём ему рассказать и предупредить о грозящей опасности.
Но хотя лихорадка и оставила Лазариуса, слабость во всём его теле и особенно в ногах не позволяла пока ещё немедленно выйти в путь.
За время болезни монаха особое беспокойство о его здоровье проявлял Джордж Уилаби, хозяин дома, который не раз заходил в комнату больного, справлялся о его самочувствии и заводил короткую беседу. Когда Лазариус смог подниматься с кровати и выходить из опочивальни, Мастер Уилаби радушно предложил ему место за их семейным столом. Разумеется, что леди Джейн и особенно преподобный Чаптерфилд восприняли появление католического монаха, пусть и в мирской одежде, за общим с ними столом с тайным возмущением, но перечить хозяину дома они не могли. Джордж Уилаби заметил недовольство своей мачехи и приходского священника и наперекор им стал уделять столько внимания и проявлять столько уважения к отцу Лазариусу, что почтенный доктор Чаптерфилд не выдержал и, в конце концов, перестал посещать трапезы в господском доме.
Давно уже наступила весна, ласково пригревало солнце, и отец Лазариус собирался со дня на день уже пуститься в путь. Эндри с грустью думал о том, что, вот, святой отец покинет его и не с кем будет поболтать по душам. Джордж Уилаби стал всё чаще пропадать в гостях, в тавернах Ноттингема и Дерби, в Кедлестон-Холле у своего лучшего друга Джона Керзона. Однако, всё враз изменилось, когда из Лондона прибыл гонец с письмом от сэра Хью. В послании помимо прочего, о чём может написать любящий муж и родитель и гордый командир будущего дерзновенного путешествия, говорилось также о неприятной истории, в которую угодил Ронан Лангдэйл, и что в ожидании суда его держат в Ньюгейтской тюрьме. К последней новости леди Джейн, находившаяся в плену собственной меланхолии, отнеслась равнодушно, преподобный Чаптерфилд – философски, хотя и жалел юношу, Джордж Уилаби рвал и метал – как они посмели засадить в каталажку его друга! – порывался тут же отправиться в Лондон и взять штурмом Ньюгейтскую тюрьму, Эндри не на шутку испугался за своего хозяина и припомнил, как у него чесалась пятка. Но сильнее всего это известие повлияло на Лазариуса, который вдруг стал тих и кроток, замкнулся в себе и не проронил ни слова до самого вечера. После ужина, на котором старец так и не появился, Мастер Уилаби пошёл в комнату, где располагались Лазариус и Эндри, и они втроём о чём-то долго разговаривали.
Рано утром, когда ночной сумрак постепенно стал уступать место зарождавшемуся дню, старый монах и юный слуга покинули Рисли-Холл.
Часть 9 Погоня
Глава LXVI
Погоня

Любители поглазеть на захватывающее зрелище того, как человек в мучительных страданиях прощается с жизнью, почти каждое утро на протяжении нескольких дней после окончания судебной сессии стекались в Тайберн (так звалось это местечко), – стекались до тех пор, пока в Ньюгейтской тюрьме не иссякнет запас приговорённых к повешению преступников. В тот год ещё не было возведено знаменитое «Тайбернское дерево», на котором можно было вешать по несколько преступников разом. А посему на перекрёстке сразу нескольких дорог высились пока что два высоких столба с перекладиной между ними. Это великолепное, жизнеутверждающее сооружение по своей высоте могло поспорить с церковью святого Джайлза, стоявшей неподалёку, на западной окраине деревни с одноимённым названием. И в каком бы направлении ни двигался путник, первое, что ему ещё за полмили бросалось в глаза, было это гениальное по своей простоте и глубокомысленное по сущности архитектурное сооружение.
Уже с раннего утра вереница охочих до зрелища людей тянулась из города в Тайберн, где на площади предприимчивые селяне возвели многоярусные трибуны, места на которых за определённую плату предлагали состоятельным лондонским зрителям. Этот день был особо знаменателен тем, что давал последнюю возможность насладиться превосходным, весёлым зрелищем перед почти трёхмесячным перерывом, и особенно возбуждало толпу то, что приговорённый был шотландцем, который отравил сына английского графа, что вызывало среди публики негодование к преступнику и небывалый подъём патриотических чувств.
Одно из лучших мест на зрительской трибуне занимал гордый Джордж Толбот, прибывший сюда не столько для развлечения, сколько для того, чтобы лично лицезреть, как отмщение настигнет кровного врага семейства Толбоов и убийцу его брата.
В огромной толпе зрителей на площади затесались ещё два знакомых нам человека. Как гордый своим трофеем охотник ждёт, когда искусные повара зажарят тушу добытого им зверя, так и Фергал с торжественным видом ожидал, когда появится повозка с преступником, и предвкушал удовольствие от того момента, когда же, наконец, исчезнет причина всех его душевных мук и главное препятствие у него на пути. Хотя какое-то тревожное, щемящее чувство в груди не давало ему в полной мере наслаждаться сим чудесным моментом, отравляя его душу странной горечью и наполняя её печалью.
Словно собачонка за хозяином, за Мастером Ласси везде следовал юнец, держась хотя и не совсем близко, но на таком расстоянии, чтобы его всегда можно было подозвать. На преступника Арчи было наплевать, хоть он и не прочь был посмотреть на презабавную сцену, как того будут вздёргивать.
Палач, по виду ничем не отличавшийся от прочей публики, лишь разве что висящим через плечо запасным мотком верёвки, заткнутыми за пояс ножом и кнутом. Он давно уже приставил лестницу к виселице, крепко привязал верёвку к верхней перекладине и приладил по длине петлю. Если для кого-то это казалось мерзким и противным занятием, то для почтенного вешателя это была обычная работа, которую он делал старательно и даже с некоторой любовью.
Условленное для казни время давно уже подошло. Толпа начала недовольно шуметь, ибо у всех ещё были хлопоты и заботы. Палач ещё раз испробовал верёвку на прочность, для чего он подставил пустую бочку, ухватил верёвку руками и повис так, дёргая ногами, что несколько развеселило публику и скрасило минуты томления.
Однако повозки с осуждённым всё не было. Но вот показался стражник на чалой кобыле, нагнулся, что-то шепнул палачу и, взбивая дорожную пыль, вновь быстро умчался обратно в город. Почтенный Лорд Тайберна, – как то ли уважительно, то ли насмешливо звали вешателя, – приставил лестницу, влез к перекладине и принялся с угрюмым недовольством отвязывать верёвку. Зрители на площади с недоумением взирали на действия палача. Стоявшие ближе всех потребовали у него объяснить, что это значит. На это работяга палач ответил, что представление нынче отменяется и откладывается на неопределённый срок ввиду исчезновения, а проще говоря, побега главного действующего лица.
На площади поднялась изрядная суматоха. Кто-то принялся гневно осуждать преступника, имевшего наглость сбежать как трус и лишить честных лондонских горожан волнующего зрелища, за которое, между прочим, некоторые из них заплатили свои денежки. Некоторые сдержанно досадовали на впустую потраченное утро. Другие выражали своё недовольство громкими выкриками и ругательствами и, конечно же, не было ни единого человека, который бы восторгался отвагой и смекалистостью осуждённого, обманувшего своих тюремщиков.
Ещё до того, как разочарованная публика потянулась обратно в Лондон, быстрый скакун унёс туда разгневанного Джорджа Толбота, вслед за которым припустился обескураженный Мастер Ласси – да так, что Арчи еле поспевал за ним. От утреннего ублаготворения у Фергала не осталось и следа, вновь в его душе проснулся инстинкт летящей по следу гончей.
Первым к Олд-Бейли прибыл, разумеется, всадник. Джордж Толбот сразу же бросился в комнату шерифов, где за резным столом невозмутимо сидел уже знакомый нам Вильям Джерард, один из двух лондонских шерифов. Напротив него, около полок во всю стену, заваленных свитками и уставленных толстыми книгами с серебряными застёжками, стоял бейлиф и докладывал обо всех происшествиях за ночь. Второй шериф, которого звали Джон Мейнард, отправился в Ньюгейтскую тюрьму выяснять все подробности дерзкого побега. Толбот перебил бейлифа и в резких выражениях высказал Вильяму Джерарду своё недовольство и возмущение тем, как городские чины выполняют свои обязанности, и потребовал немедленно поймать беглеца.
Шериф Вильям Джерард испытывал двоякие чувства, ибо он, как страж законности и порядка в славном городе Лондоне, действительно чувствовал себя отчасти виновным в том, что не смог соблюсти выполнение закона – а именно, что приговорённый судом к повешению умудрился сбежать за пару часов до казни. А с другой стороны, если честно признаться, шериф был рад, что Ронану Лангдэйлу, подопечному командора Уилаби, удалось избежать незаслуженной смерти. Тем не менее, его должность шерифа требовала блюсти закон, согласно которому Ронан был преступником – теперь уже беглым, – а значит, его требовалось поймать. Поэтому шериф Вильям Джерард вполне искренне пообещал Толботу сделать всё, что в его силах, чтобы изловить беглеца. Джорджа Толбота, такое обещание, похоже, не устроило, и он заявил, что пришлёт в помощь шерифам отряд собственных стражников, от чего, понятное дело, шериф не посмел отказаться.
В это время второй шериф, находился в комнате смотрителя Ньюгейтской тюрьмы, сидя за его столом и по очереди слушая доклады всех тюремных служителей. Само собой разумеется, что главным виновником, допустившим такое вопиющее нарушение порядка, считался наш знакомец Пёс Тернки, вид которого сейчас напоминал собаку, позволившую лисе залезть в курятник, а теперь виновато поджавшую хвост и ждущую очередного пинка от своего разгневанного хозяина.
Тюремщик поведал, как благочестивый арестант накануне повешения потребовал католического священника для исповеди; как он, Тернки, не смог не уважить религиозное рвение заключённого, хотя ручается, что сам является истым приверженцем англиканской церкви и ненавидит всех папистов; как рано утром, откуда ни возьмись, перед тюремной дверью явился старый монах с длиннющей белой бородой, который и был препровожден к арестанту, где бдительный тюремщик дозволил ему пробыть не более часа; как после убытия монаха он, Тернки, зашёл в камеру, чтобы снять с арестанта тюремные оковы и передать того в руки стражников для доставки в Тайберн, и вдруг обнаружил в углу вместо молодого арестанта дряхлого старика; как он поднял тревогу, выбежал на рыночную площадь и там узнал, что все видели вышедшего из тюремный двери монаха с длинной бородой и как к нему подошёл какой-то мальчишка и увёл с площади; как он, Тернки, не щадя ног и самой жизни, доблестно бросился в погоню, но мальчишка с монахом как сквозь землю провалились.
Во время своего рассказа о происшествии, несчастный Тернки услыхал от шерифа и поддакивавшего ему смотрителя столько нелицеприятных фраз в свой адрес, что слова «олух и болван, растяпа и ротозей» по сравнению с ними равно что детский лепет.
– Я к нему как к сыну относился, – плакался в конце несчастный тюремщик, – а он мне такую свинью подложил! Что же это выходит-то? Покудова я его чуть не с ложки кормил, он тайком оковы перепиливал, имущество тюремное портил. Вот ведь негодяй! А ещё джентльмена из себя корчил!
Потом привели старика. Шериф спросил, кто он таков и как посмел под личиной монаха проникнуть в тюрьму и спасти от наказания страшного преступника. На это Лазариус смиренно ответил, что он и есть истый монах и почитает своим долгом перед Господом Богом спасать невинные души. «А под каким же именем мне записать тебя в тюремной книге, мерзкий папист?» – спросил смотритель, заискивающе поглядывая на шерифа. «Да простит тебя Господь за твоё богохульство, несчастный человек, – ответил старик. – А зовут меня отец Лазариус». После этого монах с отрешённым видом погрузился в молчаливые свои молитвы и ни на что более не реагировал, и как ни пытались, большего толку от него не добились. Его снова отвели в камеру, не посчитав нужным даже надевать на него оковы – таким старым и слабым он выглядел.
Прихватив с особой смотрителя и тюремщика, второй шериф вернулся в Олд-Бейли, чтобы составить доклад лорду-мэру о происшествии. Там он застал своего товарища по шерифскому поприщу Вильяма Джерарда и всё ещё пребывавшего в состоянии гнева и возмущения сына графа Шрусбери.
– Виданное ли дело, Вильям, – сходу сказал второй шериф, – чтобы дряхлый старик обвёл вокруг пальца наших тюремщиков! Преступник загодя перепилил оковы, а во время мнимой исповеди поменялся одеждой с монахом и преспокойно вышел из тюрьмы. А этот остолоп по имени Тернки не заметил на преступнике перепиленных цепей и не смог отличить молодого арестанта от дряхлого старца! Ищи теперь ветра в поле!
– Твоя правда, Джон. Поймать его будет трудновато, – согласился Вильям Джерард, в тайне души сильно надеясь, что Ронану удастся спастись от преследования. – Но вот, стоит благородный Толбот. Он послал за когортой своих слуг в помощь нам, дабы изловить беглеца. Хотя, право слово, я ума не приложу, где нам искать этого Ронана Лангдэйла.
– Зато мне это известно! – раздался неожиданный голос.
Дверь в комнату была приоткрыта, и в ней сконфуженно стояли тюремный смотритель и Пёс Тернки. Расталкивая их, в комнату ворвался невысокий, коренастый человек с рябым лицом, в котором мы без труда узнали бы Фергала. Тяжело дыша после быстрой ходьбы, Фергал подошёл к комнате шерифов в тот самый момент, когда Вильям Джерард заканчивал свою фразу.
– Это опять вы, сэр! – воскликнул шериф Джерард. – Весьма странно, но как только дело касается наказания Ронана Лангдэйла, вы тут как тут с вашими услугами, Мастер э…
– Вильям Ласси с вашего позволения, – напомнил Фергал.
– Странно или не странно, уважаемые шерифы, – подал голос Толбот, – но ежели этому человеку известно или он догадывается, где прячется беглый преступник, то вам надлежит воспользоваться его помощью. Мастер Ласси, мне по нраву твоё рвение. Знаешь ли ты в лицо этого Лангдэйла?
– А то как же, уважаемый сэр! – ответил Фергал. – Клянусь головой моего отца, его физиономия знакома мне как моя собственная, а его голос на шумной рыночной площади я различу среди тысячи прочих.
– Замечательно, Ласси! – обрадовался Толбот. – Я поставлю тебя во главе моих людей. И если беглец попытается снова ускользнуть от заслуженной кары, то убей его сам или прикажи моим людям сделать это. Ведь в таком случае преступник погибнет при попытке к бегству, не так ли, уважаемые шерифы? Я бы желал, чтобы из ваших людей кто-нибудь, знающий преступника в лицо, присоединился к отряду Мастера Ласси.
– С вашего позволения, почтенные шерифы, я пойду, – угрюмо сказал Пёс Тернки, злобно сверкая глазами. – Он из меня сделал шута, несмотря на всю мою заботу о нём. А ведь всё должно быть по правилам. Раз тебя приговорили к смертной казни, так будь добр, не увиливай.
– А как вы намереваетесь поступить с монахом? – обратился к шерифам Джордж Толбот.
– Как и положено, – ответил шериф Джерард. – Вот соберётся сессия суда в июле и решится тогда его участь.
– Да может он ещё раньше сдохнет от дряхлости в тюрьме, – добавил второй шериф. – По крайней мере, для него это будет лучше, чем танцевать джигу в Тайберне. Да и к чему отнимать время у присяжных и судей?
– Да этот старик помог сбежать убийце моего брата, а вы желаете ему мирной смерти! – с негодованием вскричал Толбот. – Его надо вздёрнуть немедленно! Сегодня же!
– Вы чересчур спешите, сэр, – попытался урезонить говорившего Вильям Джерард. – Мы не можем так поступить, ибо это противоречит закону. Нельзя наказать человека без того, чтобы присяжные признали его виновным, а судьи вынесли приговор.
– Чёртовы эти ваши порядки! – не унимался Толбот. – Всё же ясно как божий день. Старик помог удрать преступнику, приговорённому к повешению. Вот этот растяпа, – Джордж Толбот указал на Тернки, – тому свидетель, да и сам старик, как я понял, не отпирается. К чему тут нужны бестолковые присяжные?
– Но всё же, сэр… – неуверенно произнёс второй шериф. – Без судей это дело никак не решить.
– Без судей, говорите. Что ж, будут вам судьи! – с жаром воскликнул Джордж Толбот и быстрым шагом покинул комнату шерифов…
– Право слово, никак не возьму в толк, к чему наследнику Шрусбери понадобилась такая поспешность, – произнёс Вильям Джерард. – Будто дьявол в него вселился. По моему скромному разумению, Джон, чем больше у благородных джентльменов власти и богатства, тем меньше добродетелей.
– Твоя правда, Вильям, – согласился второй шериф. – Ну, к чему, спрашивается, торопиться вздёрнуть этого Лазариуса? Не дай бог, в Вестминстере ещё подумают, что мы с тобой намереваемся побыстрее повесить соучастника побега и замять всё это дело.
– Лазариуса! – изумился вдруг Мастер Ласси. – Вы говорите, его зовут Лазариус?
– Ну, да. Так себя назвал этот старик, – удостоверил второй шериф. – А почему это так вас удивляет, сэр?
– О, почтенный шериф, в Шотландии мне приходилось знавать одного монаха с таким именем, – нахмурив рыжие брови, сказал Мастер Ласси. – То был страшный человек! Он питал лютую ненависть ко всем врагам папы римского, и не один добрый протестант по его науськиванию был сожжён шотландским примасом на костре.
– Ну, вряд ли этот старик мог быть таким злодеем, как вы описываете, сэр, – сказал второй шериф. – Напротив, он выглядит совсем кротким, словно старая овечка, и благожелательным как наш лорд-мэр после хорошего обеда.
– Надо полагать, вы правы, шериф, – согласился Мастер Ласси. – Это, должно быть, совершенно другой человек. Тот был злобным стариком с длиннющей белой бородой, дозволенной ему носить чуть ли не по разрешению из Рима. Он всё время шептал молитвы себе под нос, а сам обдумывал, какого же ещё доброго протестанта на костёр отправить.
– У нашего монаха бороды на лице не было, – подтвердил шериф. – А значит, это другой монах.
– Была у него борода, самая настоящая, клянусь всеми замками и запорами! – напомнил Пёс Тернки злым голосом. – Во всяком случае, когда он как гриб после дождя вырос у тюремных дверей, у него болталась белая длинная борода, хотя мне и невдомёк, куда она потом подевалась.
– Была, говоришь? Ах, да! Я вспомнил твой рассказ о побеге, – сказал второй шериф. – Ну, в таком случае ты совершенный болван, милейший. Ведь эту бороду нацепил себе беглец, чтобы ты подумал, будто он это монах. Вот куда она подевалась! – Потом шериф подумал и добавил: – Хм, так ведь, ежели это была изначально настоящая борода, которую хитрый старик каким-то образом отрезал и прицепил преступнику, то, может статься, он и есть тот самый монах Лазариус, про которого упоминал Мастер Ласси? А коли так, то он представляется мне очень опасным преступником, и ничего плохого я в том не вижу, если Толботу удастся вздёрнуть его хоть завтра. Что скажешь, Вильям?
– Кем он ни был этот старик, – твёрдо сказал шериф Вильям Джерард, – но всё должно быть pro ut de lege122.
Пока в комнате шерифов шло обсуждение личности пособника побега и время отсрочки заслуживаемой им кары, к Олд-Бейли прибыл отряд, присланный Джорджем Толботом. Он состоял из дюжины вооружённых пиками, алебардами и двумя-тремя аркебузами стражников в блестящих кирасах и наплечниках. Для большей манёвренности половина из них была верхом. Старший среди них прошёл к шерифам и поинтересовался кто здесь Мастер Ласси. Ему показали этого человека, и он спросил у того, какие будут приказания.
Фергал получил от шерифов письменный приказ о задержании беглого преступника Ронана Лангдэйла, прихватил с собой Тернки и вышёл во двор. Перед ним стоял отряд вооружённых до зубов людей, терпеливо ждущих приказов Мастера Ласси. Фергал в этот момент напоминал потерявшую след гончую, вновь унюхавшую запах дичи и готовую, не зная устали, нестись за красным зверем. Мастер Ласси самодовольно улыбнулся и, не теряя ни минуты, двинул свой отряд в сторону Лондонского моста. Изредка он бросал взгляд по сторонам, чтобы убедиться, что Арчи следует за ними…
После того, как Мастер Ласси во главе отряда стражников отправился ловить беглого преступника, шерифы долго ещё обсуждали между собой дерзостный побег из Ньюгейтской тюрьмы – невиданное и неслыханное дотоле происшествие!
Шериф Джон Мейнард считал, что под видом кроткого старца кроется весьма страшный человек, повинный в смерти многих ревнителей истиной веры, судя по свидетельству Мастера Ласси. Доброхотный шериф был бы не прочь, если бы монаха приговорили к сожжению на костре. Впрочем, если его повесят, будет тоже неплохо, благосклонно рассуждал этот добрейшей души человек.
Его сотоварищ по нелёгкому шерифскому поприщу Вильям Джерард придерживался слегка иного мнения. Он был почти убеждён командором в невиновности Ронана Лангдэйла, а потому весьма подозрительно относился к навязчивому Мастеру Ласси и всему, что тот говорил. Джерард догадывался, что совершить такой жертвенный поступок мог только великой души человек, и поэтому испытывал к старому монаху истинное сострадание.
Шерифы вдались в глубокие рассуждения о добродетелях и пороках, о негодных людях и честных натурах и о прочих касающихся их должности вопросах. А поскольку Вильям Джерард и Джон Мейнард по образованности и по подходу к жизни были людьми разного склада, то по многим вопросам мнения их разошлись. Чтобы вконец не рассориться и забыть о своих разногласиях шерифы послали стражника в ближайший трактир за хорошим обедом и бутылкой доброго вина…
Шерифы закончили свою трапезу и, несмотря на утренние треволнения, пребывали в хорошем расположении духа. В этот момент благодушной послеобеденной расслабленности в комнату к шерифам вбежал молодой письмоводитель, весело размахивая каким-то листком.
– Что это? – в один голос спросили оба шерифа.
– Указание вам, почтенные шерифы, подписанное нашим достоуважаемым лордом-мэром, – радостно ответил юный писарь. – Привести на второй день от сегодняшнего дня или, говоря согласно тексту, девятого мая в седьмой год царствования короля Эдварда Шестого… так, значит, привести в исполнение приговор особого, так сказать, срочного заседания криминального суда города Лондона и предать смерти путём удушения за горло (или иначе говоря – вздёрнуть) преступника по имени Лазариус.
И Вильям Джерард и Джон Мейнард изумлённо воззрились на юношу, абсолютно ничего не понимая.
– Так вы, что же, ничего не знаете? – в свою очередь удивился письмоводитель. – Час назад к лорду-мэру явился Джордж Толбот, наследник графа Шрусбери. С собой он привёл трёх королевских судей. Уж не знаю, где он их откопал и как уговорил прибыть в Олд-Бейли. Вероятно, он привёл им некий argumentum argentarium123. Лорд-мэр пригласил судебного секретаря и поинтересовался, можно ли в особом порядке рассмотреть одно-единственное дело. Тот ответил, что hoc non iure124, и что нужны ещё присяжные Малого жюри и Большого жюри и наговорил прочих всяких учёностей. Тогда Толбот ответил, что nulla regula sine exceptione125, что присяжные якобы не нужны, потому что обвиняемый не отрицает своей вины. Также Толбот намекнул, что ежели дело дойдёт до Тайного Совета и герцога Нортумберлендского, то он, судебный секретарь города Лондона, рискует лишиться покровительства его величества. Смею лишь строить догадки, чем Толбот их подсластил, только королевские судьи также принялись настойчиво убеждать судебного секретаря. В итоге, тот махнул рукой и согласился на то, чтобы дело было выслушано и при условии, что обвиняемый признает свою вину. Они сели в судебном зале. Привели обвиняемого. Такой этой был ветхий старик, скажу я вам! Наверное, лёгкое дуновение ветерка могло бы свалить его с ног. Судьи спросили, признаёт ли он свою вину в том, что помог сбежать приговорённому к смерти арестанту. Старик ответил, что он счастлив и благодарен Богу за то, что он своей милостью сподобил его на этот поступок. А поскольку преступление беглого преступника переходит на того человека, который помог ему сбежать, то судьи вынесли решение повесить старика. Впрочем, ему, видать, и так не много осталось. Actum est, ilicet126 .
Бойкий письмоводитель с нарочитым поклоном положил указ на стол перед Вильямом Джерардом, которого он не без оснований почитал самым деловитым и толковым из этой пары шерифов, снова весело улыбнулся, проворно развернулся на пятках и, пританцовывая и что-то напевая себе под нос, оставил комнату шерифов…
В то время как шерифы изумлялись проворством Джорджа Толбота в достижении своих целей, отряд под командованием Мастера Ласси также прибыл в намеченное место – а именно, к дому купца Уилаби в Саутворке, ибо Фергал полагал, что беглец в аккурат направится сюда. Мастер Ласси расставил своих людей вокруг дома и приказал им глядеть в оба, чтобы ни одна мышь не выскользнула из дома. Сам же он вместе с Тернки и ещё двумя стражниками направился к двери и принялся колотить в неё двумя кулаками.
В доме с утра царила мёртвая тишина. Габриель Уилаби намеревался через день покинуть дом и занять своё место на корабле и потому он заперся в своём кабинете с Мастером Бернардом и давал тому последние инструкции и указания, как вести дела в его отсутствие. Сэр Хью после последней встречи с ожидающим казни Ронаном сразу отправился в Редклиф, а своему ординарцу приказал до последнего ждать в Гринвиче на тот случай, если Генри Сидни удастся подписать прошение о помиловании (в чём, как мы уже знаем, этого молодого вельможу постигла неудача благодаря герцогу Нортумберлендскому).
Алиса также ещё с вечера закрылась в своей комнате. За всю ночь она не сомкнула глаз, чередуя горькие рыдания со страстными молитвами, а утром сидела и иступлёно глядела в стену, представляя себе, как Ронан – если ему удалось перепилить оковы, – в отчаянной борьбе со стражниками пытается проложить себе путь к свободе. Но тщетно! Слишком не равны силы, и его убивают, ибо живым он не сдаётся. Или ещё хуже. Его связанного подвозят на повозке к виселице, палач набрасывает ему петлю на шею, а затем натягивает вожжи, повозка уходит из под ног страдальца и… Несчастная девушка представляла себе эту ужасную картину и снова заходилась в рыданиях… Но вот церковный колокол пробил полдень, и Алиса немного успокоилась, ибо поняла, что всё к этому времени должно было свершиться и поделать ничего уже нельзя. С заплаканным лицом и выбивавшимися из под чепца растрёпанными волосами она вышла из комнаты и сразу же увидела старую горничную, которая сидела на лавке около её дверей и занималась рукоделием. Алиса присела рядом с ней и тихим, печальным голосом спросила:
– Скажи, Эффи, как мне узнать, как всё произошло? И кто… кто побеспокоится о его теле?
Горничная по-матерински обняла свою молодую госпожу. Но пока она подыскивала слова совета и утешения, раздались шаркающие шаги и в галерею торопливо вошёл старина Гриффин.
– Мистрис Алиса, вы здесь, слава богу! – взволновано произнёс он. – А я-то думал, придётся мне наверх лезть хозяина звать.
– Да что случилось-то, Гриффин? – спросила Алиса.
– В дверь так колотят, будто собираются разнести дом в пух и прах! – растерянно ответил дворецкий. – Я человек старый. Боязно мне одному открывать. Вот и поспешил вас предупредить.
Алиса вздохнула, попросила Эффи поправить её причёску и срочно позвать в сени всех слуг мужского пола, после чего вместе с Гриффином пошла к входной двери.
– Открывай, Гриффин, – скомандовала девушка, непомерным усилием воли изменив свой скорбный вид на властный хозяйский. – Посмотрим, кто смеет ломиться в наше мирное жилище средь бела дня, словно это не дом богатого лондонского негоцианта, а жалкая придорожная харчевня.
Дворецкий открыл сотрясавшуюся от ударов дверь и сразу отпрянул назад. В сени вошли – нет, ворвались сразу несколько человек. Первого Алиса узнала сразу: это был тюремщик Пёс Тернки. «Что ему здесь надо?» – промелькнула у неё мысль. Рядом с ним был здоровенный стражник в кирасе и с алебардой.
– По какому праву вы нарушаете покой нашего дома? – потребовала девушка. – Да к тому же в такой грубой форме равно как настоящие разбойники! А может вы и есть грабители? В таком случае вам придётся иметь дело с целым гарнизоном.
Как бы в подтверждение её слов со всех сторон к входной двери стали стекаться слуги, вооружённые кто чем – каминной кочергой, топором, кухонным ножом. Тут из-за широкой спины стражника выступил незнакомый Алисе человек в обычной одежде обеспеченного горожанина и с приятнейшей улыбкой на рябом лице произнёс:
– О мистрис, клянусь моей чистой совестью, что мы самые честные на свете люди и вторглись в ваши владения на самых законных основаниях. А говоря короче, у нас есть все основания считать, что под этой крышей может прятаться беглый преступник. Вот, извольте прочесть приказ шерифа.
При этих словах в голове у Алисы, словно молния, пронеслась дикая, невероятная мысль. Она схватила бумагу и принялась жадно её читать, перескакивая через слова и не веря своим глазам… Да! Он сбежал!… Алиса подняла приказ шерифа и прижала к своему лицу, чтобы скрыть хлынувшие по её лицу слёзы, слёзы счастья.
Фергал же, несмотря на всю свою смекалку, счёл эти слёзы за признак опасения – страха за то, что сейчас шотландца опять схватят и тут уж ему будет никак не отвертеться от верёвки. Поэтому он стремительно вырвал бумагу у девушки и воскликнул с ликующей улыбкой:
– Я так и знал! Он где-то здесь, mile diabhlan! А вы, мистрис, заместо того, чтобы портить вашей водицей указ шерифа, лучше честно сказали бы, в каком углу он запрятался. Иначе мои люди перероют весь дом вверх дном, но откопают преступника. Отсюда ему все равно не ускользнуть – дом окружён со всех сторон.
В эту минуту в сени вошёл сам хозяин дома, за которым по пятам следовал Мастер Бернард. Габриель Уилаби услыхал шум и решил спуститься, чтобы узнать в чём дело.
– Что здесь происходит, дочка? – спросил он. – И кто эти люди?
Алиса, с трудом пытаясь скрыть охватившую её радость, сказала:
– Батюшка, я сама, право, мало что понимаю. У них приказ шерифа о задержании преступника Ронана Лангдэйла. И эти люди пришли искать его в нашем доме.
Негоциант взял у Мастера Ласси бумагу, внимательно её прочитал и недоуменно вымолвил:
– Хм, странные приказы пишет мой друг Вильям Джерард. Насколько я знаю, сей юноша был признан виновным в тяжком преступлении – к моему глубокому сожалению, ибо он в качестве гостя долгое время жил под этим кровом. Кажется, как раз сегодня благородный шотландский юноша должен был расстаться с жизнью в Тайберне. Почему шериф подписал такую странную бумагу и почему вы пришли в мой дом?
– Сэр, к большому сожалению всех честных людей, этому страшному преступнику, жестокому отравителю и рьяному паписту нынче утром удалось сбежать из тюрьмы, – не скрывая досады, ответил Мастер Ласси. – Он поменялся одеждой с мерзким монахом и трусливо бежал. Полагают, что он мог направиться именно сюда. Поэтому мы должны обыскать ваш дом, хотите вы того или нет. У нас приказ шерифа.
(Разве мог год назад подумать простодушный Ронан, что из-за него поднимется такая кутерьма и перероют сначала целый шотландский замок, а затем и большой дом именитого лондонского купца!)
Габриелю Уилаби ничего не оставалось, как смириться с этим требованием, что он сделал вполне спокойно как законопослушный подданный его величества. Однако, при этом почтенный негоциант в пышных фразах заметил, что непременно потребует у Мастера Джерарда извинений и объяснений за порочащие его подозрения в укрывательстве преступника.
Пока Габриель Уилаби с видом оскорблённого достоинства произносил эту речь, Фергал поймал взглядом глаза Мастера Бернарда, выглядывавшего из-за спины своего патрона. Однако клерк состроил такую глупую гримасу, которая должна была означать, что он ни сном ни духом не причастен ко всему здесь происходящему и ничего не знает, хотя на самом деле при новости о побеге шотландца ему стало сильно не по себе. Фергал бросил недовольный взгляд на своего подельщика и ринулся обыскивать дом.
Тем временем Тернки подошёл к Алисе и, подозрительно щуря глаза, без обиняков спросил, не она ли притаскивала корзинку с едой в Ньюгейтскую тюрьму и оставалась в камере вместе с арестантом некоторое время наедине.
– Да как ты смеешь, мерзкий тюремщик, такое обо мне говорить! – возмущённо воскликнула девушка. – Чтобы я пошла в твоё мерзостное заведение! А корзинки таскать у нас и слуг хватает.
Тернки смутился от такого отпора и пошёл помогать Мастеру Ласси обыскивать дом. Они делали это тщательно и довольно долго, не оставив без внимания ни один закуток в комнатах, на чердаке и подвале, ни один ларь, достаточно большой чтобы скрыть человека, и даже ни одну каминную трубу, разводя по очереди огонь в каждом камине. Разумеется, они никого не нашли, ибо – как ведомо читателю, но как не было известно им, – Ронан в это время спал беспробудным сном в богадельне святого Варфоломея. А потому ближе к вечеру Мастеру Ласси и Тернки пришлось покинуть дом купца Габриеля Уилаби не солоно хлебавши. Фергал собрал свой отряд и повёл его к Лондонскому мосту с намерением затемно вернуться в Олд-Бейли. Обескураженный этой неудачей и ещё больше обозлённый на нахального Ронана, Фергал мрачно и ожесточённо размышлял о том, где же ещё может прятаться беглец. Так они дошли до Моста, который к концу дня начинал уже пустеть.
Глава LXVII
Снова Мост

Ронан проснулся и не сразу понял, где он. Неужели всё, что с ним произошло за последние часы, случилось наяву, а не было чудесным сном? Ему было страшно открыть глаза из-за опасения, что мираж разрушится. Но, вот, нос щекочут всякие тошнотворные запахи, вокруг слышны приглушённые голоса, стоны и покашливания. Да, это действительно больница святого Варфоломея! И он на свободе! Ронан улыбнулся и открыл глаза.
– А мне казалось, вы будете до лета спать, – раздался знакомый голос, и принадлежал он Эндри. – Это ж надо, спать десять часов кряду, будто вы с Рождества в постель не ложились.
– В некотором смысле ты и прав, – сказал юноша.
– Ну, раз вы изволили, наконец-то, проснуться, то нечего просто так здесь валяться, словно молодой жеребец среди стада тощих коров, – повелительным голосом заявил мальчишка. – Вставайте и следуйте за мной.
Ронан несколько удивился такому нахальству своего слуги, но, тем не менее, повиновался. Снова теми же коридорами и лестницами они вышли во внутренний двор богадельни, больше напоминавший запущенный и заросший сорняками сад. Юноша полной грудью вдохнул свежий воздух, пропитанный ароматами цветущих деревьев. О, блаженное чувство свободы!
– Эх, ну что же мне с вами делать теперь? – притворно вздохнул паж.
– Мне кажется, Эндри, ты себе многое позволяешь, – с укором сказал Ронан.
– Да ежели я позволял бы себе ещё больше, святой отец не сидел бы ныне в тюрьме заместо вашей милости, – с жаром ответил мальчишка. – А уж коли я бы не позволил себе и того, что позволил, то, ей-ей, между ногами вашей милости и землёй сейчас было бы, по меньшей мере, два фута.
– Бедный Лазариус! Надо узнать, что с ним! – воскликнул юноша, которому слова слуги напомнили о старом монахе. – Но, скажи мне, как он очутился в моей камере в то самое утро, когда меня должны были повесить?
– Это долгая история, – сказал Эндри. – Я вам её по дороге расскажу.
– Куда ты опять собираешься меня вести? – спросил юноша.
– Туда, где ваша милость будет в безопасности, – ответил Эндри. – В один небольшой особнячок в Изледоне, так они это местечко прозывают. До ночи доберёмся.
– Как! Ты предлагаешь мне бесстыдно бежать из города и оставить здесь отца Лазариуса! – воскликнул Ронан. – Ни за что на свете! Я обязан выяснить, как он обустроился на пост… – тьфу, проклятый Тернки! – в Ньюгейтской тюрьме, и что ему грозит. А поэтому мы пойдём сейчас к сэру Хью и я попрошу у него всё разузнать.
– Видать, вы пока в тюрьме-то сидели, ваша милость, то совсем мыслить разучились. Вас, небось, ей-ей, по всему городу ищут, а вы намереваетесь по доброй воле голову в пасть льву засунуть – проверить, откусит или нет. Эх, а мы со святым отцом столько из-за вас всего претерпели, – обиженным тоном сказал Эндри.
– Ручаюсь, ты зря беспокоишься, – произнёс Ронан. – В лицо меня в городе знают лишь несколько человек, а Лондон столь огромен, что существует только один шанс из миллиона, что меня кто-нибудь опознает по дороге в Саутворк.
– В Саутворк? – изумился мальчишка.
– Именно так, мой верный Эндри, – заверил юноша. – В дом к негоцианту Габриелю Уилаби, что находится неподалёку от церкви святого Олафа.
– Да уж ведомо мне, где он находится, – голосом, в котором слышалось явное неодобрение, произнёс мальчишка. – Но скажу вам без обиняков, мастер Ронан: не по нраву мне эта ваша затея, ох не по нраву.
– Эндри, я премного признателен тебе за верную службу, которая, говоря по правде, спасла мне жизнь, – сказал Ронан, – но с твоего позволения я снова буду хозяином, а ты – слугой.
– Поступайте, как знаете, – понурившись, ответил мальчишка. – Кабы вы к моим советам прислушивались, всё, глядишь, и по-другому было бы… Вот, поешьте. Это мясной пирог. Покуда вы спали, я в лавке купил. А во фляге эль. И накиньте этот старый плащ, скоро ночь и будет холодно.
– До чего я дошёл! – вскричал Ронан. – Не хозяин своего слугу кормит и одевает, а слуга – хозяина. А ты знаешь, я и в самом деле голоден как волк. Уже вечер на носу, а у меня сегодня и крошки во рту не было.
Ронан быстро проглотил предложенную ему еду и спросил у пажа, не знает ли тот дороги до Лондонского моста в обход Ньюгейтских ворот и Олд-Бейли. Эндри ответил, что знает, что здесь рукой подать до Ольховых ворот, надо только пройти через Маленькую Британию – так здесь этот квартал прозывают. Видимо, мальчишка уже неплохо освоился и немало исходил в этой части города. А потому он быстро вывел своего хозяина через какие-то дворы, переулки и улочки к тем самым Ольховым воротам, через которые Ронан шесть месяцев назад, переполненный радостных ожиданий, первый раз въезжал в Лондон. Боже, как же много всего за это время проистекло!
– В этом городе вам надобно больше всех опасаться Фергала, – вдруг ни с того ни с сего сказал Эндри.
– Фергала! Откуда тебе известно это имя? – удивился Ронан.
– Я видал его в Рисли, в лесу, – ответил мальчишка. – Мерзкий тип. Я написал вашей милости письмо о том случае, но тогда я покуда не ведал, кто он таков. А потом появился отец Лазариус и сказал, кто это был. Также он сказал, что многое про него знает, что это для вас очень важно, и хотел вам всё поведать.
– В тюрьме у нас не было возможности поговорить о многом, – сказал юноша. – Я видел Фергала в зале суда и убеждён, что мои злоключения это его рук дело. Но растолкуй мне, Эндри, как отец Лазариус оказался в моей камере сегодня утром.
Молодой слуга кратко поведал, что ему удалось выведать у отца Лазариуса о его спасении из монастырского подвала; как больной старец появился в Рисли-Холл и он его выхаживал; как они сразу же направились в Лондон, когда получили известие, что Ронан попал в тюрьму; как он наведывался в дом в Саутворке и узнал от мистрис Алисы, что у узника есть напильник; как передавал всё услышанное отцу Лазариусу, и как старец размышлял долго-долго, не один день; и как незадолго до назначенного для повешения дня велел Эндри снова навестить мистрис Алису и просить её добиться того, чтобы узник перед казнью требовал себе католического исповедника. Ну, а дальше Ронан уже всё знал сам.
– Конечно, мы боялись, что вы, мастер Ронан, или оковы не удосужитесь перепилить, – добавил Эндри, – или же, наоборот, попытаетесь изловчиться и своими силами вырваться из тюрьмы и геройски при этом погибнете.
Разговаривая таким образом, молодые люди какими-то боковыми улочками вышли на Вестчип, большую оживлённую торговую улицу, которая несмотря на вечернее время была ещё полна народу. Им хотелось подойти к людям и послушать, о чём те разговаривают, но надобно было спешить, дабы успеть перебраться через Мост на другой берег.
Ронану очень хотелось попасть в дом негоцианта. Ему было необходимо посоветоваться с командором о своих дальнейших действиях. Ведь он, как ни крути, отныне считался беглым преступником. Позволительно ли ему будет теперь принять участие в плавании, тайно или явно? К тому же Ронану очень хотелось разузнать всё об отце Лазариусе, которого он жалел всем сердцем, и об ожидающей бедного старца участи. Юноша наивно полагал, что наказание его спасителя не должно быть чересчур жестоким – ведь старый человек никого не убивал, не грабил, не воровал, и к тому же его почтенный возраст заслуживал снисхождения. И, конечно же, Ронан мечтал вновь увидеть Алису и поделиться с ней своей радостью. Хотя он и был ей обязан своим спасением не меньше, чем отцу Лазариусу и верному Эндри, но увидеться с ней его манили другие, более нежные чувства, нежели простая благодарность.
Начинало уже смеркаться, но ворота на Мосту были ещё открыты, и Ронан с Эндри устремились по быстро пустеющей, похожей на сводчатую галерею улице к другому берегу Темзы. Когда они подходили к арке церкви, часы на её единственной каменной башне пробили девять часов. Впереди был небольшой чистый, незанятый домами участок моста, что позволило путникам взглянуть на тускнеющее небо перед тем, как пройти под аркой и вступить в следующую анфиладу домов, арок и перекрытий, которая заканчивалась Башней Предателей. Они быстро преодолели этот тёмный коридор и вышли к подъёмному мосту. Последние лучи заходящего солнца падали прямо на зловещие символы возмездия, украшавшие кровлю Башни Предателей. Ронан снова содрогнулся, хотя уже не раз проходил здесь. В этот момент из-под арки башни навстречу путникам вышли несколько стражников в блестящих доспехах, ведших за поводья своих лошадей. У юноши ёкнуло сердце. Он отступил в сторону и прислонился к углу дома. Эндри пришлось также уступить дорогу и отойти к другой стороне моста. Стражники с лошадьми прошли мимо, смеясь и перебраниваясь друг с другом. У Ронана отлегло от сердца и он хотел было возобновить путь, но тут из-под арки показалась ещё группа людей. Впереди всех шествовали два человека, которых юноше трудно было не узнать. Узнали Ронана и они. То были Фергал и Пёс Тернки. Выражение крайнего удивления на их лицах быстро сменилось злобным торжеством.
– Вот он! – заорал Тернки, указывая рукой на юношу. – Беглец!
– Хватайте его! Живей, mile diabhlan! – вторил Фергал.
Ронан оказался в ловушке. Подъёмный мост, который, увы, был опущен, отделял его от Фергала с Тернки. И хотя ни тот и другой не спешили сами приближаться к беглецу, но из-за их спин показались латники, которые не были столь малодушны как их предводители. Некоторые из них уже заряжали аркебузы, другие схватились за алебарды. Бежать назад по мосту юноше не представлялось возможным, потому что стражники с лошадьми, будучи привлечены тревожными окриками сзади, развернулись и перегородили путь. Прыгать в воду посреди Темзы было чистым самоубийством – он, быть может, и не утонул бы сам, но стражникам с аркебузами сверху не представляло большого труда подстрелить его словно дикого селезня на болоте – по крайней мере, он на их месте не промахнулся бы. Итак, путь впёред был отрезан, назад – тоже, слева, справа и под мостом – вода.
Но если невозможно двинуться ни вперёд, ни назад, ни влево, ни вправо, ни вниз, остаётся единственное направление – вверх! Хватаясь за ставни, карнизы и выступы в стене, Ронан мгновенно вскарабкался в направлении перекрывавшего улочку свода, подтянулся на его балке, перелез через парапет и очутился в каком-то непонятном тёмном лабиринте. С обеих сторон были деревянные стены с окнами, карнизами и даже балкончиками. Между ними протянулись массивные балки, которые во многих местах были застелены досками и образовывали переходы с одной стороны на другую, причём, порой над одним переходом нависал другой, что ещё больше затемняло всю эту воздушную галерею. Если учесть, что балки и настилы между противоположными домами находилась на разных уровнях, на многих из них были также устроены перила и ограждения, а сами эти переходы завалены всякой старой рухлядью, то можно представить, с каким трудом беглецу приходилось продвигаться в этом сумбурном нагромождении воздушных построек…
Снизу раздавались крики и команды, ругань и проклятья. Тут же послышался шум захлопываемых на окнах ставень и задвигаемых на дверях засовов. Все обитатели средней части Моста спешно покидали улицу, закрывались в своих домах и лишь прислушивались к происходящему снаружи. Улица в этом месте враз опустела и оказалась во власти стражников Фергала. Они бегали от Башни Предателей до Церкви, сознавая, что беглец находится где-то над ними, но не имея ни малейшего представления, как до него добраться.
Быстро темнело. Раздался звук колокола с обоих концов Моста, возвещавший о том, что ворота вот-вот закроют. Однако Фергал собирался во что бы то ни стало схватить или убить Ронана. Поэтому он приказал одной части латников стать около Башни Предателей, а другой – у Церкви. И там и там мост был свободен от домов по своим бокам, и потому Ронан Лангдэйл никак не мог проскользнуть мимо этих дозоров и улизнуть.
– Полезай наверх, – приказал Фергал тюремщику.
– Но почему я, чёрт возьми? – заартачился Тернки.
– Ты ещё спрашиваешь, замочная твоя душа! – возмутился Мастер Ласси. – Кто упустил Лангдэйла из тюрьмы? Кто открыл дверцу клетки и не заметил, как заместо молодого воробья там очутилась старая ворона?
Подошёл стражник с лошадью и подвёл её к балкону, через который ускользнул беглец. Тернки, ворча и ругаясь, залез на спину лошади и с неё перебрался через парапет и скрылся в галерее. Но тут же послышался какой-то шум и грохот, и тюремщик высунулся обратно.
– Да здесь сам чёрт ногу сломит, Мастеру Ласси, – доложил Тернки. – И ещё темнее, чем в Ньюгейтской тюрьме, клянусь всеми её замками и запорами.
Фергал как заправский командир (откуда только к нему пришли эти навыки!) проверил караулы у Башни Предателей и Церкви и распорядился о смене часовых каждые три часа. Он намеревался с первыми лучами солнца вместе с Тернки и стражниками обойти все дома в этой части Моста и выкурить из них Ронана. А пока, прихватив с собой незадачливого тюремщика, Мастер Ласси отправился в харчевню, которая была здесь же на Мосту, но в другом его конце…
А в это время Ронан, рискуя сломать себе шею, забрался на самую крышу. Здесь он чувствовал себя в некоторой безопасности, отделённый от своих преследователей весьма запутанными лабиринтами деревянных конструкций. Карабкаясь по крутым скатам крыш с одного дома на другой, юноша добрался до церковной башни. Ронан глянул вниз и увидел, что от крыши следующего дома его отделяет не меньше семидесяти футов, преодолеть которые могла бы только птица. А внизу на мосту развалились стражники и грелись около разложенного прямо на каменных плитах костра, в то время как их товарищи зорко смотрели по обеим сторонам моста, если вдруг беглец вздумает рискнуть жизнью и перебраться по воде и брёвнам с одного пирса на соседний. У юноши не было сомнений, что и сзади у Башни Предателей и подъёмного моста тоже стоял такой же дозор. Утром, наверняка, стражники продолжат его поиск, думал Ронан, а проснувшиеся обитатели этих домов им в этом помогут. Может быть, попробовать по водосточным трубам спуститься чуть ниже и прыгнуть в Темзу?
Хоть ночь была ясная и небо усыпано звёздами, а серп луны бросал блики даже на шпили и крыши на берегу реки, но по самой воде уже стелился мглистый туман. Очевидно, что прыгать в реку и пускать по ней вплавь было весьма рискованным делом. В таком тумане легко можно было потерять направление, выбиться из сил и замёрзнуть в воде, так и не найдя берега. Более того, сам прыжок в реку представлял собой огромную опасность: можно было угодить на одно из торчавших вертикально из воды брёвен, окружавших пирсы для их поддержки и защиты ото льда, и околеть на нём, как выброшенная на берег рыба.
Однако другого выхода, похоже, у Ронана не было, и он решил рискнуть. Он лёг на живот, спустил ноги с крыши, ухватился за водосточную трубу и начал осторожно спускаться вниз. Беглец медленно, словно гусеница по ветке, двигался вдоль стены, стараясь не выпускать из рук трубы и используя в качестве опоры карнизы, козырьки и прочие неровности. Таким способом юноша преодолел три или четыре ярда. Где-то внизу он уже слышал шум воды, хотя самой её из-за стелющегося тумана видно не было. «Ну что ж, наверное, пора прыгать, – подумал Ронан. – Будь что будет». Он уже собирался разжать руки и оттолкнуться от стены, как вдруг над ним открылось маленькое оконце и из него что-то вылетело, больно стукнув его по голове. Ронан непроизвольно вскрикнул и тут же затих, плотно сжав зубы.
– Ой, кто здесь? – послышался голос из окошка. – Ой, сосед, неужели я в тебя ненароком угодила?
Вслед за голосом из оконца появилась голова говорившего – а точнее, говорившей, ибо это была особа женского пола. Она уставилась на юношу, голова которого находилась в каком-то футе от её собственной, и захлопала удивлённо глазами.
– Сэр, что вы изволите здесь делать? – кокетливо спросила молодая (ибо на вид она была на год-два моложе Ронана) особа.
– Я? Всего лишь собираюсь прыгнуть, – безотчётно ответил юноша, потому как воспитание не позволяло ему оставить вопрос дамы без ответа.
– Вы, сэр, верно, желаете размозжить себе голову и переломать кости? – спросила девица.
– Вовсе нет, – сказал Ронан. – Клянусь душой, я хочу прыгнуть в реку и уплыть подальше от этого проклятого моста.
– Вы зря ругаете место моего обитания, сэр. Здесь всегда свежий воздух и много воды, – сказала молодая особа. – А ежели вы прыгнете, то упадёте прямёхонько на брёвна.
– С кем ты болтаешь там, Анна, – донесся второй голос из окошка и принадлежал он тоже женщине, хотя и был более резкий и грубоватый.
– Ой, не мешай мне, – ответила молодая особа по имени Анна. – Ты уже давно замужем, а я ещё в девицах хожу. Лучше подойди и помоги мне, у тебя сил куда больше, чем у меня, такой молодой и хрупкой… А вам, сэр, я милостиво разрешаю влезть в моё окошко. Но не вздумайте ко мне приставать. У моей подруги рука крепкая.
Получив такое благосклонное приглашение, Ронан предпочёл ухватиться за карниз и позволить схватить себя за руки и протиснуть в маленькое оконце, нежели подвергаться опасности в отчаянном прыжке.
– Вот вы и здесь, сэр, у меня дома, – сказала Анна безо всякого смущения.
Юноша встал во весь рост, расправил одежду и огляделся. Он находился в небольшой комнатушке с невысоким потолком, всё убранство которой составляла низкая кровать, две-три полки, лавка, сундук, выполнявший ещё и роль стола, да несколько гвоздей в стене, на которых висела кое-какая одежда. Комнату освещала одна лишь свеча. На лавке сидела другая женщина, с интересом поглядывавшая на Ронана. Что-то в чертах её лица показалось ему знакомым. Хозяйка жилища стояла рядом и довольно улыбалась. На ней была простая, но опрятная одежда. А живость её личика, на котором блестели весёлые глазки, искупала заурядность его черт.
– Ну, сказывай, зачем ты залез ко мне в комнату, такой ловкач, – потребовала вдруг Анна.
Ронан в недоумении опешил.
– Я намеревался прыгнуть в реку, а вы предложили мне влезть в окно, – ответил он без всякой задней мысли.
– Бог ты мой! Врёт как по писанному, – сказала девица с лукавой улыбкой и взмахнула руками. – Вот я сейчас кликну соседей, и пусть все поглядят, кто ко мне забрался, а с какой целью и так понятно. Зачем ещё молодому человеку таким необычным способом прокрадываться в жилище одинокой девушки!
– Нет-нет, не делайте этого, прошу вас, милая девушка! – взмолился Ронан.
– Ну, хорошо, не буду, – благосклонно молвила девица. – Но при одном условии.
– И при каком же, смею спросить? – осведомился юноша.
– Вы при свидетелях, – Анна кивнула на свою подругу, – торжественно поклянётесь жениться на мне. Гляньте, какая я пригожая девица.
– Но я не могу этого сделать, – сказал Ронан. – Никак не могу.
– Ах, неужели вы уже женаты или с кем-то обручены? – огорчённо спросила Анна. – В самом деле, я вижу колечко у вас на мизинце. Ох, я несчастная!
– Я не женат и не обручён, – сказал юноша. – Хотя честно должен признаться, что моё сердце занято.
Юноша впервые при людях вслух признался в своих чувствах к Алисе. При этом он испытал огромное удовольствие.
– Ну, я могла бы стать достойной заменой в вашем сердце, – кокетливо заявила девица и уже более твёрдым голосом, в котором звучала угроза, добавила: – Особенно, если подниму сейчас шум.
«Хоть снова лезь в окно и прыгай в реку, – подумал Ронан. – Вот ведь угораздило!»
– А скажите, сэр, – подала вдруг голос сидевшая на лавке подруга Анны, – не вы ли тот самый молодой джентльмен, который полгода назад прыгнул с этого самого моста спасать утопающую прачку?
И тут Ронан вдруг понял, кого ему напоминала эта женщина. Это же была Марта!
– Ну, какой он джентльмен! – фыркнула Анна. – Ты посмотри на его протёршийся плащ и небритое лицо. Нынче у благородных юношей принято посещать брадобрея минимум раз, а то и два в неделю. Уж я-то знаю! Мой братец давно у цирюльника в подмастерьях ходит, и он говорит, что…
– Марта, я, право слово, сразу вас и не узнал, – с чувством искренней радости произнёс Ронан, не обращая внимания на болтовню Анны. – А где же добрый Джон и почему вы, собственно, здесь, а не с ним?
– Соскучилась я по Мосту, ваша милость, – ответила Марта. – Поди, всю жизнь здесь провела. А кабы не вы, то так бы здесь её давно уж и окончила. А Джон в порядке. Всё как говорю, так и делает. Вот сейчас, верно, спит капитан мой, как я и велела. Нравится ему, когда я его капитаном зову. Он мне сказал, что вы его так впервые назвали, а ему, видать, очень по душе пришлось. А меня он всё русалкой кличет… Я ему сказала, что пойду проведать на Мосту мою лучшую подругу Анну, у неё и заночую, а ему велела без меня спать ложиться… А ты, дурёха, – обратилась она к Анне, – вздумала молодому джентльмену в жёны набиваться. Э-эх. Знай сверчок, свой шесток.
– Марта, ты же сама мне рассказывала, как мужа себе нашла, – обиженно сказала её товарка, – и советы давала всякие, как себя с ними вести… А вы, сэр, уж извините простую девушку. Откуда же мне было знать, что вы из джентльменов. По вашему виду, признаться, и не скажешь. К тому же, благородные люди ночью-то по Мосту как пауки не ползают и в реку, словно лягушки, не сигают. Но, по крайней мере, коли не я, то ваша возлюбленная в живых едва ли вас когда ещё увидела бы. Скоро туман спадёт и тогда вам станет ясно, куда вы намеревались спрыгнуть со стены и что вас там ожидало бы.
– О, милая Анна, я признателен вам всей моей душой, – сказал Ронан. – Но сейчас я в таком положении, что мне просто нечем выразить вам мою благодарность, кроме простых слов.
– Что вы, сэр, я не жду от вас никаких наград и подарков, – сказала кокетка. – Но если вы действительно желаете отблагодарить бедную девушку, то можете запечатлеть свой поцелуй на моей щёчке.
Ронан был не настолько чёрствым и неблагодарным, а Анна не столь уж и дурна, чтобы юноше было бы неприятно поцеловать девичью щёчку.
– Ой! – радостно воскликнула Анна, когда получила свою награду. – Теперь всем на Мосту я буду говорить, что меня поцеловал молодой и красивый джентльмен.
– Сэр, – вновь сказала Марта, которая была старше и рассудительней своей подруги, – мне думается, что у вас большие неприятности. Случаем, не из-за вас вечером поднялся весь этот сыр-бор на Мосту?
Ронан посмотрел на подруг и решил им открыться. Он сказал, что его оклеветали и приговорили к виселице, что ему удалось бежать, но он снова оказался в ловушке и теперь ума не приложит, как отсюда выбраться. Было бы странно, если бы у Анны, а тем более у её старшей подруги, возникло желание позвать на помощь и выдать беглеца преследователям. Все расселись – кто на кровать, кто на лавку – и принялись думать, как беглецу скрыться от своих преследователей. Но ничего путного в голову им не приходило.
– Эх, был бы здесь мой Джон, он, наверняка, что-нибудь придумал бы, – сказала Марта. – Он всю реку и подступы к Мосту как свои пять пальцев знает.
Марта предложила едва откроются ворота на Мосту пойти поискать своего супруга. Он мог бы подплыть на своей лодке к ближайшей к окошку Анны арке моста, и беглец спустился бы к нему на верёвке, после чего Джон быстро увёз бы его вниз по течению. Но в голосе Марты было мало уверенности, ибо, как выяснилось, отыскать Джона утром было крайне нелегко, почти невозможно. Он мог с раннего утра уплыть к какой-нибудь далёкой пристани и, поди, ищи-свищи его по всей огромной Темзе. К тому же пока Марта будет разыскивать своего супруга, стражники могут обшарить все дома от Церкви до Башни Предателей и обнаружить беглеца.
Анна сказала, что молодой джентльмен мог бы спрятаться в её сундуке, где она хранила свои тряпки и прочие предметы девичьего обихода. Ему, правда, придётся согнуться в три погибели, чтобы поместиться там, сказала эта молодая особа, но ничего лучшего она предложить не могла. Однако, по мнению Марты, это было то же самое, что положить золотую крону в кошель и предложить угадать кому-нибудь, куда её спрятали.
Время летело быстро, ночь подходила к концу. Положение Ронана казалось безвыходным. «Надеюсь, хоть Эндри смог ускользнуть от стражников, – вдруг вспомнил о своём слуге юноша. – Он парень смекалистый и мозгами шевелит также быстро, как и ногами».
Беглец выглянул в окошко. Туман над речной поверхностью рассеялся, и справа и слева на ней отсвечивались сполохи дозорных костров на Мосту. Шумела вода, разбиваясь о брёвна и пирсы. А течение, ища себе выход, устремлялось под арки и образовывало с другой стороны перекаты и водоверти. Ронан понял, что прыгать в реку здесь было крайне опасно. Если течение не разобьёт тебя о ледорубы и торчащие из воды брёвна опор и унесёт под арку, то с другой стороны моста попадёшь на водоскат, за которым начинались водоверти и омуты, которые представляли не меньшую угрозу. Эх, лучше погибнуть в водной стихии, нежели с петлёй на шее или от секиры стражника. Ронан вздохнул и спросил где бы взять верёвку, чтобы спуститься к воде.
– Но это сущее безумие! – воскликнула Анна. – Вы утонете, сэр!
Марта промолчала, ибо по себе знала, что плавает юноша неплохо. Но тогда у берега течение было не столь сильное, к тому же, не надо было преодолевать страшные пороги под мостом. Однако бывшая прачка, а ныне супруга бравого речного капитана понимала, что это был единственный для беглеца способ спастись, хотя и смертельно опасный. Она взяла свечу, вышла из комнаты и скоро вернулась с верёвкой, а точнее с двумя ей кусками, связав которые вместе получилась достаточно длинная верёвка, чтобы она достала до самой воды.
Ронан открыл окошко, чтобы ещё раз глянуть в сумрачную пучину, куда ему предстояло сейчас спуститься и которая, возможно, навсегда его поглотит. И в этот момент он заметил скользившую по воде тёмную тень, быстро приближавшуюся к Мосту, как раз к средней его части. Вероятно, это была лодка. Но как управлявший ей человек не боялся в темноте подплывать к этому опасному месту, было непонятно. Скоро можно было различить контуры этого судёнышка. И когда лодка подплыла совсем близко к мосту и, казалось, её вот-вот ударит о торчавшие из воды брёвна ледорезов или в лучшем случае утянет течением под одну из арок, в этот момент лодка вдруг замерла на одном месте, как будто её схватила невидимая гигантская рука. И что ещё более странно, через некоторое мгновенье оттуда послышался громкий мужской голос, который… вовсю пел песню. Но это была не последняя странность, потому что слова песни показались Ронану знакомыми.
Вот прозвучали последние строчки:
И лучшее настанет,
А худшее оставит,
Так я полагаю;
Добродетель применяй,
А пороков избегай,
Так я поступаю,
и вновь всё стихло. Юноша тщился вспомнить, где же он мог слышать раньше эти строфы. Гигантская невидимая рука отпустила лодку, и она снова пустилась по воде, на этот раз вдоль моста, борясь с течением. Верно, только очень опытный и сильный лодочник в этом опасном месте мог маневрировать своим утлым судёнышком с такой ловкостью.
Марта тем временем удивлённо переглядывалась с подругой. А Ронан продолжал усиленно копаться в своей памяти и – о, чудо! – он вспомнил; и вспомнил не только, где слышал эту песню, но и ему показалось, что он узнал даже бархатистый голос самого исполнителя. Надеясь на правильность своей догадки, юноша наклонился к хозяйке комнаты и что-то прошептал ей на ушко. Анна кивнула, тут же высунула голову в окно, замахала своим белым чепчиком и кокетливо крикнула:
– Джорди, милый, я здесь!
Несмотря на звонкий голосок девушки, в лодке вряд ли смогли разобрать слова за плеском шумящей под мостом воды. Тем не менее, лодка направилась к тому месту у моста, где из окна наверху развевался белый чепчик.
Заметили лодку и стоявшие в дозоре стражники. Один из них каким-то образом спустился на пирс и, встав на его выдававшемся в реку краю, стал громко кричать и махать рукой, призывая лодку приблизиться к нему. Приказы эти, однако, остались без внимания, и лодка замерла под окном с белым чепчиком.
Небо предательски начало сереть, предвещая скорый рассвет. Очертания нависших над водой домов стали более чёткими и ясными. Ронан выглянул в оконце и отчетливо увидел стражника на пирсе, в руках он держал аркебузу и, похоже, в этот миг сыпал в неё порох. До него было всего несколько десятков ярдов. Если беглец станет спускаться по верёвке, аркебузир обязательно пальнёт в него. Болтаясь в воздухе, Ронан будет представлять собой прекрасную мишень. А стражник, наверняка, не такой уж и дурак, чтобы не догадаться, что по верёвке спускается тот, кого они ищут.
Тем временем Марта привязала верёвку к сундуку и спустила свободный конец вниз. Видя нерешительность молодого человека, она спросила, что случилось и почему он медлит.
– Аркебузир подстрелит меня как куропатку, если он увидит спускающегося по верёвке человека, – ответил Ронан.
– Он не посмеет выстрелить в девушку, – сказала вдруг Анна, – которая спускается к своему возлюбленному!
– Ты что, рехнулась, курица? – сердито произнесла Марта. – Спускаться-то надобно молодому джентльмену, а не тебе.
– Ничего я не рехнулась, – возразила Анна. – Я ещё в своём уме и знаю, что говорю. Он наденет моё платье, и стражник примет его за девушку, которая отчаянно хочет увидеться со своим возлюбленным.
Молодая особа открыла ларь и вытащила оттуда другое своё платье. То был действительно самоотверженный поступок, потому что у Анны было всего лишь два платья: то, что на ней, и то, которым она жертвовала ради молодого джентльмена. Ронан кое-как натянул на себя женский наряд, напялил чепец и в таком виде вылез в оконце. Когда он повис на верёвке, чтобы придать большей достоверности происходящему и обмануть аркебузира, Анна крикнула во весь голос:
– Я спускаюсь к тебе, мой Джорди!
Уловка эта вполне удалась, ибо Ронан благополучно спустился по верёвке до самой воды и, ловко перебираясь по торчавшим из неё брёвнам, добрался до лодки. Здесь его ждали крепкие объятья… Джорджа Уилаби. Едва юноша уселся, прозвучал голос: «Пригнитесь и держитесь крепче! Да поможет нам Бог!». Лодка скользнула вдоль ледорубов и устремилась под свод арки туда, где с другой стороны моста в начавшемся отливе образовался порог уже в фут высотой. Под аркой было темно и страшно. Но опытный лодочник быстро выровнял своё суденышко и направил его посредине потока. Лодка, словно с горки быстро понеслась под мостом и вылетела с другой стороны, слегка черпнув носом воды.
– А теперь греби, дружище, что есть силы, – сказал Джордж Уилаби.
Ошеломлённый такой неожиданной встречей Ронан ещё не успел прийти в себя, как вдруг различил в полумгле зелёный шарф и густую бороду лодочника, которые могли принадлежать только одному человеку.
– Неужели это ты, Джон? – с изумлением вопросил юноша.
– А я думал, ваша милость меня не узнает, – ответил лодочник. – Сколько за это время воды-то под Мостом утекло? А я вас сразу признал, хоть вы и устроили такой маскарад.
Тут Ронан вспомнил, что на нём надет женский наряд, он тут же принялся его стаскивать под весёлый хохот Джорджа и так спешил снова приобрести достойный вид, что чуть не опрокинул лодку.
– Бедная девушка, она пожертвовала своим единственным запасным платьем, – с жалостью в голосе сказал юноша, провожая глазами уплывающий по воде женский наряд.
– Скажи мне, как её отыскать, – лукаво произнёс Джордж, – и, клянусь Венерой, я подарю ей новое, ещё лучше прежнего.
– Ну, для этого тебе придётся немного полазить по кровлям и стенам этих причудливых домов на Мосту, – сказал Ронан. – Но, объясните мне ради бога, каким чудом вы оказались близ Моста, да ещё ночью. Джон, а ведь Марта находится в полной уверенности, что ты внял её повелению… или, скажем, совету и улёгся спать. А вам, Мастер Уилаби, сколь мне ведомо, сэр Хью тоже э… советовал находиться в Рисли и следить за поместьем. Но вы словно сговорились и как будто спустились с небес, чтобы вытащить меня из пасти льва. Причём для меня это уже второй раз за последние двадцать четыре часа.
– Дорогой мой, – сказал Джордж, – с неба спустился как раз ты, аки ангел небесный, ха-ха-ха! А мы с Джоном прибыли как простые смертные – на лодке. Я не буду таиться от нашего бравого лодочника, ибо сколь я успел уразуметь, он тебя просто боготворит, хоть мне и невдомёк, ей-богу, когда и чем ты заслужил такое почитание от этого мужлана. Видишь ли, мой друг, полный скорбной тоски и питаемый смутными надеждами я наведался днём к Олд-Бейли, сему храму жестокой Немезиды, и с неописуемой радостью узнал, что ветхий старец и желторотый юнец обвели вокруг пальца грозных тюремщиков и сорвали очередной мерзкий спектакль в Тайберне. Таким образом, вечером мы с Керзоном сидели в его доме, и поджидали тебя с мальчишкой, чтобы весело отпраздновать твоё спасение. Но, чёрт возьми! Эндри пришёл один и сказал (позволю себе перевести его шотландские словечки на изящный английский язык), что его величеству Упрямству вместо того, чтобы на время превратиться в мышку и нырнуть в тёплую норку в Изледоне, вздумалось проявить свою строптивую сущность и средь бела дня отправиться через весь город в Саутворк; а в результате превращения в мышку тебе избежать все равно не удалось, с той лишь разницей, что теперь она оказалась не в уютной норке, а в гибельной мышеловке. Так вот, узнав сии ошеломительные новости и ругая в сердцах твоё безрассудство, друг Ронан, я тут же поспешил к тебе на помощь, а именно – на лодочный причал, где нашёл лишь одного лодочника, сидевшего одиноко на берегу около своего судёнышка и с грустью смотревшего на плывущий по Темзе туман. Так ведь, Джон?
– Что правда, то правда, – подтвердил бравый речной капитан, и когда они проплывали мимо Тауэра сказал, обращаясь к Ронану. – У меня и в мыслях не было, сэр, ослушаться дорогую мою Марту, клянусь бородой! Но только я запер свою лодку на причале у Святого Павла и собирался отправиться домой, как услыхал слова своего собрата по ремеслу о том, что он недавно проплывал под Мостом и слышал шум наверху, лязг оружия, топот ног и военные команды. Кабы не Марта, мне и дела не было бы до этой суматохи. Но я-то знал, что она там, моя русалочка, вот мне и стало волнительно. Хотел было я немедля поплыть туда, дабы всё разузнать что да как, но тут марево над водой поднялось. А в таком тумане к Мосту приближаться, ручаюсь вам, будет верная погибель. Вот я и сидел, ждал, когда марево осядет. А тут приходит джентльмен и говорит, что ему надобно срочно плыть к Мосту. Я бы рад, да куда плыть-то? Туман вон какой над водой… Так мы сидели вместе и ждали. Разговорились. Джентльмен мне и сказал, что хочет спасти с Моста одного безрассудного и наивного юнца. Сначала мне это дело очень не понравилось, но джентльмен поклялся, что юноша был безвинно оклеветан и точно погибнет, ежели не увезти его с Моста. Мне почему-то пришло на память, как вы Марту спасли, хотя могли и сами в Темзе сгинуть. Я и согласился помочь доброму делу. А теперь выяснилось, что вы, сэр, и есть, прошу прощения, тот безрассудный юнец.
Затем Джордж быстро передал юноше все последние новости, какие он по большей части узнавал от Эндри, навещавшего его в Изледоне. Ронан поинтересовался, где находится сэр Хью. Узнав, что тот на корабле в Редклифе и что уже через два дня, наконец-то, отчаливает в далёкое плавание, юноша взмолился и изъявил горячее желание, чтобы его тотчас отвезли в Редклиф.
– Да, верно говорит Эндри, что ты так же безрассуден, как ночной мотылёк, летящий на свет пламени, – ответил Джордж Уилаби. – Ежели тебя ходили искать в Саутворке, то ручаюсь, они как пить дать нагрянут в Редклиф. Послушай, дружище, почему бы нам не направиться сейчас в Изледон к Керзону? А через несколько дней я увезу тебя в Рисли-Холл, и все твои злоключения останутся позади.
Но Ронан был непреклонен и уговорам не поддался. Он объяснил Джорджу, что, несмотря на своё положение беглого преступника, он ещё не потерял надежду уплыть вместе с командором. Также юноша сказал, что никто кроме сэра Хью не может помочь ему узнать о судьбе бедного отца Лазариуса, и посоветовать, как выведать у арестанта тайну Фергала, которой старец не успел поделиться при их краткой встрече в Ньюгейтской тюрьме.
Джордж Уилаби вздохнул и не стал более убеждать своего юного друга отказаться от этой затеи, ибо понял, что занятие это бесполезное. А поскольку Джордж не желал показываться на глаза своему родителю, чтобы не вызвать его недовольство своим появлением в Лондоне, он попросил лодочника пристать к какому-нибудь причалу на берегу реки позади Тауэра. Здесь друзья вышли на берег и сердечно попрощались, ибо у обоих было такое чувство, будто свидеться им уже никогда не придётся.
Расставшись с Джорджем, юноша снова залез в лодку и попросил бравого речного капитана грести в Редклиф. Менее чем через час лодка подошла к борту среднего по размеру из трёх галеонов, стоявших в излучине недалеко друг от друга. Было уже совсем светло, и с палубы доносились крики моряков. С борта свешивался верёвочный трап, по которому Ронан быстро вскарабкался вверх. Юноша осведомился у одного из моряков, где ему можно найти сэра Хью Уилаби, и скоро уже стучался в дверь каюты, занимаемой командором. Дверь тут же распахнулась, и на пороге стоял сам сэр Хью.
Ронана ожидал, что командор изрядно удивится очередному его воскрешению. Однако, не проявив ни малейших признаков изумления, Уилаби быстро пропустил юношу и закрыл дверь. Оказалось, накануне вечером в Редклиф по делам, связанным с предстоящим плаванием, приезжал Вильям Джерард, один из учредителей предприятия. От него-то командор и узнал о побеге своего подопечного и кое-какие другие детали. Уилаби был уверен, что беглец рано или поздно явится к нему, и потому обо всём уже подумал.
– Итак, Роджер Уэлфорт, – начал командор после того, как юноша рассказал, что с ним приключилось за последние сутки, не упомянув только ничего про Джорджа, – я полагаю, ты не забыл твоё имя и ремесло. А раз так, то живо марш выполнять свои обязанности на «Бонавентуре»!
– С удовольствием, сэр! – ответил Ронан. – Один лишь вопрос с вашего позволения: что будет с отцом Лазариусом?
– Он занял место приговорённого к смерти, – бесстрастным голосом произнёс командор. – Завтра его повесят.
– Повесят! Завтра! – ужаснулся юноша. – За то лишь, что он отдал мне свою рясу?
– Увы, мой друг, таков закон, – с некоторым сочувствием молвил Уилаби, – и такова злокозненность твоих недругов. Старика уже никак не спасёшь…
– Неправда! – с жаром воскликнул Ронан. – Его можно спасти, если… если король подпишет прошение о моём помиловании.
Командор недоумённо глянул на юношу и сокрушённо произнёс:
– Его величество читал прошение о твоём помиловании, Ронан, и… отказался его подписать.
Глава LXVIII
Мытарства
Едва продрав глаза и увидав в оконце утренний свет и уже покрытую лодками Темзу, Фергал изобразил начальствующий вид и по крутой лестнице спустился в тесный зал таверны – тесный оттого, что здесь вповалку дрыхли стражники, свободные от караула. Не спал лишь Тернки. Снедаемый горячим желанием поймать беглого арестанта, доблестный тюремщик каждые два часа ходил по Мосту (конечно же, в сопровождение одного из латников – ведь где-то здесь скрывался хитрый и жестокий преступник) и проверял караулы. Мастер Ласси велел своему помощнику разбудить стражников, а потом поинтересовался, как прошла ночь на Мосту и не было ли какого шума между Церковью и Башней Предателей.
– Тихо было, как в могиле, – ответил за всех Пёс Тернки. – Я самолично обходил. Лишь вода под мостом шумела, да вроде какой-то горлодёр где-то неподалёку песню орал во всю глотку.
В это время в таверну вошёл только что сменившийся караульный. Он услыхал последние слова Тернки и, прислоняя к стене аркебузу, пробурчал усталым голосом:
– В лодке он плавал вдоль Моста, потаскушку свою кликал. Я, было, велел ему к пирсу приблизиться, но потом услыхал, как бесстыдница ему откликнулась, и увидал, как она чепчиком из окошка машет, ну, и оставил любодеев в покое. Коли не в реке утопнут, так в адском пламени сгорят.
– Горлодёр, беспутница, любодеи? – встрепенулся Мастер Ласси. – А что затем?
– Понятное дело что за тем, – с ухмылкой сказал стражник. – Чертовка вылезла в оконце и по верёвке в лодку сиганула, прям в объятия своему полюбовнику. Видать, этот дьявольский Мост так и кишит преступниками и прелюбодеями.
Его сотоварищи вмиг развеселились и принялись оживлённо обсуждать это происшествие. Мастер Ласси и Тернки переглянулись между собой и прочитали во взглядах друг друга одну и ту же неутешительную мысль: «Если преступник сбежал из тюрьмы, переодевшись монахом, то почему он не мог сбежать с Моста, натянув женское платье?» Мысль эта быстро переросла в уверенность.
– Mile diabhlan! – с досадой выругался Вильям Ласси. – Он был уже у меня в руках и снова оставил нас в дураках!
Стражники сразу поутихли и ошарашено воззрились на своего командира. Помрачневший Тернки сказал, что надо бы на всякий случай обыскать дома от Церкви до Башни Предателей, и что сделать это будет не так уж и сложно – стоит лишь пустить слух среди жителей, что где-то в их жилищах прячется злобный преступник, и они сами его вмиг отыщут и изловят, если он, конечно, ещё тут.
– Вот и займись этим, – бросил раздражённый неудачей Мастер Ласси.
Когда Тернки со стражниками вывалились наружу, Фергал заказал у трактирщика завтрак и в ожидании оного принялся ломать голову, где теперь искать неуловимого Ронана. Однако ничего путного на его затуманенный досадой и негодованием ум не приходило. Прошло около часа. Вдруг дверь таверны приоткрылась и в неё просунулась хитрая и нагловатая рожица Арчи.
– Где ты шлялся, негодяй? – крикнул на него Фергал. – Вместо того, чтобы быть под рукой, когда я должен был вот-вот схватить беглеца, тебе, видать, вздумалось всхрапнуть в какой-нибудь подворотне на этом чёртовом мосту! Сейчас я с вашего позволения, сэр Бездельник, окончу завтрак, а потом вышибу тебе все мозги.
Юнец состроил притворно-испуганную физиономию и покаянным голосом пролепетал:
– Простите, Мастер Ласси, я хотел как лучше, клянусь моей правой рукой, от которой мне куда больше проку, чем от башки. И, между прочим, мозги вышибить у меня у вас никак не выйдет – из-за их, как вы сами толкуете, отсутствия.
– К чёрту твои мозги!.. Хотел как лучше! – взревел Фергал. – Эти олухи упустили беглеца, и я ума не приложу, где теперь его искать. Что же может быть ещё лучше, mile diabhlan?
– Так, значит, он всё ж удрал, ручки в ножки, сумочки-кошёлки! – произнёс Арчи более бодрым голосом. – И провалиться мне на этом месте, если его не увезли отсюда на лодке перед самым рассветом!
– Откуда тебе это известно? – подивился Фергал. – А! Ты, мерзавец, должно быть, из своей дыры всё видел! Видел и не поднял тревогу!
– Да ничего-то я и не видел, – сказал юнец. – Меня и на Мосту-то не было. А потому и не дрыхнул я здесь. Терпеть не могу спать близ воды, а уж тем паче когда она под тобой так и клокочет. И вообще не люблю я воду. Мне эль и пиво больше по нраву. Эх, где бы такую реку сыскать, которая была бы полна не водой, а элем?
– Хватит болтать, подлая душа, – рявкнул Фергал. – Выкладывай, что знаешь, да поживей.
– Бьюсь об заклад, Мастер Ласси, мне известно гораздо больше, чем вам, – заявил юнец, сощурив глаза. – Но я чертовски устал и голоден как самая последняя собака на Вестчип, ручки в ножки, сумочки-кошёлки. Да у меня нет сил даже язык повернуть.
Фергал поначалу опешил от такой наглости, но быстро сообразил, что шельмец действительно знает что-то очень важное, а потому и позволяет себе так дерзить. Лишь когда на столе перед Арчи появился завтрак, юнец со снисходительным видом начал свой рассказ, одновременно жадно расправляясь с едой. Из его слов выходило, что от дома в Саутворке он следовал всё время позади отряда стражников под предводительством Мастера Ласси. В то время, когда на Мосту за Башней Предателей они натолкнулись на беглого висельника и бросились так неудачно его преследовать, юнец делал вид, что глазеет по сторонам, а на самом деле высматривал, какую бы выгоду извлечь себе из возникшей суматохи. И, по словам Арчи, его внимание привлёк один шкет, также стоявший в сторонке и озиравшийся по сторонам. Поначалу юнец подумал, что это его конкурент, высматривающий добычу в надежде стянуть что-нибудь в сумятице. Но затем Арчи пришли на память разговоры, слышанные им на рыночной площади перед Ньюгейтскими воротами прошлым утром, когда тюремщики расспрашивали, в какую сторону направился монах из тюремных дверей; говорили, что этого самого монаха, который был никакой не монах, а переодетый висельник, увёл с площади какой-то мальчишка. Вот Арчи и подумал, чем чёрт не шутит, а вдруг этот шкет как раз и есть тот самый сообщник беглого висельника. Поэтому-то юнец и стал краем глаза наблюдать за ним. А тот потихоньку миновал стражников, которые не обращали ни малейшего внимания ни на него, ни на Арчи, и припустился по Мосту к северному берегу. Юнец старался не отставать, но делал это так, чтобы не вызвать подозрений у преследуемого. Вскоре начало темнеть. Они пересекли весь город. Шкет проследовал через Ольховые ворота и направился в сторону Изледона. Там он шмыгнул в какой-то особнячок, а Арчи добросовестно стал ждать неподалёку, что будет дальше. Примерно через полчаса из ворот дома появился некий джентльмен в широком плаще и шляпе с плюмажем и взял путь в город. Арчи последовал за ним, и вскоре они очутились на пристани, где в это ночное время, как ни странно, находился один лодочник. Джентльмен подошёл к нему. О чём они болтали, Арчи не слышал, потому что никак не мог подкрасться достаточно близко. Так они просидели почти всю ночь. Потом, когда марево над водой рассеялось, эти два человека тут же прыгнули в лодку и поплыли в сторону Моста. Арчи не стоило труда догадаться, что этот джентльмен нанял лодочника с намерением увезти беглеца с Моста, но помешать этому юнец никак не мог. Хоть ночь и была ясная, но рассмотреть, что происходит около Моста, все равно не представлялось никакой возможности. Тогда Арчи пришло на ум, что если шотландцу удастся удрать с Моста, то он будет искать убежище там же, где сейчас находится и шкет, а именно – в особнячке в Изледоне. Озарённый этой мыслью и упиваясь собственной небывалой сообразительностью, юнец вновь отправился к этому дому и занял наблюдательную позицию в кустах ракитника, желая удостовериться в правильности своей догадки. Когда уже рассвело, к дому подошёл тот самый джентльмен в плаще и шляпе с перьями, которого он видел ночью. Он что-то напевал себе под нос и был, судя по всему, в приподнятом настроении. Беглого висельника с ним не было. Ломать голову, что же произошло ночью на Мосту, Арчи не стал, а припустился вновь в город. На Мосту юнец сразу увидел латников и Тернки, которые сновали между Церковью и Башней Предателей. Арчи поинтересовался у одного из них, где ему сыскать Мастера Ласси, и его направили в находившуюся тут же таверну…
Выслушав рассказ юнца, Фергал поглядел на того более благосклонно и чуть смягчился, однако тут же сообразил, что к цели эта информация не приблизило его ни на йоту.
– Ну, и что толку от твоих ночных похождений, коли мне не ведомо, где теперь прячется Лангдэйл, – хмуро проворчал Мастер Ласси.
– Ну, я тут пораскинул мозгами, покуда сюда шуровал. И, похоже, до меня дошло. Ой-ля-ля, ручки в ножки, сумочки-кошёлки! Хе-хе-хе, – прокукарекал Арчи, заливаясь радостным смешком. – Но работать башкой для меня более трудное занятьице, чем всеми остальными органами, вместе взятыми, а потому это требует дополнительного вознаграждения… ну, скажем, в одну крону.
– Что! Ах ты мерзкий пройдоха! – возмутился Вильям Ласси. – Вот вернутся стражники, и я прикажу из тебя калёным железом вытащить всё, что тебе известно.
– Ну, так я им такого наговорю, добрейший мой хозяин, – обозлено ответил юнец, – что вы, ручаюсь, навряд ли обрадуетесь.
– Что же это, негодник, ты мне угрожаешь? – мрачно произнёс Фергал, просто оторопевший от подобной наглости.
– Нет, Мастер Ласси, – вдруг упавшим голосом сказал Арчи. – Обидно мне, вот и всё. Вон вас сколько тута с секирами и аркебузами по одной улочке носится, а шотландца все равно проворонили. А я всю ночь между Лондоном и Изледоном шнырял и на пристани ночью чуть не околел, зато могу навести вас на ум, где висельника искать.
– Ну, так тому и быть, стервец, вот тебе два шиллинга, – молвил Фергал, неохотно расставаясь с деньгами, ибо кошелёк его за всё время уже изрядно похудел. – А теперь говори, где сейчас проклятый Лангдэйл.
Арчи схватил монеты, по привычке попробовал на зуб и спрятал в карман, потом глянул на Вильяма Ласси с лукавым прищуром и снисходительно произнёс:
– Хоть это и вдвое меньше того, что стоит шевеление моих мозгов, хозяин, но так уж и быть, я прощаю вам вашу скаредность и скажу, где искать висельника… в Редклифе, вот где!
– В Редклифе? – переспросил Фергал и задумался, до него вдруг начала доходить очевидность этого предположения.
– Вот именно, ручки в ножки, сумочки-кошёлки! У вас что, мозги отшибло, хозяин? Хе-хе-хе. Ведь шотландец собирался плыть с Уилаби на тех посудинах, что варганили в Редклифе – вы мне сами же про то и толковали А как вернее всего избежать виселицы в Англии? Конечно, смыться на край света! Дураку понятно.
Говоря это, Арчи через каждое слово широко зевал, намекая тем самым Вильяму Ласси, что ночь для него выдалась бессонной и к дальнейшим подвигам нынче его ничто уже не сподвигнет.
– Mile diabhlan! А ведь ты прав! – согласился Мастер Ласси. – Что ж, как только эти олухи удостоверятся, что молодчик сбежал с Моста, я поведу их в Редклиф.
Достаточно скоро так и случилось: Тернки пришёл в таверну и расстроено развёл руками. Таким образом, второй день поисков беглого висельника начался куда хуже, чем закончился первый. Тем не менее, Мастер Ласси был преисполнен уверенности, где теперь стоит искать беглеца, а потому он дал возможность уставшим и невыспавшимся латникам подкрепиться в этой же таверне, после чего тут же повёл отряд в Редклиф, куда они и прибыли примерно через час.
Что же касается Арчи, то он предпочёл незаметно исчезнуть и затеряться в уличной толчее с намерением вздремнуть где-нибудь на солнышке, а вечерком отправиться в харчевню в Вонючем переулке, чтобы вновь испытать удачу в кости и карты. Вероятно, юнец очень огорчился бы, если бы узнал, что ему уже не суждено никогда более свидеться со своим грозным и жестоким, хотя и щедрым хозяином, Мастером Ласси…
Осознавая, что предписание шерифа в кармане облекает его некоторой властью, Фергал сразу же направился на площадь перед главной пристанью в посёлке на берегу Темзы.
Самым внушительным зданием здесь, и по всей вероятности самым важным, судя по оживлённому потоку людей через его двери, являлась королевская таможня. Дом этот лёгко было узнать по массивным резным фронтонам, широкой дубовой двери и развевающемуся над крыльцом алому полотнищу с изображением креста святого Георгия и зубчатой башни с решёткой на воротах. Деревянная планка с таким же изображением была приколочена и около входа в королевскую таможню.
Кто только не проходил через двери этого здания! Вот озабоченно, но с достоинством ступает купец в мантии с меховой подкладкой и туфлях с соболиными выпушками, недовольный чересчур высоким налогом на отправляемую им во Фландрию шерсть. Дорогу ему уступил человек в морской куртке с суровым, обветренным и обожжённым солнцем лицом; в руках у него книга с застёжкой, где записано всё о грузах на борту его, только что бросившей якорь караки; ему некуда торопиться – он совершил удачное плавание, и теперь его ждёт несколько недель отдыха на суше. Но гораздо больше здесь было сборщиков и контролёров, снующих между складами, кораблями и таможней с книгами в руках, абакой на груди и чернильницами на поясе; они из кожи вон лезли, чтобы неподсчитанными не остались ни бочонок вина, ни тюк шерсти, ни рулон материи, хотя, сказать по правде, ушлые купцы так и норовили придумать новый способ обмануть этих низших таможенных чинов. Были здесь и два иноземца в странных заморских нарядах; они робко улыбались и разговаривали между собой на непонятном языке; у одного из них на плече сидела диковинная обезьянка и самым наглым образом показывала язык, строила рожицы и таращила глаза на каждого проходящего; позади них шёл слуга-негритёнок.
Тернки мотал головой из стороны в сторону. Ведь, как и некоторые обитатели Моста всю жизнь свою проводили, не ступая на сушу, так и Пёс Тернки редко когда покидал стены Ньюгейтских ворот. А потому этот алчный и грубый тюремщик с бесхитростным любопытством и, можно сказать, восторгом глазел на людей, побывавших за морем, на бухту, усыпанную разномастными кораблями и судёнышками. Особое изумление, смешанное со страхом, вызвали у него два чёрных дьяволёнка, один из которых сидел на плече и дразнил его, а второй, облачённый в холщовые штаны, куртку и круглую, высокую шляпу без полей, чинно следовал за иноземцами.
– Чёрт возьми, хватит таращить глаза, тюремный пёс, – гаркнул на него Мастер Ласси.
– Эге, да вы только гляньте, сэр, на это дьявольское отродье, – произнёс ошеломлённый тюремщик, тыча пальцем на обезьянку и чёрного мальчика.
– Mile diabhlan! Да к тебе, похоже, такие уродцы ещё в тюрьму не попадали, – ответил Фергал, которому уже довелось на лондонских ярмарках и рынках повидать труппы артистов, показывающих экзотических чернокожих людей и смешных обезьянок. – Пойдём скорее, Пёс. Нечего на них пялиться. Сказывают, кто долго смотрит на чёрных людей, так сам в таких скоро и превращается.
Последний довод оказался более чем убедительным, и испуганный Тернки тут же отвратил свой взор от иноземцев и позволил Мастеру Ласси увлечь себя внутрь королевской таможни. Не без труда нашли они путь к комнате главного королевского таможенника порта Редклиф.
Этот чиновник, достойнейший из достойных, восседал за массивным столом, заваленным бумагами и свитками, портовыми книгами и прочими аксессуарами его нелёгкой и хлопотной должности. Однако в этот момент на его ещё не старом лице под маской внимания читались скука и безразличие человека, уставшего от рутинных дел и будничных забот.
Перед столом стояли два человека и о чём-то оживлённо спорили, каждый силясь убедить королевского таможенника в своей правоте. Один из них – купец, судя по богатой одежде, – клялся и божился, что ничто со вчерашнего дня на его корабль не загружалось, и что ежели моряки сиюминутно не поднимут якорь, то они рискуют пропустить отлив, а он – понести огромные убытки – если его покупатель в Антверпене вовремя не получит товар. Его оппонент, тщедушный молодой человек утверждал, что глаз у него намётанный и его никак не провести, да и вообще любой простофиля и тот бы заметил, что за ночь осадка судна увеличилась, что по его прикидкам это тянет не меньше чем на две тысячи фунтов шерсти, и что надо пересчитывать всё заново. Разумеется, почтенный негоциант возмущался подобным подозрением и рьяно возражал, объясняя якобы увеличившуюся осадку креном на один борт, течением прилива, погрузкой на борт бочек с пресной водой, полнолунием и приближающимся днём святого Дунстана. У королевского таможенника голова уже шла кругом: вроде и доводы купца выглядели вполне убедительно, но и радетельный контролёр был парень мозговитый.
Трудно сказать, чем закончился этот спор, ибо в самый решающий момент, когда от него требовалось вынести вердикт, глаза королевского таможенника упали на вошедших. Он с облегчением оторвался от выслушивания словопрений и обратил своё внимание на вновь прибывших.
– Кто вы такие и что вам надобно? – спросил таможенник отнюдь не строгим, а скорее любопытным голосом, как бы приглашая гостей развеять его скуку.
– Сэр, мы ищем опасного преступника, страшного убийцу, – сходу заявил Мастер Ласси, разворачивая перед таможенником предписание шерифа. – Есть основания полагать, что он собирается покинуть Англию на одном из кораблей, готовящихся к отплытию в Китай.
– Ого! Что вы говорите! Это же просто великолепно! – восторженно воскликнул королевский чиновник и, прочтя бумагу, добавил с важным видом: – Однако существует одно обстоятельство, которое не даёт мне возможности помочь вам. Ах, право слово, какая жалость!
– Это почему же? – нахмурившись, спросил Вильям Ласси. – Разве же не вы, сэр, главный в этой гавани и целом порту? И разве в ордере не сказано ясно, что требуется оказывать всяческое содействие в поимке беглого висельника?
– О, клянусь честью королевского таможенника, я бы с удовольствием применил мою власть, чтобы задержать опасного преступника, – с радостью заявил чиновник. – Но дело в том, уважаемый сэр, что указы лондонского шерифа действенны в пределах Лондона. Здесь же – Эссекс!
– Mile diabhlan! Но разве преступник от этого перестал быть преступником? – недоумённо спросил Вильям Ласси. – Что же выходит: умертвил в Лондоне человека, а как выбрался за черту города, так уже и праведник!
– Что поделаешь, таков порядок, – сокрушенно произнёс таможенник; однако, озорной блеск его глаз свидетельствовал о необычайном удовольствии им испытываемом.
– Вот-вот, всё должно быть по правилам, – подал голос дотоле молчавший и застывший в дверях Тернки. Он уже открыл было рот, чтобы продолжить про свою приверженность правилам и порядкам, но поймал на себе негодующий взгляд Мастера Ласси и смущённо замолк.
– Впрочем, милейший, у вас есть выход, – благожелательным тоном продолжил чиновник, пряча улыбку в своей бороде. – Как же мне не помочь закону, ей-богу, раз уж я сам поставлен блюсти его в этой гавани! Вот что я вам посоветую: вы можете разыскать одного из эссекских шерифов, дабы на основании предписания лондонского шерифа он выписал свой ордер, который позволит мне сделать для вас всё что в моих силах. По-моему, один шериф сейчас как раз должен находиться в Челмзфорде, что всего-то в тридцати милях отсюда. И вам стоит поторопиться, сэр, ибо послезавтра купеческая флотилия поднимает якоря.
– Тридцать миль! Послезавтра! – ужаснулся Мастер Ласси. – Да мне сдаётся, что вы просто надо мной издеваетесь. Поймите же, почтенный сэр, это коварный убийца, к тому же смутьян и мятежник. Он мог проникнуть на судно под видом кого угодно. В море он подговорит команду на бунт, она захватит корабль, перебьёт купцов и завладеет их товарами. А виной тому будет ваше теперешнее бездействие!
– Хм. Честно говоря, никто ещё не упрекал меня в бездействии, молодой человек, – возразил таможенник, от души забавляясь эти разговором. – Напротив, это вы медлите. Ежели вы тотчас вскочите в седло и поскачите в Челмзфорд, то ещё застанете эти чудесные корабли в бухте Редклифа и будете иметь полное право подняться на их борт и проверить их от клотика до киля и от бушприта до кормового флагштока в поисках вашего злодея.
– Сэр, я никуда не поскачу, – скрежеща зубами, сказал Мастер Ласси. – У меня под командой дюжина крепких ратников. Мы сядем в лодки и проверим один корабль за другим, пока не отыщем этого висельника.
– Смею заверить, что в данном случае сила не в вашу пользу, – ухмыльнулся королевский таможенник. – Да и закон не на вашей стороне. К тому же сам король покровительствует сему плаванию.
– Чёрт возьми, а укрывать беглого преступника это законно! – резонно возразил Фергал. – А до этого вашего плавания мне и дела нет. Пусть плывут себе хоть в Китай, хоть в преисподнюю. Мне всего лишь нужен висельник. И король будет нам только благодарен, если мы вырвём занозу и избавим сие плавание от страшной угрозы. Пойдём, Тернки, порыщем в этих плавучих бочках.
– Постойте! – сказал таможенник, осознавая, что уже достаточно развлёкся, и что дело принимает нежелательный оборот и может кончиться напрасным кровопролитием. – На судах есть пушки, а моряки – народ отчаянный и неплохо дерутся. К чему вам неприятности? Я знаю, как вам подсобить. Команды судов полностью укомплектованы уже месяц назад, и списки всех людей, покидающих на них английский берег, у меня в портовых книгах. Ежели в них мы не обнаружим разыскиваемого вами человека, то ручаюсь, он не покинет Англию – по крайней мере, послезавтра на этих купеческих кораблях.
– Так какого дьявола мы теряем время! – оживился Вильям Ласси. – Покажите мне скорей эти книги, сэр. Сейчас вы сами убедитесь, что преступник на одной из этих посудин.
Таможенник сокрушённо вздохнул, предчувствуя конец развлечению, взял одну из толстых книг на своём столе, нашёл нужную страницу, ещё раз прочёл имя преступника в приказе и принялся сверять списки экипажей, страница за страницей. Но ни на «Бона Эсперанце», ни на «Бона Конфиденции», ни на «Эдварде Бонавентуре» такого человека не числилось. Королевский таможенник ещё раз медленно и тщательно провёл взглядом по спискам: результат был тот же.
– Вот видите! На этих кораблях нет преступника, – уверенно заявил достойный чиновник. – А мои книги так же точны, как и таможенные весы для взвешивания шерсти.
– Этого не может быть! – процедил Вильям Ласси, развернулся и, скрежеща зубами, покинул комнату королевского таможенника, который тут же оказался во власти препиравшихся купца и контролёра.
Фергал был уверён, что Ронан находится на одном из кораблей, ибо, по словам Арчи, он давно уже готовился к этому плаванию. А потом, где как не на корабле, стоящем вдали от речного берега, легче всего укрыться от погони! Фергалу хватило ума не поверить таможенным книгам. Он велел Тернки отвести отряд в Олд-Бейли и поведать шерифам, как он, Вильям Ласси, проявил смекалку и отвагу и почти поймал висельника, а эти нерадивые олухи Толбота умудрились прохлопать беглеца.
Сам же бывший монах, а ныне почтенный лондонский горожанин, остался в Редклифе – в надежде выследить Ронана. Фергал прошёлся вдоль берега, бросая косые, недоверчивые взгляды на три больших корабля, стоявшие на глубокой воде чуть обособленно от остальных судёнышек и лодок. Затем он поднялся на небольшой пригорок на берегу Темзы позади верфей. Здесь каким-то чудом уцелела небольшая рощица, на самом краю которой высился одинокий чёрный тополь, покрытый молодой листвой и увешанный бахромистыми ярко-пурпурными серёжками, источавшими бальзамический аромат. Дерево сразу же привлекло к себе внимание Фергала, который тут же к нему подошёл, внимательно осмотрел и довольно улыбнулся. Однако ни красота весеннего дерева, усыпанного нежными молодыми листьями и душистыми серёжками, ни распускающие целебные почки, которых в другое время он нарезал бы целый мешок, приманили Фергала. Нет, всё, что ему было нужно, это раскидистые ветки дерева, по которым можно было забраться достаточно высоко, чтобы созерцать всю бухту. Вскоре, пыхтя и пыжась и едва не свернув себе шею, Фергал вскарабкался на высоту футов в шестьдесят и удобно устроился в разветвлении чуть ли не на самой макушке дерева. Отсюда благодаря своему зоркому глазу он без труда мог видеть всё, что происходило на палубах купеческих кораблей.
Между берегом и судами время от времени сновали лодки, перевозя людей и вещи. На самих кораблях большого оживления заметно не было: видимо, всё к плаванию было уже почти готово. По палубам расхаживали вахтенные, плотники что-то чинили и подлаживали, другие моряки проверяли исправность снастей, большинство же экипажей, по всей видимости, было на берегу.
Часа два просидел Фергал на дереве, так и не заметив каких-нибудь признаков присутствия Ронана на кораблях, и начал было уже сомневаться, что он вообще находится там. Вон появился на палубе Хью Уилаби. Фергал не мог не узнать его крепкую, высокую фигуру и решительное лицо. Уилаби поднялся на корму и оживлённо разговаривал с каким-то моряком и, судя по всему, был бодр и в хорошем расположении духа. «Значит, ему известно, что Ронан сбежал и находится в безопасности, – мелькнуло у Фергала. – Но где же, где же он прячется, чёрт возьми?»
И как бы в ответ на муторные и подозрительные соображения Фергала на палубе другого корабля неожиданно возник сам Ронан Лангдэйл. Узнать его было нелегко, ибо одеждой он никак не отличался от прочих моряков: короткая кожаная безрукавка поверх толстой шерстяной фуфайки, подпоясанные широким поясом непомерно пузатые штаны до колен, убранные ниже в тугие чулки, разлапистые кожаные башмаки. «Ха-ха! Ну словно навозный жук», – подумал немало обрадованный Фергал, продолжая следить за беглецом.
Ничего не подозревающий Ронан в сопровождении какого-то совсем молодого матроса обошёл весь корабль, в то время как его юный товарищ что-то ему показывал и объяснял. Затем Ронан вдруг азартно ухватился за ванты и стал быстро карабкаться вверх, пока не достиг марса – большой круглой корзины посреди мачты. Здесь новоиспечённый моряк уселся и принялся осматриваться по сторонам. Фергал вынужден был укрыться за стволом дерева, чтобы ненароком не попасться на глаза беглецу. Вскоре, однако, Ронан спустился на палубу и продолжил, по-видимому, дальше изучать устройство корабля с помощью своего молодого помощника.
«Ловко придумано, – размышлял Фергал. – Тебя, дорогой мой, похоже, записали под чужим именем и теперь попробуй, сцапай его. Впрочем, есть у меня одна мыслишка. Клянусь жизнью и смертью, я до него доберусь, или я не сын моего отца!» В таком настроении Фергал спустился с дерева и направился в Лондон, предаваясь по дороге мрачным размышлениям и продолжая строить далёкие от благородства замыслы…
В Олд-Бейли в это время было уже пустынно. И лорд-мэр и шерифы, разделавшись с официальными дневными заботами, отправились все по своим делам. Лишь писари и делопроизводители что-то строчили за своими конторками, весело переговариваясь друг с другом. У них-то Мастер Ласси и выведал, что старика по имени Лазариус приговорили к смертной казни, и всё благодаря напористости и нетерпению благородного Джорджа Толбота, и уже назавтра было назначено повешение вышеупомянутой особы.
Хотя это и было малым утешением для Фергала, тем не менее, весть эта оказалась ему по нутру, и не по той причине, что он так жаждал смерти Лазариусу – ему было, в общем-то, все равно, – а потому, что это событие наверняка опечалило бы Ронана и заставило бы того на своей шкуре ощутить неодолимые укоры совести.
Не успел Вильям Ласси поговорить с судейскими письмоводителями, как неожиданно в Олд-Бейли явился ревнитель закона и поборник справедливого возмездия Джордж Толбот. Он был явно раздосадован неудачной погоней за преступником, что, однако, ещё больше подстегивало его жажду мести. Пылая негодованием, этот благороднейший человек намеревался потребовать у шерифов принятия более действенных мер по поимке беглого висельника. Он заметил Мастера Ласси и благосклонно поприветствовал того взмахом руки, на что Фергал ответил почтительным поклоном. Джордж Толбот в самых пылких фразах поблагодарил Вильяма Ласси за его рвение и посетовал на нерадивость своих латников, упомянув при этом, что приказал всыпать дюжину плетей тому стражнику, который заметил спускавшегося по верёвке беглеца и не удосужился того подстрелить.
«Какой удобный случай!» – подумал Фергал и сказал вслух: – У ваших людей ещё будет возможность исправиться, сэр.
– Если бы нам только знать, где искать негодяя, – раздражённо произнёс высокородный джентльмен. – Я бы сам проткнул его копьём или сразил бы выстрелом из аркебузы.
– Час назад я видел его собственными глазами, сэр, – отводя собеседника в сторону, с мрачной улыбкой сказал Мастер Ласси и поведал о кораблях в бухте Редклифа, надеясь, что Толбота не остановят никакие помехи: ни королевский таможенник, ни чиновнические проволочки, ни нахальные моряки.
Так оно и вышло, ибо глаза Джорджа Толбота тут же загорелись злорадным огоньком и после краткого раздумья он прошептал Мастеру Ласси:
– Завтра я со своими людьми спущусь по Темзе в двух яликах, в каждый из которых посажу по дюжине латников, с обоих бортов мы высадимся на судно, найдём злодея и привезём в Лондон. Хотя, скорее всего, по пути он вознамерится сбежать и утонет в реке. И, право, лучше вам, Ласси, не быть свидетелем этой ужасной сцены.
– Целиком и полностью с вами согласен, сэр, – с любезной улыбкой ответил Мастер Ласси, мирная профессия которого и собственная отвага никак не подвигали его на самоличное участие в каких-либо кровавых стычках. – Я же с вашего позволения развлекусь завтра зрелищем в Тайберне.
– Разумеется, мой друг, – ответил Толбот и в порыве благодарности снизошёл до того, что пожал руку Мастеру Ласси.
На том они и простились в тот вечер. Джордж Толбот отправился готовиться к завтрашнему нападению на корабль, расспросив предварительно Вильяма Ласси, как выглядит судно, как называется и где стоит.
А Фергал подался в Свиной переулок в домик почтенной мистрис Питоу, где он надеялся отдохнуть после двух утомительных и неудачных дней погони. Несмотря на невезение, настроение у знахаря было приподнятое, ибо он не сомневался, что утром Толбот со своей армией расправится наконец-то с Ронаном, причём в то самое время, когда будут вздергивать заумника Лазариуса. Фергал открыл почему-то незапертую дверь домика в Свином переулке, переступил порог и сразу же очутился на кухне – так был устроен простенький домик мистрис Питоу. Войдя в кухню, Фергал замер в недоумении. За столом, потягивая домашний эль, сидели и мирно болтали мистрис Питоу и Агнес.
Здесь как раз настало время поведать читателю об отношениях, сложившихся между Вильямом Ласси и этой простой и весёлой девушкой-кухаркой из дворца Элай. Поначалу Фергал, изображая пылкую страсть, наговорил и наобещал доверчивой Агнес бог знает чего, лишь бы выведать у неё, с какой целью Ронан посещает дворец. Чуть позже при её помощи он разузнал, где искать Томаса Толбота. Ради Вильяма бедная Агнес готова была на всё, ведь никто ещё не признавался ей в любви и не говорил таких ласковых и нежных слов, от которых замирало девичье сердечко. Простодушная девушка принимала на веру все слова Вильяма и иногда, когда во дворце не было больших пиров и застолья и работа на кухне не столь обременяла, она выбиралась из замка и по вечерним лондонским улочкам семенила в Свиной переулок.
Мистрис Питоу поначалу ворчала и выражала сильное недовольство по поводу того, что её жилец водит к себе девицу, ибо с точки зрения почтенной матроны было весьма неблаговидно неженатым молодым людям уединяться в одном помещении. «Что же подумают мои соседи, если узнают, что я позволяю невенчанным мужчине и женщине встречаться под моим кровом, – говорила благонравная дама своему жильцу. – Мой дом приобретёт по всей округе репутацию притона и борделя!» Чтобы соседи ничего не узнали и дабы сохранить репутацию жилища, Вильяму Ласси пришлось надбавить к недельной плате за постой ещё четыре пенса…
Как правило, Агнес заранее давала знать, в какой день сможет вырваться из дворца и прийти к своему суженому, за какового доверчивая душа принимала Вильяма Ласси. Именно поэтому Фергал очень удивился, увидав в кухне Агнес, которую он никак не ждал в этот вечер. Изобразив на лице самую милую улыбку, на которую был только способен, Мастер Ласси пожелал почтенной даме хорошей ночи и увлёк Агнес вверх по лестнице к себе в комнату.
– Что случилось, дорогуша? – с тенью недовольства спросил Вильям, зажигая свечку. – Я никак не рассчитывал нынче увидеть тебя. У меня тысяча всяческих дел, и меня просто разрывает на части, словно пузырь в кипящем котле.
– О, Уил, я никак не возьму в толк, что с тобой творится и почему ты сердишься на меня, – несмело произнесла девушка. – Говоря по правде, я не могла ждать и пришла поделиться с тобой радостной вестью и полагала, что ты будешь без ума от счастья от неё. Но сейчас мне вдруг сделалось страшно, просто ужас как страшно.
– Страшно ей, ой-ля-ля! Тебя же завтра не вздернут на виселице и не утопят в Темзе, – последние слова он пробурчал себе под нос, потом бросил взгляд на Агнес, выглядевшую и в самом деле не на шутку испуганной, и спросил: – Чёрт возьми, и кто же посмел нагнать на тебя такой ужас, моя глупая курочка?
– Всё меня пугает, – дрожащим голосом ответила Агнес. – Скажи мне, ради бога, как я могу не бояться, когда мистрис Питоу сообщила мне, что всю прошлую ночь тебя не было дома? И сейчас ты разговариваешь так, как будто вовсе не рад моему приходу, и говоришь всякие страшные слова, хоть и думаешь, будто я не слышу.
– Что за чушь ты несёшь, Агнес! – раздражённо сказал Вильям. – Конечно же, я всякий раз безумно счастлив видеть тебя, клянусь мандрагорой! А ежели я кажусь тебе нерадостным, так, то от чрезмерной усталости. Почитай двое суток я, не покладая рук, пособлял лондонским врачевателям избавить двух безнадёжных больных от агонии последних мук и страданий. Но упрямцы никак не желали мирно и спокойно отдать богу душу, предпочитая продлить свои предсмертные корчи и позлить лекарей… и меня заодно с ними. Ох, ну и помучился я с этими строптивцами!
– Они умерли? – с содроганием спросила Агнес.
– Почти, – ответил Вильям Ласси. – По крайне мере, завтра утром один из них вознесётся вверх, а другой поплывёт по реке смерти.
– Как страшно ты говоришь, Уил, – произнесла девушка, чувствуя, как по спине у неё побежали мурашки.
– Ничего не поделаешь, таково моё знахарское ремесло, – невозмутимо ответил Вильям Ласси. – Приходится крутиться рядом со смертью, ходить вокруг да около. Кому-то мои травы жизнь продляют, а иным – укорачивают.
– Как так – укорачивают? – ужаснулась Агнес, начиная сильно дрожать.
– Видишь ли, дорогуша, – продолжил Вильям Ласси, сиречь Фергал. – Некоторые больные так страдают от тяжких своих хворей и мучают при этом окружающих, что всякий сердобольный человек жаждет им избавления от мук. Сами больные или же их друзья и родичи умоляют меня дать им такое снадобье, которое позволило бы им заснуть в сладком забытье и больше уж никогда не испытать терзающих тело мучений. Как тут, скажи, не помочь! Ну, бог с ними, с моими хлопотами… Коли не ошибаюсь, ты упомянула про какое-то радостное известие. Что, твоя матушка изволила почить и оставить тебе богатое наследство? Или же из кухарок тебя произвели в повара? Ха-ха-ха.
– Да нет, Уил. Не шути так, прошу тебя, – сказала Агнес, будучи рада наконец-то изменить тему разговора. – Ты же знаешь, что моя матушка всего лишь простая служанка. Откуда у неё богатства-то? А в поварском искусстве я ещё разбираюсь столько же, сколь подмастерье с дубинкой на Флит-стрит смыслит в ратном деле. Нет-нет, дорогой мой. Я хотела сказать, что… что у меня будет ребёночек. – В комнате повисла мёртвая тишина. – А потому нам стоит как можно скорее пожениться, чтобы всё выглядело вполне прилично и законно… Ну, почему ты молчишь, Уил?
Известие это было для Фергала так некстати. Он не строил каких-либо планов, касательно этой простодушной девушки, которая наслушалась его обещаний и целиком ему доверилась. У Фергала были другие устремления и своя тайная жизнь, в которые он ни в коей мере не собирался её посвящать. Хотя он, может, был бы и не прочь когда-нибудь жениться на Агнес – такая она была послушная и работящая, – но лишь после достижения всех своих целей. А пока, в ближайшей его будущности, места для Агнес, увы, не было.
– Отличная новость, – наконец произнёс Вильям Ласси без особой радости. – Но она ставит меня в несколько затруднительное положение, ибо в ближайшие дни меня ожидают важные дела.
– Как, Уил, любимый мой! – воскликнула Агнес, уловившая некое замешательство в голосе жениха. – Я умираю от ужаса при одной только мысли, что ты можешь лелеять чёрный замысел отвергнуть и бросить обесчещенную девушку, которая к тому же носит под сердцем твоего ребёночка. Если ты так поступишь, я умру от горя или брошусь в Темзу. Умоляю, скажи, что ты счастлив и что мы скоро поженимся.
Агнес встала на колени перед своим Вильямом, обхватила его ноги и принялась осыпать их поцелуями.
– Mile diabhlan! Что ты раскудахталась, курочка? Я всего лишь не хотел чересчур спешить, покудова до конца не обустроился. Но раз обстоятельства изменились и коли ты того желаешь, что ж, то скоро мы свяжем себя узами брака.
– Когда же, Уил?
– Ну, скажем, в день святого Дунстана, – немного поразмыслив, как можно более тёплым и искренним голосом ответил Фергал.
– Уже через одиннадцать дней, правда? – со счастливой улыбкой, размазывая слёзы по пухлым своим щёчкам, произнесла девушка. – Поклянись, Уил.
– Клянусь головой моего отца! – с мрачной торжественностью произнёс Вильям Ласси и отвернулся, чтобы Агнес не видела выражение его лица. – Ложись спать.
Пока Агнес сладко спала на его кровати, Фергал задумчиво сидел на табурете и смотрел на спящую девушку. Агнес укрылась с головой и что-то счастливо бормотала во сне. Фергал просидел так до самой зари. Трудно сказать, о чём были его мысли. Быть может, его волновало и будоражило предвкушение скорой смерти Ронана Лангдэйла и старого монаха, а вместе с тем открывавшимися перед ним перспективами. Или же его вновь обуревали сомнения и слабые ростки раскаяния пытались пробиться сквозь толщу его амбициозного и жестокого замысла, а их благодатный сок унять его жажду мести. А может, он думал в этот момент об Агнес, к которой не на шутку привязался и получал от этого всяческое удовольствие, о его ребёнке, носимом ей под сердцем, и о той идиллической картине счастливой семейной жизни, каковую мечтательная Агнес часто рисовала перед ним. В общем, трудно было судить об одолевавших Фергала мыслях. Вероятно, он и сам не мог толком в них разобраться…
Но вот снаружи послышалось щебетание птиц, а ночная темнота за маленьким окном окрасилась пепельно-серым цветом. Фергал тронул девушку за плечо, отчего она тут же проснулась. Агнес бросила взгляд на занимающуюся за оконцем зарю, вскочила и стала быстро собираться – ведь до дворца Элай было не меньше двух миль и надо было поспеть к началу работ на кухне. Агнес ласково поцеловала своего жениха. В глазах девушки читалось столько любви, нежности и счастья, что Вильям Ласси – могущий, исходя из ситуации, так мастерски изображать любые чувства, – смутился и старательно прятал от неё свой взгляд.
Через пару часов почти по тому же маршруту, что и Агнес, отправился и Фергал. Солнце уже давно поднялось над горизонтом, когда он прибыл на площадь в Тайберне. Палач со своими нехитрыми приспособлениями был уже на месте и прилаживал верёвку. Народу на площади в этот день собралось не так уж и много – всего около сотни любопытных. Ярусы трибун были и вовсе пусты. Вероятно, не так уж и много набралось желающих поглазеть на повешение старика, не отмеченного никакими доблестными подвигами или страшными злодеяниями.
Из собравшихся значительную часть составляли мальчишки, надеявшиеся подзаработать. Дело в том, что зачастую родственники или другие доброжелатели для облегчения страданий казнимого нанимали людей, которые бы повисли на ногах несчастного в тот самый момент, когда повозка отъедет прочь и под ногами у него окажется пустота; а если сильно потянуть повешенного за ноги, то он тут же умрёт по причине сломанных шейных позвонков и не будет страдать в течение долгих ужасных минут от нехватки воздуха, дико извиваясь телом и беспомощно дёргая ногами на потеху толпе.
В этот раз повозка с приговорённым к повешению не заставила себя долго ждать. Скрипя и подскакивая на каждой колдобине, она вползла на площадь.
Внутри повозки сидел несчастный Лазариус с покорным и спокойным лицом, не реагировавший никак на глумливые крики прохожих и собравшихся на площади зевак. Видимо, старец давно смирился с мыслию о смерти и был в этот момент погружён в глубокие молитвы, дабы подготовить себя к встрече с загробным миром. Ноги страдальца были связаны в лодыжках, а руки – спереди в локтях, дабы он мог молиться. Старое тело укрывал оставленный беглецом плащ. Лазариус восседал на большом деревянном ящике, который был не чем иным, как предназначенным для него же гробом.
Повозку сопровождали около дюжины конных стражников с копьями, шериф Джон Мейнард и священник. Ни второй шериф, ни прочие представители власти и закона явиться в Тайберн не соизволили. Вероятно, они сочли повешение одного единственного преступника, никому не известного старого монаха, не столь уж важным событием.
Шериф быстро зачитал приговор суда. Священник подошёл к осуждённому и принялся читать покаянную молитву на простом английском языке. Но старый монах, погружённый в свои собственные молитвы, как будто не замечал его, а уж тем более не внимал молитве, произносимой на мирском языке, что с точки зрения правоверной католической церкви считалось страшным кощунством. Мальчишки сновали между зрителями, но тщетно – ни у кого не возникло желания расстаться с деньгами ради какого-то дряхлого старика. Фергал потянулся было к поясу с кошелем – то ли из сострадания, то ли желая как можно быстрей увидеть Лазариуса мёртвым, – но вспомнив, что денег у него осталось уже не так много, опустил руки.
Тем временем палач развязал Лазариусу руки, стащил с него плащ и вновь завязал руки у него за спиной, поднял преступника на ноги, накинул петлю на тощую старческую шею – свою работу почтенный вешатель знал весьма хорошо. В этот момент, несмотря на внешнее спокойствие, страдальца пробила сильная дрожь. Палач подумал, что старик озяб в одной исподней рубахе; а поскольку вешатель наш был человеком доброжелательным и сочувственным, насколько это позволяла его профессия, то он вновь набросил плащ на старческие плечи.
Когда петля оказалась на шее старого монаха, выражение его лица почти не изменилось, если не считать появившейся на нём блаженной улыбки, будто он уже видел перед собой ангелов и вёл с ними беседу. Ни страха перед близкой кончиной, ни суровости и презрения к смерти нельзя было заметить на старческом лике. Лишь безграничная любовь и глубокая доброта светились в его ясном взгляде. Глядя на него некоторые, не столь бессердечные среди публики, неожиданно для себя вдруг почувствовали умиление, а некоторые, в основном особы женского пола, стали тихонько плакать, сами удивляясь своим чувствам: ведь пришли-то сюда ради потехи, а не для того, чтоб сырость под глазами устраивать.
Но вот палач натянул холщовый колпак на голову казнимого, затем опустился на передок повозки, одной рукой взялся за вожжи, а другой вытащил из-за пояса кнут. Когда все эти манипуляции были проведены, то священник замолк и отступил от повозки с преступником. Шериф выждал пару мгновений и взмахнул рукой – то был сигнал для палача. Почтенный вешатель тут же со словами: «Помоги мне, Боже!» со всей силы стеганул бедную клячу, которая, то ли из-за немощности, то ли чувствуя ненадобность спешки в подобном деле, медленно тронулась с места. Ноги страдальца поехали вслед за повозкой, волочась по её днищу, петля затягивалась и всё сильнее сдавливала старческую шею. Но вот ещё мгновенье и ноги Лазариуса соскользнули с края удалявшейся повозки и беспомощно повисли в двух футах над землёй, а верёвка мёртвой хваткой стянула его горло. Около минуты ноги повешенного слегка подрагивали, после чего вытянулись и безжизненно замерли…
Глава LXIX
Опять прошение
Перед высокими дверями, ведшими в королевские покои Гринвического дворца, в то время известного также под названием Плацентия, собралась небольшая группа царедворцев. Всё это были люди, к которым Эдвард питал самые дружеские чувства и любил с самого раннего детства. Они тихо выясняли между собой, в какой очерёдности им предстоит посетить молодого короля. Герцог Нортумберленд довёл до их сведения опасения лекарей по поводу излишнего беспокойства больного и настоятельно просил посетителей заходить к королю по одному. Хотя все горели желанием как можно скорей увидеть своего государя и пожелать ему скорейшего выздоровления, но первым зайти в королевские покои настоятельно вызвался Генри Сидни. Никто не стал перечить зятю Джона Дадли. Как только камер-лакей открыл дверь и что-то шепнул стоявшему при ней привратнику с чёрным жезлом, тот отступил в сторону и позволил сэру Сидни проследовать в королевские покои.
Это были не те комнаты с выходящими в парк окнами, где пару дней назад мы видели юного короля, беседующего с герцогом Нортумберлендом, хотя убранство покоев было не менее роскошным и великолепным. Накануне вечером, повинуясь желанию Эдварда, его со всеми предосторожностями в крытых носилках перенесли в покои в северной части дворца, из которых можно было созерцать Темзу и проплывающие по ней суда…
Тщательно одётый юный король восседал в высоком резном кресле, судорожно ухватившись руками за подлокотники. Видно было, с каким трудом Эдварду удаётся находиться в таком сидячем положении. Но он не мог позволить себе встретить друзей в жалком, беспомощном виде, тем более ему и в самом деле было чуть лучше. Однако от взгляда вельможи не ускользнули ни бледное и осунувшееся лицо, ни вцепившиеся в подлокотники тонкие пальцы.
Генри Сидни встал на одно колено перед своим королём, пытаясь своей улыбкой скрыть тревогу и обеспокоенность.
– Как я рад снова видеть моего дорогого Генри Мне так тебя не хватало все эти дни болезни, – слабым голосом произнёс король, и на его лике появилось что-то похожее на улыбку. – С Божьей помощью я скоро встану на ноги и мы снова сыграем с тобой в мяч.
– Чаю этого всем сердцем, ваше величество, – с непритворной искренностью ответил Сидни.
Но тут лицо Эдварда погрустнело, и он сказал:
– Хотя, должен признаться тебе как другу, порой мне мнится, будто я умираю, и мне становится очень, очень страшно. Но никто об этом не должен знать, Генри, никто! Ведь я – сын великого Генриха Тюдора и не должен ничего бояться, даже смерти! Дай мне твою руку, Генри.
Сидни протянул руку юноше. Эдвард опёрся на неё и с трудом поднялся с кресла.
– А теперь отведи меня к окну, – продолжил юный король, – туда, где стоит копия terra globus, и покажи мне маршрут, по которому английские корабли поплывут в Китай.
Поддерживая короля, Генри Сидни подвёл его к глобусу и свободной рукой принялся рисовать на поверхности шара воображаемый путь, какой предстояло проделать кораблям Хью Уилаби.
– Из этого явствует, ваше величество, – пояснял Сидни, – что если португальцы плавают к Пряным островам длинным путём, огибая африканский континент с юга и далее бороздя огромный и пустынный Oceanus Pacificus, то наши суда пойдут более коротким маршрутом через Mare Germanicum и далее через совершенно незнакомый Oceanus Septentrionalis с его неизведанными водами и берегами.
– Генри, а ты уверен, что там существует проход для кораблей? – негромко, но увлечённо спросил король. – Вдруг на самом севере Земли находится большой кусок сплошной суши, по которому, ежели долго путешествовать, можно было бы добраться из Европы в orbis novus127.
– Никто из учёнейших мужей и знаменитых мореплавателей сего не ведает, ваше величество, – ответил Сидни. – Говорят, там стоят лютые морозы, а лёд не тает ни зимой, ни летом. Доподлинно известно лишь, что британские купцы доплывали вот до этого места. – Вельможа ткнул пальцем куда-то в северную оконечность Норвегии. – Но синьор Кабото полагает, что плывя дальше в этом направлении рано или поздно можно достичь Китая и Пряных островов.
– Должно статься, сей почтенный моряк прав в своих суждениях, – заметил Эдвард после некоторого раздумья. – Ведь если бы на севере действительно была суша, то рано или поздно обитатели этого континента или жители Европы перебрались бы по этому перешейку друг к другу. Но никто не о чём подобном не слышал и в помине. А значит, такого перешейка и нет вовсе, а на севере находится огромное море, которое мы зовём Oceanus Septentrionalis!
– Рассуждениям вашего величества трудно что-либо противопоставить, – согласился Генри Сидни. – Представить только, какую выгоду получит Англия, если Уилаби с его кораблями удастся открыть новый путь на другую сторону Земли!
В действительности Генри Сидни уже не раз разговаривал с юным королём про торговое путешествие на восток через северные воды и крутил вместе с ним глобусы. Прошло уже несколько лет, как Сидни познакомился с синьором Кабото и увлёкся его идеей. Итальянец верил, что из Англии можно достичь Китая и Пряных островов, плывя на северо-восток. Нетрудно было сообразить, какие выгоды и барыши сулило английским купцам возможное открытие этого морского пути. Как это часто бывает между друзьями, энтузиазм Сидни вскоре передался и Эдварду, и семена эти упали, надо сказать, на благодатную почву. Король был образован, радел о благе государства и находился ещё в том юном возрасте, когда разговоры о далёких странствиях и новых открытиях бередят душу и вызывают необычайное воодушевление. Вскоре Себастьяно Кардано получил королевское благоволение на организацию торговой экспедиции, а Генри Сидни превратился в одного из партнёров купеческого предприятия. Юный король постоянно расспрашивал у своего друга, как продвигается подготовка плавания. Эдвард начал питать глубокий интерес к географии и обставил свои покои глобусами.
А посему, как верный друг Эдварда Шестого, Сидни был рад поговорить с юным королём на столь приятную для того тему. Этот чистосердечный вельможа ещё питал слабую надежду, что воодушевление, испытываемое Эдвардом при беседах о путешествии, поможет королю перебороть свою хворь.
– Дорогой Генри, когда же наконец отплывают наши корабли в поисках новых путей на восток? – поинтересовался король.
– Уже завтра, ваше величество, – ответил Сидни. – Сначала корабли снимутся с якоря в Редклифе и вместе с отливом проследуют в Детфорд. А на следующий день, когда вновь начнётся отлив, вы сможете лицезреть флотилию из своего окна.
– Как я желал бы выйти на балкон, чтобы поприветствовать моих моряков, – с некоторой грустью произнёс король. – Но вряд ли Джон Дадли и его лекари позволят мне покинуть покои. Нортумберленд говорит, что я ещё не совсем здоров, чтобы предстать перед народом.
– Значит, вашему величеству придётся подождать некоторое время, – с пылом сказал Сидни, – чтобы выйти встречать корабли, когда они вернутся обратно с потрепанными океанскими ветрами парусами и доверху нагруженные специями.
– Увы, Генри, – вздохнул король. – Ты мой лучший друг и тебе я могу открыться. У меня не хватит времени, чтобы дождаться обратно этих кораблей, потому что… потому что я чувствую приближение смерти. Нортумберленд говорит, что я поправлюсь, а сам торопит меня с завещанием. Когда я спрашиваю придворных лекарей, что меня ждёт, они отделываются туманными фразами. А мне становится всё хуже и хуже, Генри.
– Но сейчас вам же стало легче, – сказал Сидни. – Значит, есть шанс, что болезнь пойдёт вспять.
– Нет, мой дорогой Генри, – печально возразил король. – Такое случалось уже не раз, я заметил, что мне становилось лучше. А через пару недель недуг набрасывался на мою плоть с новой силой… Я прошу тебя, Генри, приходи ко мне почаще. Я скажу Нортумберленду, чтобы тебя пропускали беспрепятственно – теперь у меня есть чем сделать его более уступчивым к моим желаниям...
Генри Сидни вновь проводил короля к его креслу. Заметно было, как Эдварда утомило это недолгое стояние у окна. Сидни сознавал, что время краткого свидания с государём подходит к концу, ведь там в галерее ожидали своей очереди поприветствовать его величество сэр Чеке, Фитцпатрик и ещё двое или трое вельмож из числа друзей короля.
– Мой государь, прежде чем я покину ваши покои, – вдруг сказал Сидни с какой-то внутренней решимостью, – я прошу соизволения обратиться к моему государю с просьбой, если… если вас не затруднит её выслушать.
– Генри, мой дорогой друг, тебе известно, что я всегда благоволил тебе, – ответил юный король. – С какими бы просьбами ты ко мне не обращался, все они были бескорыстными и лишёнными тщеславного самолюбия. Я рад чем-то помочь тебе... пока я ещё в силах сделать это.
– Это весьма щекотливый вопрос, – продолжил Сидни, – и я уповаю на мудрость и милосердие вашего величества. Речь идёт о прошении о помиловании, которое я несколько дней тщетно пытался показать вам самолично. Но видимо, без моего участия и пояснений ваше величество не сочли достойным жизни этого несчастного юношу.
– Да, я, кажется, припоминаю, – сказал Эдвард. – На днях Дадли показывал мне некое ходатайство. Но сам посуди, Генри, как я могу помиловать человека, злодейски отравившего свою жертву? Сему преступлению не может быть никакого оправдания.
– Ваше величество совершенно правы, – согласился Сидни. – Преступник заслуживает самой тяжкой кары. Но лишь настоящий преступник! По правде говоря, мне приходилось встречаться ранее с этим юношей. Обуреваемый романтичными мечтами, жаждой странствий и новых открытий, он вызвался участвовать простым матросом в нашем плавании, несмотря на свою образованность и благородное происхождение. Командор сэр Уилаби и кормчий Мастер Ченслер придерживаются самого лучшего мнения о его нравственных качествах. То действительно была тёмная история с отравлением младшего Толбота, и всё было так ловко подстроено, что подозрение сразу же пало на доверчивого юношу. Но благодаря его друзьям, сегодня собраны убедительные доказательства невиновности этого юноши, и даже почти наверняка известен подлинный убийца.
– По твоим словам, Генри, выходит, что сей юноша не повинен в мерзостном преступлении, в каком его обвинили и признали виновным, так? – спросил Эдвард.
– Вот именно, ваше величество! – пылко ответил Сидни. – Неужели мой всемилостивейший государь допустит, чтобы погиб невиновный человек?
– К сожалению, у меня нет сил, чтобы полностью разобраться во всём этом деле, – молвил король, и в самом деле, голос его был чрезвычайно слабым и уставшим. – Признайся мне только, Генри, он действительно невиновен? Мне известно, что ты ни за что не станешь обманывать меня.
– Да, я всегда был честен с вами, сир, – молвил Сидни. – Скажу лишь, что я не стал бы заступаться за этого несчастного юношу, если бы всей душой и разумом не был уверен в его полной невиновности в данном преступлении.
– Что ж, я верю тебе, Генри, и буду рад спасти невинную душу во славу Господа нашего, – произнёс король, попросил поднести ему столик с письменными принадлежностями и начертал на протянутом ему прошении: «Clementia»128, затем написал своё имя и поставил большую королевскую печать. – Иди, мой друг, и стань вестником справедливости. А если граф Шрусбери будет недоволен королевским решением, то я напомню ему слова соломоновы: «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва», – так сказал юный король, а на память ему пришло другое изречение: «Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу».
Сидни поклонился королю и покинул его покои. Вельможа не задержался ни на миг в галерее, где дожидались прочие сановники и друзья Эдварда, жаждавшие встречи с ним. Сидни быстро спустился вниз в кордегардию, где в специальном зале толпились многочисленные пажи, гонцы, посыльные и прочие слуги, которым не позволительно было шастать по дворцу и приходилось дожидаться здесь приказов и поручений от своих господ. К сэру Генри тут же подошёл ординарец Уилаби.
– Вот подписанное королём прошение, – быстро сказал Сидни, вручая бумагу. – Насколько я понял из записки сэра Уилаби, дело сие чрезвычайно спешное, а потому я дам тебе свой ялик, и мои гребцы вмиг доставят тебя в Редклиф… Удачи, Дженкин! – последние слова были произнесены уже вдогонку, когда большая шестивёсельная лодка оттолкнулась от пристани и стала набирать ход.
Проводив взглядом быстро удаляющуюся вверх по Темзе лодку, Генри Сидни вдоль берега направился обратно во дворец. У причала стояло множество отличавшихся богатством отделки разномастных лодок и яликов знати. Солнце золотило их разукрашенные краской и резьбой борта, речной ветерок играл с флажками и вымпелами с изображением геральдических символов владельцев, лодочники отгоняли птиц, так и норовивших усесться на мягкие подушки на скамьях под навесами этих восхитительных лодок. Среди этой речной флотилии выделялось одно судно – королевская барка. По размерам и великолепию с ней не могла сравниться ни одна другая лодка. Изящные борта с резными поручнями на корме радовали глаз; на носу высилась вырезанная из дуба и разукрашенная золотой, серебряной и багряной красками фигура Афины; высокий балдахин должен был укрывать от дождя и зноя его величество и гостей королевской лодки. Каждое утро эту барку выводили из специального крытого дока и ставили у причала, чистили и скребли, давая всем понять, что король намерен совершить речную прогулку. И каждый вечер, так и не дождавшись плавания, лодку заводили обратно в док. Трудно сказать, для каких целей это делалось. Вероятно, чтобы укреплять и поддерживать в народе веру в выздоровление юного короля. Но Генри Сидни эти манипуляции не могли ввести в заблуждение; он только что видел юного короля, говорил с ним и теперь знал наверняка, что ждёт его величество.
– Бедный Эдвард, – глядя на королевскую барку, печально прошептал Сидни и тяжело вздохнул.
Глава LXX
Казнь Лазариуса

Менее чем через час Гудинаф карабкался по трапу «Бона Эсперанца», что выходило у него крайне неуклюже, ибо одной рукой он крепко сжимал подписанную королём бумагу.
– Позовите командора! – принялся кричать Дженкин, едва только ялик приблизился к борту галеона. – Быстрей, морские крысы, чёрт вас подери!
Крики Гудинафа были столь громогласны и яростны, что едва он ступил на палубу, как очутился лицом к лицу с Уилаби, который уже сообразил, в чём дело, ибо накануне со своим ординарцем отправил к Генри Сидни записку с просьбой ещё раз попытать счастья с ходатайством о помиловании. Верный ординарец был весьма удивлён, когда получил приказ тотчас же лезть обратно в ялик и плыть к другому галеону, самому большому из трёх, передать бумагу матросу по имени Роджер Уэлфорт и следовать его указаниям. Дженкин не привык долго думать над приказами своего господина, а посему, сжав бумагу в зубах, мигом вновь был в ялике и ещё через несколько мгновений стоял на палубе «Эдварда Бонавентуры» и вопил что есть мочи:
– Роджер Уэлфорт! Где этот чёртов сын!
Через мгновенье перед Дженкином вырос Ронан с возбуждённым лицом и горящими от нетерпения глазами.
– Это моё имя, – сказал юноша, выхватил из рук ошарашенного Дженкина бумагу, бросил на неё быстрый взгляд и спросил, где у Гудинафа лошадь.
Узнав, что лошадь ординарца стоит мирно в конюшне в Саутворке, Ронан с досады воскликнул:
– Разорви тебя гром! – Вероятно, он уже успел нахвататься словечек от простых моряков. – На берег! Мне во что бы то ни стало нужна лошадь.
Юноша с Дженкином скатились в ялик и через минуту были на пристани Редклифа. Из лошадей на площади была лишь старая костлявая кобыла, запряжённая в повозку с тюками шерсти. Способность этой клячи нести на себе седока, к тому же и без седла, вызывала огромные сомнения.
Но фортуна – а быть может, что-то или кто-то, её замещающие, – явно была в этот день на стороне Ронана. В конце длинной улицы, ведущей к пристани, в клубах пыли показался всадник. И каково же было удивление юноши, когда в приближающемся наезднике он узнал своего верного пажа, а в коне – бесподобного Идальго!
– Святая Мария! Я не верю своим глазам, Дженкин, – только и сказал Ронан.
Эндри осадил коня и, спускаясь вниз и передавая поводья хозяину, вопреки своему обыкновению молвил печальным голосом:
– Эх, такая жалость берёт, как об отце Лазариусе подумаю.
– Дженкин, одолжите мне на время ваш палаш и передайте капитану Бэрроу, что утром – клянусь честью! – я уже буду на борту, – быстро и решительно сказал Ронан и как был в матросской одежде, без шпор вскочил на коня и ударил ногами по его бокам.
Почувствовав на себе старого хозяина, конь испустил радостное ржание и с готовностью пустился в обратный путь, взбивая пыль копытами…
– Ты откуда здесь взялся, сорванец? – не без удивления спросил Гудинаф, когда Ронан скрылся из глаз. – Да так к месту! Ты же в Рисли оставался!
– Да коли я там оставался бы и поныне, то мой хозяин уже кормил бы земляных червей, – ответил Эндри не без тени хвастовства. – Ей-ей, как же я мог не получить последних указаний от хозяина и не пожелать ему доброго плавания. Да и глянуть ужас как интересно, на каком корабле мастер Ронан поплывёт.
Дженкин оглянулся на реку, чтобы показать Эндри это судно, и удивлённо присвистнул:
– Что за чёрт! Ты посмотри-ка, дружок, да этот корабль, похоже, взяли на абордаж!
И действительно, у борта галеона стояла большая лодка и из неё на судно один за другим быстро поднимались вооружённые латники. Палуба уже вся ощерилась пиками, и по воде с корабля доносились грозные окрики и команды. Верно, всё произошло настолько быстро и неожиданно, что никто из матросов не успел поднять тревогу. Да и виданное ли дело, чтобы среди бела дня на Темзе кто-то осмелился напасть на большой корабль!
– Я так полагаю, Эндри, что это какое-то недоразумение или же теми людьми командует помешанный, – заметил ординарец. – Как бы там ни было, а мне надлежит передать слова Мастера Лангдэйла капитану того судна. Что ж, заодно узнаю, в чём дело.
Дженкин вновь забрался в ялик, любезно предоставленный ему Генри Сидни, и велел грести к большому галеону. При этом сделал вид, что не приметил, как любопытный Эндри вслед за ним проскользнул в лодку.
То, что «Эдвард Бонавентура» подвергся нападению, заметили и на других кораблях флотилии. У Хью Уилаби появилась возможность проявить свои воинские таланты: он поднялся на корму «Бона Эсперанцы» и зычным командирским голосом отдавал приказы, которые хорошо были слышны даже на берегу. Горнист заиграл сигнал тревоги. Моряки хватали оружие, которое их товарищи подавали из трюма, где оно было складировано за временной ненадобностью. Другие матросы уже спускались в лодки. На берегу начала собираться толпа зевак.
Трудно сказать, чем бы закончилось дело, но в это время Дженкин – разумеется, сопровождаемый мальчишкой, – взобрался на палубу галеона. Здесь одни стражники выстроились вдоль фальшбортов, не позволяя никому на палубе к ним приближаться, другие рыскали по трюмам и прочим корабельным помещениям и без всяких церемоний выгоняли на палубу всех, кого там находили – матросов, купцов и даже судового священника. На шканцах капитан корабля о чём-то жарко спорил с высоким, худощавым джентльменом в роскошном одеянии.
– Капитан Бэрроу, – крикнул Гудинаф, приблизившись к спорящим и беспардонно перебивая их дискуссию, – матрос Роджер Уэлфорт просил передать, что срочные дела заставили его покинуть порт, но клялся и божился, что утром будет на борту.
Стивен Бэрроу повернулся к Дженкину и сделал ему предостерегающий знак глазами. Худощавый джентльмен тоже повернулся и гневно сказал:
– Как ты смеешь, негодяй, перебивать наш разговор!
– Дженкин, – произнёс капитан, – это благородный Джордж Талбот. У него предписание шерифа на поимку некоего Ронана Лангдэйла. И джентльмен полагает, что сей человек скрывается на моём корабле. А посему он намеревается выпотрошить судно до самого киля.
– О, сэр, приношу вам мои извинения, – сказал Дженкин, обращаясь к Талботу и делая ему чересчур церемонный поклон. – Хотя на самом деле вы должны быть мне благодарны, ибо я намерен облегчить ваш труд и избавить от напрасных поисков на этом ковчеге. Вы можете испепелить меня на месте вашим взглядом, коли вам так будет угодно, но Мастера Лангдэйла вы здесь не найдёте, потому что – скажу вам по большому секрету, – я только что своими собственными глазами видел его на берегу и…
– На берегу! Где, скажи скорей! – вскричал Толбот. – И клянусь честью, без награды ты не останешься!
– Теперь вы меня перебили, сэр! Что ж, вот мы и квиты, – торжественно заявил Дженкин. – С вашего позволения, я закончу речь, сэр. Так вот, я видел сего молодого человека, и в руках он держал ценнейшую хартию, а именно – подписанное королём прошение о помиловании. Насколько я разумею, его величество, в отличие от учёнейших и справедливейших судей, приняли во внимание все обстоятельства дела, чуток вняли голосу разума и, в итоге, посчитали Ронана Лангдэйла безвинно оклеветанным, а посему кто поднимет теперь руку на этого юношу, будет сам считаться преступником.
Эта новость поразила Джорджа Талбота как удар грома, да так, что враз куда-то девались вся его надменность и уверенность в себе, уступив место полнейшей растерянности. На него просто стало жалко смотреть.
– Но как же так? – расстроено пробормотал он. – Ведь все улики были очевидны, и присяжные в Олд-Бейли с этим согласились. А может, ты набрался наглости и смеешь обманывать меня?
– Ещё никто не смел обвинять меня в обмане! Но я прощаю вашей милости эту дерзость, – ответил Дженкин, которому, по-видимому, доставляло немалое удовольствие покуражиться над Толботом (в кои веки ещё выпадет такой шанс?) – Я самолично имел честь доставить из Гринвича подписанное королевской рукой прошение. Но я не обижаюсь на вашу милость и потому хочу дать вам один ценный совет: лучше бы вашим латникам подобру-поздорову покинуть судно, и чем быстрей, тем лучше. Иначе, ручаюсь, мой господин, сэр Хью Уилаби, истосковавшийся по ратным подвигам, не преминет воспользоваться подвернувшимся случаем. Вон, гляньте-ка, он уже в полной боевой амуниции спускается в лодку, заполненную вооружёнными моряками, и я вам не позавидую, если вы промедлите ещё пару минут.
Джордж Толбот отнюдь не был трусом, но осознавая численное превосходство моряков и собственную теперь уже неправоту в данном деле, предпочёл оставить поле битвы и отдал приказ своим латника живо спускаться в лодки.
– Сэр, если желаете, я могу поведать вам про настоящего убийцу вашего брата, – крикнул Эндри, но Толботу в этот миг было не до него, он лишь отмахнулся, быстро спустился в лодку и приказал грести прочь…
А в это самое время Ронан что есть силы гнал коня в сторону Лондона. Юноша знал, что сейчас происходит ужасная вещь – вешают отца Лазариуса, самого умного, доброго и благочестивого человека на свете, и он надеялся во что бы то ни стало предотвратить это злодеяние. Только бы успеть! Тайберн находился по другую сторону города. Чтобы попасть туда требовалось пересечь весь Лондон с его узкими и многолюдными улицами, на что у всадника ушло бы битых два часа. «О Господи, тогда я наверняка опоздаю! – с ужасом думал Ронан. – Быть может, старцу уже в этот миг набрасывают петлю на шею!»
Ронану было известно, где находится это страшное место. Как-то раз январским утром, направляясь во дворец Элай, он увидел странную процессию на улице. Два десятка конных стражников, священник и несколько магистратов сопровождали повозку, из которой торчала голова с жутким оскалом на лице. Вдоль дороги выстроились любопытные горожане, они глазели на повозку, пытаясь разглядеть человека внутри, а некоторые из них ругались и швыряли в сторону повозки комья грязи, палки и всё, что попадалось под руку. Глаза человека в повозке злобно сверкали, он бешено ворочал головой, что-то кричал в ответ и порывался встать, но, по-видимому, связанные руки и ноги не давали ему такой возможности. Ронан остановился и поинтересовался у какого-то малого, что здесь происходит. На это удивлённый вопросом подмастерье ответил, что, видать, сэр прибыл издалёка, раз ему неизвестно, что по этой дороге доставляют в Тайберн приговорённых к повешению преступников, а сегодня вздёрнут знаменитого убийцу и грабителя, который как раз сейчас и сидит в повозке и который грабил по ночам дома честных горожан и успел при этом укокошить двух богатых ремесленников, трёх их слуг и изувечить ещё несколько человек, прежде чем его удалось изловить.
«Неужели и праведному отцу Лазариусу предстоит такая же участь: под улюлюканье толпы и под градом проклятий и насмешек прокатиться в зловещей повозке, чтобы окончить свои дни на виселице? – с содроганием думал теперь юноша. – Нет, я спасу его!» И мысли Ронана вновь вернулись к отделявшему его от Тайберна расстоянию. Он посмотрел вверх: солнце уже приближалось к зениту, а это было время, как уже было известно Ронану, когда начинается казнь. Впереди высились стены, шпили, башни и кровли Лондона, словно город враждебно ощетинился и не желал пропустить всадника. Юноша осадил коня, ещё раз взглянул на солнце, на расстилавшийся перед ним Лондон, бросил взгляд вокруг, повернул коня и решительно направил его в сторону пустоши, лежавшей справа от дороги.
Ронан вознамерился взять к северу и объехать город с этой стороны. Это была совершенно безумная идея, ибо далеко на север от Лондона протянулись предместья с хаотично разбросанными домами, пашни, на которых вовсю шли весенние работы, выгоны для скота с пасущимися на свежей траве животными, многочисленные сады и заросшие сорняками и вереском пустоши. Если принять во внимание, что все эти поля, выгоны и угодья были обнесены бесконечными изгородями и пересекались небольшими речками и ручьями, то станет ясно, как неимоверно трудно было быстро преодолеть по бездорожью эти несколько миль вокруг города. К тому же местность эта была совершенно незнакома для Ронана, и ему приходилось по большей части ориентироваться по солнцу и полагаться на свою интуицию.
К счастью, под юношей был старый и верный товарищ – Идальго, который чувствовал малейшее движение своего седока и тут же послушно на него реагировал. Как и его хозяин, Идальго давно истосковался по раздолью. Ему как будто передалось нервное возбуждение хозяина; его даже не приходилось слишком подгонять – он сам радостно нёсся в ту сторону, куда его направлял искусный наездник, перемахивал через колючие кусты и плетёные изгороди, пересекал небольшие ручейки и речушки, вздымал комья паханой земли на полях и выбивал искры на редких мощёных улочках предместий.
В этой бешеной скачке немало зависело и от самого седока. Ему приходилось проявлять всё своё искусство верховой езды, особенно учитывая, что на нём было совершенно неподходящее для этого одеяние; широкие и приплюснутые моряцкие башмаки вместо ботфортов с каблуками с трудом держали стремена; куртка от быстрой скачки раздувалась на спине словно парус. Пригнувшись к гриве и, казалось, слившись воедино с лошадью, Ронан внимательно высматривал дорогу, пытаясь разглядеть ямы, овраги и прочие неровности, чреватые для них гибельной опасностью. Наезднику приходилось мгновенно принимать решения, где свернуть, какую тропу выбрать, как объехать неожиданное возникшее препятствие в виде болотца или лощины, высокой ограды или густой рощи. Но наибольшую трудность представляли городские предместья со скоплениями разномастных домиков, особняков и всяческих хозяйственных построек. Не раз, пустив лошадь галопом по какой-нибудь улочке, Ронан вдруг оказывался в тупике и вынужден был терять драгоценные секунды.
Редкие прохожие с удивлением взирали на летящего сумасшедшим галопом большого вороного коня с распластавшимся на нём всадником. Словно аспидно-чёрный дьявол, Идальго проносился мимо рощ, домов, полей, церквей, заборов, мельниц. Иногда вслед им неслись проклятья, ругательства и взмахи кулаков, если потоптаны были свежие всходы или распугано пасшееся стадо овец. Другие, наоборот, видя такую лихую и безрассудную скачку, приветствовали всадника, что-то радостно кричали и махали руками.
Но юноша ни на что не обращал внимание, ему было не до весёлых приветствий и не до страшных ругательств. Где-то там впереди, куда он так сильно стремился попасть, в эту самую минуту совершалась ужасная несправедливость. Спасти святого отца! Эта лишь мысль засела в голове Ронана. Всадник то ласково шептал в уши лошади горячие мольбы скакать ещё быстрее, то со всей силы сжимал ногами её бока и нещадно колотил их пятками.
Когда по его прикидкам он проскакал уже четыре или пять миль, Ронан завидел впереди очередную дорогу, ведшую на юг в сторону Лондона, которую ему предстояло пересечь. Он приметил шедшего по ней бродячего разносчика с большим коробом и яростно закричал тому, требуя знать, попадёт ли он по этой дороге в Тайберн. При столь повелительном окрике и при виде страшного, взмыленного коня бравый торговец не на шутку испугался, но разглядев во всаднике безбородого юношу в матросской куртке, с облегчением, хотя и насторожено, ответил, что, если молодой человек только попробует его чем-то обидеть, то уж непременно попадёт в Тайберн, и что не пристало владельцу такой великолепной лошади грабить прохожих чуть ли на улицах Лондона. Ронану пришлось ещё раз повторить свой вопрос более вежливым, хотя и нетерпеливым голосом, и для придания вопросу пущей важности положить руку на эфес меча. Последний жест всадника, похоже, возымел действие, ибо коробейника решил не искушать судьбу и сказал, что в Тайберн можно попасть и этим путём, но ежели молодой человек чересчур уж спешит и не гнушается топтать копытами своей лошади чужие поля и фермы, то он может взять чуть южнее и проследовать до следующей дороги в Лондон, идущей из Тотенхолла, и на ней свернуть налево.
Не имея времени отблагодарить бродячего торговца, Ронан рванул в указанном направлении, пустив лошадь карьером. Он давно уже слышал колокольный звон, доносившийся из спрятавшихся за перелеском городских церквей и означавший наступление полдня – обычное время начала казни в Тайберне. Ещё около мили они неслись по пастбищам и пашням, пересекли пару ручьёв и перескочили несколько оград. У бедного животного от натуги вздымались бока, изо рта шла пена. Всадник, чувствуя близость лобного места и наступление решающего момента, как клещами впился шенкелями в бока Идальго, чего ни за что не позволил бы себе сделать в другое время.
Но вот позади осталась очередная изгородь, и вдруг Идальго выскочил на большую утоптанную дорогу с высившимися по бокам тополями. И тут же в трёх сотнях ярдов от себя Ронан увидел возвышавшееся посреди площади мерзкое строение, и – о, ужас! – на конце спускавшейся с неё верёвки покачивалось тело в его, Ронана, плаще. Это был отец Лазариус…
Злость, досада, негодование, жалость – всё смешалось в клубок в душе юного шотландца. Он погнал изнемогавшую уже лошадь в ту сторону, на ходу вытаскивая из ножен палаш. Словно громовая молния, всадник вылетел на середину площади, вздымая клубы пыли копытами коня. Оробелые зрители отпрянули от виселицы. Всё случилось настолько стремительно, что ни один из стражников не успел помешать всаднику взмахом меча рассечь толстую верёвку, удержавшую повешенного, и подхватить тело старика. Шериф Джон Мейнард и стражники быстро пришли в себя и стеной окружили всадника на лошади, направив оружие в его сторону.
Пожелай Ронан ускакать прочь, он или Идальго несомненно получили бы удар мечом, копьём или секирой. Но юноша и не думал о бегстве. Зачем? Наоборот, он соскочил с коня, аккуратно опустил тело повешенного на землю и остриём меча принялся перерезать впившуюся в шею старика верёвку. Никто не осмелился ему помешать, слишком все были изумлены случившимся.
– Сэр, на каком основании вы вмешиваетесь в процесс вершения правосудия? – потребовал знать шериф Мейнард. – Нам придётся взять вас под стражу и отвести в Олд-Бейли для разбирательства, а преступника повесить заново. Эй, стражники, окружите его и не дайте бежать.
– Вы можете вести меня куда угодно, – горестно ответил Ронан и добавил с мрачной решительностью: – Но глумиться над телом я вам не позволю.
– Боже упаси глумиться над покойником! – воскликнул Джон Мейнард. – Но у меня постановление уголовного суда города Лондона и приказ лорда-мэра привести его в исполнение в нынешний день.
– Ну, так вы же привели его в исполнение, – сокрушённо молвил Ронан. – Чего же вам ещё надо?
– Весьма вероятно, – согласился шериф. – Однако никаких бесспорных признаков смерти преступника не наблюдается. Иногда они болтаются в воздухе чуть ли не полчаса, дрыгают ногами, будто лягушки, и извиваются как змеи, прежде чем отдать богу душу. Бывает, что и петля не совсем туга, а бывает, что шея у преступника какая-то особенная и воздух все равно каким-то образом просачивается в его лёгкие. А этот старик висел всего-то ничего. Может, он ещё живее нас с вами. Надобно проверить, и ежели это так, то мне придётся повесить его заново.
– Как! Он может быть ещё жив? – вскричал Ронан и с надеждой склонился над старым монахом. – Ему надо помочь и скорее привести в чувство… О, Господи! Я чувствую, как бьётся его слабый пульс…
Оказать дальнейшую помощь своему старому наставнику Ронан не смог, потому как почувствовал, что его тело быстро обхватывает и стягивает крепкая верёвка, чему он уже был не в силах никак воспрепятствовать.
Если читатель не забыл, среди публики, почтившей своим вниманием казнь старого монаха, находился и Фергал, намеревавшийся получить несравненное удовольствие от созерцания смерти так нелюбимого им всезнайки, отца Лазариуса. Разумеется, когда на площади так внезапно появился всадник на вороной лошади, Фергал тотчас узнал в нём Ронана Лангдэйла, о чём он и шепнул незаметно шерифу Мейнарду, в то время как юноша склонился над Лазариусом. Шериф тут же кивком головы и выразительным взглядом дал понять своим стражникам, что им следует делать.
– Эгей, кажется, я узнал вас юноша, – довольно произнёс Джон Мейнард, сознавая, что теперь беглецу никуда не деться. – Вы сильно смахиваете на некоего Ронана Лагдэйла, который давеча сбежал из Ньюгейтской тюрьмы, аккурат в день, когда его должны были повесить.
– И вы не ошиблись, сэр, – ответил юноша. – Я имел честь видеть вас в зале суда, где меня подло оболгали и неправедно осудили.
– Ну, праведно или неправедно – то пусть судейские решают, – возразил шериф, – а моё дело их решения исполнять. Если я не ошибаюсь, этот старик помог вам бежать, за что и поплатился. А вы, верно, вознамерились с одним мечом его освободить, хе-хе. Ну, что ж, на живца и зверь бежит. Сейчас придётся ещё раз повесить этого старого человека, раз он покуда ещё жив. Ну, а что с вами делать – пусть решают в Олд-Бейли.
– Я бы не стал спешить на вашем месте, сэр, – ответил связанный юноша. – Если вы хорошенько поищите в моей куртке, то найдёте в кармане документ, из которого явствует, что вы не вправе удерживать ни меня, ни этого старого человека, которого вы чуть не умертвили.
Удивлённый таким наглым заявлением шериф кивнул одному из помощников, и тот, покопавшись в карманах моряцкой одёжки Ронана, не без труда – ибо юноша весьма надёжно его упрятал, дабы не потерять во время скачки, – обнаружил свёрнутый лист бумаги и протянул его шерифу. Тот внимательно прочитал документ, повертел со всех сторон, и лицо его приняло озадаченный вид.
– Спору нет, сэр, – после краткого раздумья сказал шериф Мейнард. – Наш милостивый государь простил ваше злодеяние, хотя ума не приложу, чем вы заслужили такую благосклонность его величества. Тем не менее, в этом документе речь идёт только о вас, и ни слова о старике. А раз так, то приговор суда остаётся в силе и преступника следует повесить. Поверьте мне, сэр, я не имею ничего против этого несчастного старика, мне даже понравилось, как он ловко провёл остолопа тюремщика, но я должен выполнять решение лондонского суда. Мне понятны ваши чувства, сэр, но ради вашего же блага дабы ваша неистовая горячность юности вновь не воспрепятствовала казни, я вынужден подержать вас в связанном состоянии до тех пор, пока преступник не умрёт на виселице.
– Но вы не можете казнить отца Лазариуса, ибо сия казнь противоречит воле короля Эдварда! – возразил юноша, с огромным трудом пытаясь сохранять хладнокровие. – Его величество помиловал мою жизнь, потому что счёл меня невиновным. И если бы не этот старый монах, меня бы повесили, а воля английского короля была бы нарушена. Рассудите же сами, шериф, вправе ли вы казнить человека за то, что он пусть и неосознанно, но выполнял волю его величества, которая в случае помилования преступников является законом. Вы поставлены блюсти закон, а не действовать вопреки ему. Или, быть может, я ошибаюсь?
Слова юноши снова немало озадачили шерифа Мейнарда. Некоторое время он молчал и пребывал в нерешительности – до тех пор, пока среди собравшихся кругом людей не послышались крики в поддержку смелого юноши. А поскольку возбуждать недовольство в жителях в планы шерифа не входило, то он, не смея более на свой страх и риск предпринимать решительных действий и брать ответственность, приказал развязать Ронана Лангдэйла, а старика уложить на повозку и вернуться с ним в Олд-Бейли, предоставив судейским самим решать, что есть правильно.
Жители лондонских улиц, по которым пролегал путь от Ньюгейтских ворот до Тайберна, могли наблюдать в тот день весьма необычную процессию, двигавшуюся в обратном направлении. Та же повозка, те же конные стражники, шериф и священник, пару часов назад сопровождавшие преступника на казнь. Но странное дело, невостребованный гроб был перевёрнут набок и сдвинут к краю повозки, в то время как с другой стороны возлежал сам преступник, бывший, по-видимому, ещё жив, судя по открытому солнцу лицу и по тому, как любовно было теперь устроено его ложе. Рядом с краем повозки шёл стройный юноша в моряцкой одежде и с мечом на поясе. Он не отрывал взгляда от старого преступника и то и дело поправлял его изголовье и что-то тихо говорил ему. Сзади на привязи шла красивая вороная лошадь.
Когда эта процессия прибыла в Олд-Бейли, Ронан нежно перенёс старого монаха во внутренний зал, а шериф Мейнард отправился докладывать лорду-мэру о неожиданном происшествии на виселице в Тайберне. Поскольку с точки зрения закона случай был весьма неординарный, послали разыскать судебного секретаря, считавшегося главным и учёнейшим правоведом в корпорации города Лондона. Когда тот явился, ознакомился со всей историей, внимательно прочитал подписанное прошение о помиловании и выслушал доводы Ронана, то на несколько томительных минут погрузился в раздумья. Затем он встал и с церемонностью, по его мнению, подобающей случаю, торжественно произнёс:
– Прошу простить длинную паузу, кою я был вынужден сделать, но к данному вопросу требуется подходить animo deliberato129. На ходатайстве о помиловании стоит дата почти трёхнедельной давности. Я не спрашиваю ob industriam130, когда его величество изволил подписать сей документ, ибо это не суть важно. Значение имеет именно дата, стоящая на помиловании, то есть Aprilis XVIII. Ибо именно с этого числа следует считать Ронана Лангдэйла освобождённым от наказания, что подтверждается королевской подписью и печатью, и actio contra eius libertatem131, умышленное или неумышленное, – illicitum est132. In contrario133, действия, совершённые после указанной даты и направленные на возможность осуществления Ронаном Лангдэйлом своего права на свободу – согласно волеизъявлению его величества Эдварда Шестого – ни в коей мере не могут считаться casus delicti134, а следовательно, за совершение таких действий poenam nеmo patitur135.
– Значит, отец Лазариус свободен? – радостным голосом спросил Ронан.
– Несомненно, – подтвердил судебный секретарь. – Признаться, я рад, что дело закончилось таким образом. Я хорошо помню, молодой человек, с какой пылкостью вы отстаивали свою невиновность на суде. Но, увы, ваше упрямое нежелание посвящать суд во все подробности ваших взаимоотношений с убитым, а также неизвестность вашего рода в сравнении с именем графом Шрусбери перевесили тогда чашу весов в руках Фемиды в пользу обвинительного вердикта. Но на ваше счастье, наш всемилостивейший государь внял голосу разума. Я вас поздравляю от чистого сердца.
Юноша в учтивых выражениях выразил свою благодарность судебному секретарю и поспешил удалиться, сославшись на необходимость помощи и ухода за старцем. Присутствовавший при разговоре шериф Вильям Джерард помог Ронану нанять крытые носилки с двумя дюжими молодцами, куда и посадили начавшего приходить в себя старика. Юноша взял путь в Саутворк, носильщики следовали за ним… На подходе к Мосту они неожиданно столкнулись с Дженкином и Эндри, которые на лодке из Редклифа добрались до пристани у Лондонского моста и теперь направлялись в Олд-Бейли, чтобы осведомиться о судьбе отца Лазариуса. Трудно описать радость обоих, а особенно ликование Эндри, с которой ординарец и паж узнали о чудесном спасении старого монаха.
Глава LXXI
Помолвка
С утра в доме негоцианта в Саутворке царила суматоха, связанная с подготовкой к отъезду Мастера Габриеля Уилаби, который намеревался этим вечером отправиться в Редклиф и занять своё место на галеоне «Бона Эсперанца», где его именитый и воинственный кузен давно уже обосновался, чувствовал себя как царь и бог и готовился на следующий день отдать приказ поднять якоря. Однако до отбытия хозяина дома должно было случиться ещё одно важное событие, а именно - помолвка его дочери с Мастером Бернардом, с которым почтенный негоциант связывал все свои надежды на дальнейшее процветание торгового дома.
Дочка же купца, вместо тщательных приготовлений к столь торжественному событию в окружении горничных и подруг, всё утро играла на вёрджинел своему единственному слушателю в лице старины Гриффина; причём из-под её пальчиков выходили совершенно разные мотивы: то звучали весёлые плясовые мелодии, под которые так и хотелось пуститься танцевать джигу – что дворецкий непременно проделал бы, будь он на треть века помоложе, – то вдруг они сменялись грустными балладами, от которых, наоборот, сердце обливалось кровью и на глаза навёртывались слёзы.
Накануне утром молочница принесла новости про ночное происшествие на Мосту, где ловили укрывшегося там беглого преступника. Чем дело закончилось, торговка не знала, а потому вести эти чрезвычайно встревожили и напугали Алису. Однако через пару часов явился вездесущий Эндри и шепнул девушке, что его хозяин благодаря одному из Уилаби избежал опасности и отправился под крылышко другого представителя этой фамилии и что, вероятно, мастер Ронан теперь не скоро ступит на твёрдую почву. Из этой туманной речи девушка уразумела лишь то, что Ронан спасся от погони, находится на корабле и завтра уплывёт вместе с командором и её родителем.
При мысли, что юноша избежал смертельной опасности, Алисе хотелось бы петь и веселиться от радости, если бы не терзавшие ей сердце грусть и тоска оттого, что ей не суждено увидать его перед отплытием, а возможно, и никогда более в своей жизни. И уж просто отчаяние охватывало бедную девушку в ожидании ненавистной помолвки, которой, повинуясь воле отца, она не могла открыто противиться, ибо, как и все девицы из знатных или богатых семейств того времени, она была воспитана в почтении к родительской воле и беспрекословному ей подчинении. Единственным слабым утешением ей являлось то, что от помолвки до заключения настоящего брака было ещё далеко…
В кабинете купца в эти минуты стоял раскрытый сундук, который в те далёкие времена для богатых путешественников служил тем же, что и чемодан в наши дни. Сам Габриель Уилаби восседал здесь же и, как человек деловой и практичный, следил за тем, чтобы ни одна из необходимых в пути вещей не осталась забытой. В сборах ему помогала опытная Эффи, которая в былые времена, когда жива была ещё мать Алисы, мистрис Изабелла, по её просьбе заботливо следила, чтобы уезжавший в долгие поездки по торговым делам купец не испытывал недостатка в дороге – ни в запасной одежде, ни в прочих важных для путешествующего мелочах.
– Ума не приложу, и как же запихать все эти кафтаны и шапки, чулки и башмаки, а ещё книги и чернильницу в такой небольшой сундучок, – ворчала Эффи. – Раньше-то, помнится, он с собой баул повместительнее брал, хотя и путь держал не так далече, как ныне.
– Что ты всё утро фурчишь и сетуешь, неразумная женщина? Как ты не понимаешь, ведь чем меньше дорожные сундуки у купцов, тем больше товаров на корабль вместится, – растолковывал Габриель Уилаби. – И будь любезна, голубушка поторапливайся. Разве ты запамятовала, что тебе предстоит ещё Алису приодеть, у которой нынче в церкви святого Олафа помолвка с Мастером Бернардом?
– Да уж, ничего лучше, хозяин, вы и не придумали, как в день отъезда помолвку своей дочери устраивать, – сердито молвила Эффи, которая, казалось только и ждала случая завести разговор про свою юную госпожу. – Где ж то видано, чтобы так впопыхах судьбу девицы решать-то! А быть может, ей опосля всю жизнь маяться придётся. Ох, неумно вы поступаете, хозяин, неумно.
– Что на тебя нашло нынче, старая женщина, что ты только и делаешь, что брюзжишь и своего хозяина хулишь, будто я тебе стоун порченной шерсти продал? – недовольно произнёс негоциант. – Я своей дочери желаю одного добра. А Мастер Бернард – жених самый что ни на есть подходящий для моего торгового дела. Ну и что из того, что у него ни титулов, ни имений, ни богатства? У меня, между прочим, тоже ничего не было – всё старшему брату досталось. Зато у моего будущего зятя есть главное – голова на плечах. Он и моё состояние приумножит, и Алиса среди богатейших лондонских дам будет, которой даже графини завидовать станут – и за красоту её и богатство. Нет, голубушка, по мне, так не родословная возвеличивает человека, а умение пробивать дорогу в жизни и обогащать себя и своё семейство. А жених моей дочки как раз из таких будет… Да и что это я будто оправдываюсь перед тобой! Не пристало горничной в моём доме в семейные дела хозяев вмешиваться.
Эффи оторвала голову от сундука и, ничуть не смутившись грозного тона своего хозяина, бросилась в атаку:
– Ах, не пристало! Да как же не вмешиваться, коли вы куриной слепоты объелись и совсем ничего не видите! Да-да, была бы мистрис Изабелла жива, она б не допустила, чтоб её дочь вышла замуж за безродного клерка, пусть он и семи пядей во лбу, – к тому же и нелюбимого.
– Мне кажется, Эффи, ты забываешься, – строго произнёс Габриель Уилаби. – Хотя ты и прислуживала Изабелле в те времена, когда я с ней ещё не был знаком, и, насколько мне известно, покинула Шотландию вместе с её семейством, но это не даёт тебе право осуждать мои поступки. Ежели бы не твой почтенный возраст и давняя служба у нас, я знал бы как тебе попотчевать.
– Да, я покинула родину вместе со своими хозяевами, благородными Линдзи. А мистрис Изабелла была самой лучшей из родовитых шотландских девушек, каких я знавала, – с неожиданной пылкостью сказала старая горничная. – А вы намереваетесь смешать её кровушку с кровью негодяя!
– Боже мой, Эффи, я не узнаю тебя! – изумился купец. – Ты всегда была кроткой и спокойной, не считая разве что обмена любезностями с Гриффином, и я ставил тебя в пример прочим нашим слугам за усердность в делах и преданность нашему семейству. А сейчас ты ропщешь на меня и почём зря бранишь моего помощника, словно старый ростовщик с Ломбард-стрит, не получивший обещанных процентов, и, надо сказать, оправдываешь все колкости, которыми Гриффин изволит иногда тебя жаловать. Неужели таковы все престарелые шотландские женщины?
– Вы, хозяин, вправе сколько угодно ругать меня, называть старой каргою и попрекать тем, что я вот уже треть века ем ваш хлеб. А мне все едино, даже коли вам позволит совесть и вы выставите меня на улицу. Я долго держала язык за зубами, потому что жалела бедную девочку. А теперича я скажу вам всю правду прямо в глаза, и будь что будет. Вы, сэр, у себя на груди пригрели гадюку. Да-да! Не знаю уж, сколь он там умён в ваших делах купеческих, этот Бернард хвалёный, а вот в интригах и подлостях он поднаторел как сам сатана.
– Эффи, голубушка, чтобы так поносить моего верного клерка, будущего зятя и продолжателя дела всей моей жизни, у тебя должны быть серьёзные аргументы. Невозможно сбить цену на товар, не подкрепив своё намерение вескими доводами, – чуть мягче молвил купец, видя, как не на шутку распалилась старая служанка, и желая перевести разговор в спокойное русло деловых переговоров.
– Какие ещё доводы, когда я собственными ушами слышала, как ваш «верный клерк» открыто признался, что имеет дело к оговору вашего гостя, Мастера Лангдэйла, – сердито молвила Эффи. – Вы вот все думаете, что я старая и глухая шавка. Ну, может, оно и так. Только почему-то порой, когда любопытство взыграет, я слышу и вижу как настоящая гончая. Вот вспомните-ка беседу между Бернардом и вашей дочкой, которую она, бедное дитя, просила вас подслушать.
– Ах, ты об этой девичьей причуде! – с неким облегчением молвил негоциант, будучи не в силах допустить крушения своих планов касательно женитьбы дочери. – Право слово, не знаю, что ей тогда взбрело на ум, только я имел возможность ещё раз убедиться в силе и искренности чувств Мастера Бернарда.
– Эх, хозяин, вы один из проворных и ловких лондонских купцов, а за тремя деревьями леса не различите, – посетовала старая горничная. – Неужто вы принимаете мистрис Алису за такую глупышку, чтоб заставлять вас ещё раз выслушивать фальшивые речи этого поганца? Плохо же вы думаете о её сообразительности, хозяин. Нет, ей, верно, хотелось, дабы вы услыхали собственными ушами его гнусное предложение и уразумели низменность того, кого прочите в мужья своей единственной дочке.
– Мне кажется, ты ошибаешься, Эффи, – невозмутимо возразил купец, – ибо мне запомнились лишь речи Мастера Бернарда, полные пламенной страсти, что ещё раз подтверждает его чистосердечность.
– Пламенные страсти! Боже ты мой! Да они больше на адский огонь смахивают, – Эффи, тихая и молчаливая Эффи, в этот день была в ударе. – Должно быть, этот негодяй что-то заподозрил али пронюхал каким образом, вот и увиливал как змея в траве от копыт лошади, чтоб не обмолвиться, – как мистрис Алиса ни пыталась снова вытянуть из него те низменные слова, что слыхала от него ранее, когда он вполз, равно аспид, в комнату моей госпожи и предложил ей унизительную сделку. Представьте только! Негодяй заявил, будто стоит ему пойти в Олд-Бейли и дать некие показания, как Мастера Лангдэйла тотчас отпустят. А взамен этот проходимец потребовал, чтобы мистрис Алиса согласилась на скорую с ним помолвку. Ну, разве не позор это для вашего дома?
– Я бы поверил тебе или, по крайней мере, допустил бы такую вероятность, – промолвил купец, хмуря брови, – если бы Алиса сама пришла ко мне и поведала об этом недостойном предложении. А она не такая девушка, чтобы скрывать от отца могущие опорочить его обстоятельства.
– Да она бы и пришла, коли бы гадкий Бернард не пригрозил ей рассказать вам о том, что даже слепой не мог не заметить, – кроме любящего отца, – и на что из уважения к вам и мистрис Алисе не решаются вам даже намекать, – тоном, полным укоризны, ответила старая служанка.
– Не возьму в толк, о чём ты говоришь, Эффи. Неужели под этой крышей возможны какие-то тайны, о которых мне неизвестно? – вполне искренне удивился негоциант. – Весьма странно, потому как я полагал, что у меня в доме всё так же ясно и понятно, как в книгах, которые ведёт для меня Мастер Бернард.
– Ладно, видать, придётся говорить с ним начистоту. Да простит меня бедная девочка, но делаю это только ради неё, – пробормотала себе под нос Эффи. – Так послушайте же, Габриель Уилаби, что я вам скажу: этот негодяй осмелился пригрозить вашей дочери, в случае её несогласия на немедленную помолвку донести вам, что… – о, Боже, что я говорю! – что мистрис Алиса якобы неравнодушна к молодому шотландцу.
– Что! Какому ещё такому шотландцу? – вопросил негоциант грозным голосом. – Строптивая девчонка совсем рехнулась, если позволяет себе подобные сумасбродства!
– Вот-вот, она и боялась, бедняжка, что вы дюже осерчаете на неё, – сказала Эффи, – а потому и хотела сделать так, чтобы до вас эти слухи не дошли, но при этом показать вам истинное обличье этого аспида.
– Не увиливай, Эффи! Немедля говори, что это за молодой шотландец, и как далеко у них всё зашло, – потребовал грозный отец. – Не хватало ещё, чтобы она себя обесчестила и моё доброе имя опорочила. Что обо мне в гильдии подумают?
– Ну, за это вы зря опасаетесь, – продолжала старая служанка. – Чище и благоразумней девушки, чем ваша дочка, во всём Саутворке не сыскать. Да и что в том странного, что у мистрис Алисы зародилась симпатия к Мастеру Лангдэйлу, коли они под одним кровом столько месяцев пребывали? А юноша он благородный и храбрый, что и говорить, не чета вашему клерку.
Изумлению купца не было предела. Известие это для него стало громом среди ясного неба. На несколько мгновений он даже потерял дар речи, чем не преминула воспользоваться Эффи.
– А теперь покумекайте своей умной головушкой, купец Уилаби, как так вышло-то, что благородный юноша оказался безвинно оклеветанным и очутился в тюрьме, а ревнивцу клерку стоит сказать лишь несколько слов, чтоб его оправдать.
– Эка, по-твоему, получается, что Бернард намеренно подстроил отравление графского сына, чтобы вина пала на моего гостя? – предположил Габриель Уилаби, не веря сам себе. – С одной стороны, мы с сэром Хью были уверены в неспособности молодого человека на подобное злодеяние и в том, что он был оклевётан. Остаётся только благодарить Бога, что Ронан Лангдэйл избежал незаслуженного наказания. Но с другого боку, представить только, чтобы Мастер Бернард был замешан в сей грязной истории с душегубством! Побойся Бога, Эффи, да он мухи-то не обидит! Нет, не могу я принять эту твою историю за чистую монету. Быть может, стоит расспросить самого Мастера Бернарда?
– Так он вам всё и расскажет, – скептически заметила Эффи. – Да он яко Иуда от всех своих слов отречётся. Вдобавок, этот проходимец сейчас у себя дома и объявится лишь в церкви. Куда больше пользы будет, ежели вы с мистрис Алисой потолкуете – по душам, как любящий отец.
– С Алисой? Ну, уж нет! – сердитым голосом возразил купец. – Как я погляжу, ты, голубушка, ей чересчур потакаешь. А поэтому, если вы с ней сговорились, то это будет нечестная сделка. Вот после помолвки, когда блажь в её головушке развеется, я с ней и переговорю как любящий отец. А теперь будь добра, закрой сундук и ступай готовить мою дочь к церемонии.
Эффи с такой силой хлопнула крышкой сундука, что готовивший обед повар в кухне, находившейся в другом конце дома, подумал, что разразилась гроза, и велел своему поварёнку сбегать и собрать разложенные на траве для сушки скатерти. Откуда было знать почтенному мастеру жаровни и половника, что то был не раскат грома, а воплотившиеся в ужасный хлопок гнев, досада и возмущение старой шотландской женщины…
В церкви святого Олафа Мастер Бернард уже давно нетерпеливо поджидал свою невесту. Он был один, ибо близких друзей он не завёл, а брать в свидетели кого попало не хотел. Лицо его сияло кривоватой улыбкой и в то же время пальцы нервно теребили край тёмно-синего бархатного камзола. Как и всякий самолюбивый человек он не мог не испытывать несравненного удовольствия от повышения своего статуса в обществе: ведь превращение из простого клерка в наречённого жениха дочки и единственной наследницы одного из богатейших лондонских купцов открывало ему путь к богатству и процветанию. Купец был уже не молод годами, и скоро всё его богатство перейдёт к нему, Бернарду. Одна лишь мысль отравляла торжество клерка: этот шотландец, в которого Алиса, очевидно, была безрассудно влюблена, умудрился выскользнуть чуть ли не из самой петли и станет теперь предметом мечтаний глупой девчонки. Однако, как рассуждал Мастер Бернард, будучи объявлен вне закона, беглый висельник вряд ли осмелится теперь приблизиться к их дому в Саутворке – если вообще не будет пойман или не бежит из страны, и, скорее всего, забудет раз и навсегда о существовании Алисы, которой, в свою очередь, не останется ничего другого как смириться с судьбой и забыть своё глупое детское увлечение. Таковы вкратце были мысли Мастера Бернарда перед помолвкой.
Хотя в те далёкие времена эта церемония ещё не позволяла мужчине стать полновластным хозяином своей наречённой, но и не давала возможности обеим сторонам без позора и скандала отказаться от своих намерений. Помолвка была своего рода обязательством со стороны мужчины и женщины вступить в брак, и нарушение её равнозначно было разводу с вытекающими отсюда юридическими (и финансовыми) последствиями, не говоря уже о подмоченной репутации таких людей и их семейств. Именно поэтому Мастер Бернард имел все основания считать себя после совершения помолвки признанным будущим зятем Габриеля Уилаби и наследником его огромного капитала.
Почтенный негоциант пожелал оформить помолвку и подписать все соответствующие бумаги в приходской церкви, чтобы придать тем самым пущей торжественности всей церемонии и ещё раз подчеркнуть своё благочестие. К тому же викарий сего прихода, который немало пользовался щедротами негоцианта, был в дружеских отношениях с купцом Уилаби и был избран им в качестве душеприказчика на случай непредвиденной своей смерти.
С некоторым запозданием в церкви появилась будущая невеста в сопровождении отца, трёх его знакомых купцов по гильдии и стряпчего. Девушка была облачена в роскошное платье из белого атласа, украшенное изящными итальянскими кружевами, волосы её были убраны драгоценными каменьями, а на шее красовалось чудное ожерелье из оправленных золотом жемчужин. Габриель Уилаби светился радостью и не скрывал своего тщеславного удовольствия от созерцания богатого одеяния дочери. В отличие от отца лицо Алисы выражало равнодушие и полное безучастие. Впрочем, если бы не царивший в церкви полумрак, на нём можно было бы заметить следы недавних слёз и страстных переживаний. Но теперь в её истощённой просьбами и горячими мольбами душе не осталось ничего, кроме опустошённости и горькой обиды на своего родителя, так жестоко распорядившегося её судьбой.
Церемония в церкви не была пышной и долгой, поскольку помолвка это ещё не вступление в брак и не требовала долгого чтения псалмов, восхвалений Господа и соблюдения прочих ритуалов англиканской церкви того времени. Вместо этого пастырь позволил себе дать несколько наставлений молодым. Поскольку почтенным негоциант ранее вскользь упоминал викарию (хоть и с лёгким пренебрежением как о чём-то маловажном) о некоторой неприязни своей дочери к жениху, то священник просил всевышнего вселить радость и веселье в скорбную душу мистрис Алисы в награду за покорность достойнейшему отцу, ибо почтив отца своего, она исполнила заповедь Господа нашего, и потому да пребудет в счастье и радости отныне и во веки веков. Потом он просил Господа даровать жениху ещё большего усердия и сметливости в торговых делах для счастья и благоденствия будущей семьи. А в заключение добрый пастырь просил небо ниспослать божественную благодать на почтенного Мастера Габриеля Уилаби и охранить его от всяческих бед и несчастий в будущем путешествии.
После этого собравшиеся в божьем храме приступили к самому главному, для чего они здесь и встретились. Стряпчий развернул заранее подготовленный вместе с негоциантом брачный договор. Первым подписал его Габриель Уилаби – неспешно и с надлежащей торжественностью. Затем Мастер Бернард тщательно вывел своё имя красивыми буквами на трёх листах договора. Когда настала очередь Алисы, то она долго не решалась брать в руки перо, будто это было и не перо вовсе, а раскалённый докрасна прут железа.
Когда с брачным контрактом были покончено, Габриель Уилаби на некоторое время уединился с приходским священником, чтобы высказать просьбу (подкрепив её увесистым кошельком) присматривать за его дочерью, пока отца не будет дома. Разумеется, викарий, избалованный щедротами богатого купца, пообещал глаз не спускать с девицы, дабы она не свернула с пути истинного и не угодила в тенета дьявола. Зная своенравный и самостоятельный, хотя в то же время и благочестивый характер своей дочери, почтенный негоциант разумно рассудил, что пастырь легче найдёт путь к душе девушки, нежели её жених, к которому она, судя по её поведению и словам старой Эффи, пока ещё не питала должного почтения. Затем в комнату священника пригласила стряпчего. Габриель Уилаби, будучи человеком деловитым и предусмотрительным, попросил почтенного законника достать заранее заготовленное ими завещание. Он ознакомил с его содержанием досточтимого пастыря, ибо лучшего свидетеля и распорядителя своей воли купцу было и не найти. Если коротко, то в сей бумаге говорилось, что в случае получения известия о его смерти, его дочь обязана была в трёхмесячный период выйти замуж за Мастера Бернарда, который при этом становится также и единоличным владельцем торгового дома; были здесь и прочие незначительные приписки, касающиеся домашней челяди, различных незакрытых обязательств и прочего некоммерческого имущества; о других родственниках в завещание ничего не упоминалось. Когда все документы были подписаны и скреплены печатями, Габриель Уилаби напомнил викарию о предстоящем торжественном ужине и вместе с дочерью, Мастером Бернардом и своими друзьями покинул божий храм…
Во время ожидания в церкви клерк пытался заговорить с невестой, но Алиса хранила молчание, словно мраморная статуя. Лишь очутившись на дневном свете, Бернард обернулся и заметил, как бледна шедшая позади девушка и как подрагивают её губы. Но в следующий миг ему было уже не до неё, ибо он сам стал мертвенно бледен, будто увидал призрака. Да и как иначе, если прямо перед ними в нескольких шагах стоял Ронан Лангдэйл, в странной неуклюжей одежде... но при мече!
Вид молодого шотландца ничуть не напоминал скрывающегося от преследования преступника – наоборот, он стоял прямо, с высокоподнятой головой и смело глядел на выходивших из церкви, одна нога его была выставлена чуть вперёд, рука лежала на рукояти меча, а в глазах, вызывающе устремлённых на новоиспечённого жениха, пылало яростное пламя.
Ронан был бледен под стать своему визави, что вполне объяснялось тем ужасным, обрушившимся на него ударом, когда в дверях дома Гриффин сообщил ему, что его хозяин соизволил устроить в этот самый час помолвку мистрис Алисы и Мастера Бернарда. Юноша попросил Эндри и Дженкина позаботиться об отце Лазариусе, а сам направился к церкви святого Олафа, у дверей которой он нашёл своего тайного и неудачливого доброжелателя в лице старой Эффи. Эта женщина, как мы видели, питала к своему юному соотечественнику огромную симпатию и полагала, что он составил бы прекрасную пару её госпоже; однако как ни старалась старая служанка поколебать волю хозяина дома, она оказалась бессильна против непреклонной и слепой решимости купца выдать дочь за своего преемника в торговых делах. Держа платок у глаз, Эффи сообщила юноше, что они все вот-вот выйдут из церкви и что она не представляет, как бедная девочка могла вынести это мучение.
Тысячи разных чувств обуревали Ронана. Он сердился на Алису за то, что она не проявила, по его мнению, должного упорства и покорно подчинилась воле отца; он с презрением думал о Габриеле Уилаби, который намеренно жертвовал счастьем дочери ради корыстных, торгашеских целей; и Ронан просто пылал жаждой мести и ненавистью к хитрому клерку – чувствами, ранее редко посещавшими простосердечного юношу, а сейчас к тому же подкреплёнными жгучей ревностью…
Взгляды юного шотландца и лондонского клерка встретились, и один увидел в глазах противника угодливость и затаённый страх, другой же – злость и лютую ненависть. Первым приветствовал Ронана негоциант:
– Вы, отважный молодой человек, верно, пришли поздравить нас с торжеством, – с некоторой опаской негромко сказал Габриель Уилаби, как и все считавший Ронана беглым преступником. – Хотя, право, это весьма неосторожно с вашей стороны.
– Да это чистое безумие являться сюда, Мастер Лангдэйл! – нарочито громко вторил своему хозяину Бернард, никогда дотоле не разговаривавший с Ронаном. – Разумеется, мы все очень благодарны за ваше доброе к нам отношение. Но как вы не опасаетесь ходить по улицам средь бела дня, когда вас разыскивают по всему Лондону! Вот и давеча к нам в дом приходили городские стражники с предписанием шерифа о вашем задержании. Вы поступаете чересчур неосмотрительно. Вас же могут схватить в любую минуту и снова бросить в тюрьму! Я и моя невеста, мы, право слово, весьма за вас беспокоимся и не хотим, чтобы вас повесили. Как вы беспечны, Мастер Лангдэйл!
Громкая и длинная речь Мастера Бернард привлекла к себе внимание не только спутников негоцианта – его сотоварищей по гильдии и стряпчего, но и многочисленных прохожих на улице, которые начали останавливаться и образовывать толпу любопытных, чего, по всей видимости, и добивался хитрый клерк. Почтенный негоциант недовольно посмотрел на своего помощника, недоумевая, с какой стати тот так громко рассыпается не столько в благодарностях, сколько – в предостережениях Ронану Лангдэйлу, привлекая лишнее внимание и рискуя тем самым репутацией его, Габриеля Уилаби, как честного и законопослушного горожанина.
Неожиданно юный шотландец рванулся в направлении Габриеля Уилаби и его клерка. Те, ошеломлённые столь резким движением, испуганно шарахнулись в сторону друг от друга, причём Мастер Бернард при этом неуклюже упал на колени, то ли потому что споткнулся, то ли по какой другой, менее простительной причине. Однако, не обращая ни малейшего внимания на испуганного клерка и его патрона, юноша стрелой пролетел между ними и подхватил Алису в тот самый миг, когда голова её готова была стукнуться о каменную паперть. Никто, кроме Ронана, не обратил внимание, как неуверенно держалась на ногах девушка и как она начала оседать во время злокозненной речи Бернарда. Несколько мгновений влюблённый юноша держал свою драгоценную ношу, пока на помощь ему не пришла Эффи, которая принялась приводить свою госпожу в чувство.
Пока всеобщее внимание было привлечено к состоянию бедной Алисы, Ронан подошёл к Мастеру Бернарду, успевшему уже подняться на ноги и отряхивавшему свои чулки, и предложил ему отойти в сторону – туда, где никто их не услышит и не увидит. Лицо несчастного клерка при этом из бледного превратилось в пепельно-серое. Но Бернард подчинился воле юного шотландца и поплёлся вслед за ним. Ронан обогнул церковь и очутился на старинном приходском кладбище, располагавшемся на самом берегу Темзы. Вид отсюда был великолепен: слева – протянувшийся через реку причудливый Лондонский мост с его домами, башнями, крутыми скатами крыш и шпилями, справа – Тауэр, величественно и грозно высившийся на противоположном берегу. Но не для любования городскими пейзажами пришёл сюда Ронан.
– Мастер Бернард, – резко сказал он, обернувшись к следовавшему позади клерку, – вы – самый настоящий негодяй и подлец!
– Ну что вы, благородный сэр! – не согласился с подобными почестями клерк. – Я всего лишь скромный служащий у моего патрона, готовый всей душой служить ему… и его друзьям, конечно. Смею уверить, я всецело занят работой торговом доме и не лезу ни в какие прочие дела.
– К тому же вы ещё и трус! – заявил молодой шотландец.
– Вам легко так говорить, сэр. У вас на боку висит огромный палаш. Вдобавок, Лондон полон слухами о вас, и ваша сомнительная репутация всем известна. А я здесь один, в вашей власти, безоружный и недоумевающий, чем я мог заслужить подобное поношение со стороны человека, которого я всегда уважал как друга моего патрона и моей невесты.
– Проклятый лицемер! Вам лучше моего известно, в чём ваша вина перед несчастной мистрис Алисой и передо мной!
– Клянусь вам, сэр! Я чист перед вами лично и, конечно, перед моей дорогой невестой, которую я ни за что на свете не посмел бы обидеть и которая, само собой разумеется, испытывает ко мне такие же нежные чувства, что и я к ней, поскольку наша помолвка свершилась по взаимному согласию.
– Лжец и обманщик! Не смейте пачкать вашими грязными устами её чистое имя! – кипел от ярости и негодования Ронан. – Выбирайте время сегодня до полуночи, место и оружие, и ищите себе секундантов!
У Мастера Бернарда несколько отлегло от сердца: значит, неистовый шотландец не собирается убивать его сейчас же и на этом самом месте, и, следовательно, можно ещё как-то выкрутиться.
– Благородный сэр, – начал клерк, – в отличие от вас, джентльмена, я не обучался владению оружием. Должен признаться, с пером и абакой я управляюсь куда лучше, чем с мечом и дубинкой, не говоря уже о прочем оружии. А потому я считаю, что это была бы несправедливая схватка.
– Ах, несправедливая, чёрт возьми! Ну, хорошо. Мы будем драться без оружия, голыми руками, до того момента, пока один из нас не испустит дух, – кровожадно предложил Ронан. – Где и во сколько?
Мастер Бернард на миг задумался, потом сказал, растягивая слова:
– Право, сэр, мне кажется, сегодня я никак не смогу улучить свободную минутку и доставить вам удовольствие убить меня. Посудите сами, ну какой же я буду жених, если в день помолвки брошу мою невесту на праздничном ужине, а сам отправлюсь выяснять с вами отношения? Быть может, ради этой милой девушки мы перенесём нашу встречу на завтра, скажем, в восемь часов вечера, на этом самом месте?
Рассуждения клерка были просты: уважение чувств мистрис Алисе должно было в глазах ретивого шотландца казаться веским доводом в пользу назначения схватки на другой день, а этого времени ему будет вполне достаточно, чтобы предупредить городские власти, где и когда можно будет схватить беглого преступника (откуда же ему было знать, бедолаге, что Ронан получил королевское помилование?) А место позади церкви было самое подходящее, чтобы окружить и схватить преступника.
– На кладбище, возле церкви? – удивился Ронан.
– Вечером здесь тихо и безлюдно, – сказал Мастер Бернард и добавил с нарочитым вздохом: – И ничто не помешает вам убить бедного и скромного горожанина.
– Да, но ведь завтра утром я отправляюсь в далёкое плавание, – вдруг спохватился Ронан, с огромной досадой осознавая, что ему придётся выбирать между плаванием и дуэлью; после некоторого раздумья он сказал: – Я никак не смогу быть тут вечером, если не предам своих друзей и не откажусь от этого предприятия.
– Ах, право, какая досада, – посетовал Мастер Бернард, радуясь в душе ещё больше такому повороту, который лишал его опасного соперника на долгое время, если не навсегда. – Впрочем, если желаете, я готов заключить с вами соглашение. Хотя мне и невдомёк, в чём моя вина перед вами, но чтобы компенсировать упущенное удовольствие, которое вы потеряли из-за невозможности убить меня, я готов уплатить вам наличными любую разумную сумму, какую вы назовёте. А после этого мы раз и навсегда забудем это небольшое недоразумение.
Оградив себя от дуэли с ретивым юношей всевозможными средствами, начиная ото лжи, коварного и предательского плана и заканчивая предложением щедрого откупа, Мастер Бернард почувствовал величайшее удовлетворение, какое чувствует хитрый купец, втридорога сбывший привезённый с собой товар и за полцены купивший новый.
– Вы что же, жалкий червяк, хотите деньгами искупить свои грехи! – вскричал с презрением Ронан. – Неужели этому вы научились у вашего патрона? Кто бы мог подумать! Так вот, я не монах, за золото направо и налево раздающий индульгенции, и не продажный государственный муж, торгующий своей честью и за выгоду прощающий обиды.
– Очень жаль, сэр, что вы отказываетесь от моего щедрого предложения, – с сожалением произнёс Мастер Бернард. – Но чем же ещё я могу умиротворить вашу мечущуюся душу, добрый сэр?
– Только поединком между нами, – с твёрдостью сказал Ронан, – когда… когда я вернусь из плавания, если вы не пожелаете до того момента сами по собственной инициативе расторгнуть помолвку с мистрис Алисой Уилаби.
«Ну, что ж, могло быть и хуже», – подумал про себя клерк, учтиво поклонился и направился в обратную сторону, радуясь в душе, что ловко обставил этого простака и избежал верной гибели (ведь этому дикому шотландцу ничего не стоило прикончить его на месте и бросить тело в реку!) Бернарду хотелось побежать, чтобы скорее убраться восвояси, но он вынужден был сдерживать себя в страхе, что такой поспешностью может выдать шотландцу свои коварные планы и тот догонит его и убьёт.
Ронан же, оставшись наедине среди старинных надгробий, подождал некоторое время, пытаясь заглушить или хотя бы спрятать досаду и неудовлетворённую жажду мести, затем обошёл церковь с другой стороны, сделав, таким образом, полный круг вокруг божьего храма по часовой стрелке (всё же, как и любой шотландец, он был несколько суеверен и в глубине души верил в приметы) и вернулся к паперти.
Глава LXXII
Прощальный вечер
Мистрис Алису к этому времени добрая Эффи при помощи других женщин уже почти привела в чувство. В общей суматохе, связанной с обмороком невесты, никто не заметил отсутствия Мастера Бернарда и Ронана Лангдэйла. Придя в себя и открыв глаза, Алиса первым делом беспокойно поискала взглядом Ронана, желая убедиться, что его не схватили и ему ничего не угрожает. Однако среди нескольких знакомых и ещё большего числа неизвестных лиц вокруг себя бедная девушка не заметила ни Ронана, ни ненавистного своего жениха. Алиса побледнела и снова чуть не лишилась чувств, но в этот момент с одной стороны, расталкивая собравшихся, к ней пробивался тот, кого она так любила, а с другого боку протискивался тот, кого сделали её женихом. Оба были целы и невредимы, и у Алисы полегчало на сердце.
Невесту аккуратно усадили в роскошный крытый портшез с занавесями, в котором она прибыла сюда из дома, хотя церковь святого Олафа и дом негоцианта разделяло не более четырёх сотен ярдов. Высокие и крепкие носильщики степенно понесли портшез с невестой, Ронан и негоциант пошли рядом с носилками, Мастер Бернард – чуть позади. Юноша хотел было заговорить с Алисой и поделиться с ней своей радостью, но как только вспоминал, что она только что была помолвлена с негодяем Бернардом, ему тут же становилось неимоверно горько и слова застывали на его устах. Габриель Уилаби тихо поинтересовался у Ронана, почему он так неблагоразумно появился на людях, и искренне обрадовался, когда юноша уставшим голосом сообщил ему о помиловании и попросил на время приютить в его доме отца Лазариуса. Однако, при дальнейшем непродолжительном разговоре, в ходе которого Ронан сообщил негоцианту в двух словах, что произошло в этот день, в голосе Габриеля Уилаби юноше почудилась какая-то подозрительность и некая сухость.
В доме уже готовили праздничный ужин, который в этот день должен был начаться раньше обычного по причине отъезда хозяина в Редклиф на корабль. В ожидании застолья вся компания разместилась в большом холле. Купцы, знакомые Габриеля Уилаби, стряпчий и викарий из приходской церкви, которые были также приглашены на этот ужин, наслышавшись о злоключениях Ронана, с интересом расспрашивали его о последних событиях. Лишь новоиспечённый жених стоял одиноко у стены и делал вид, что рассматривает висевший на ней холст с изображением своего патрона на фоне плывущих по реке торговых судов.
Тут в холл вошла Эффи и сообщила, что её госпожа ещё не совсем в себе и не может тотчас выйти к гостям, но ей не терпится лично поздравить Мастера Лангдэйла с благополучным окончанием его несчастий. Ронан извинился и с бьющимся сердцем последовал за старой горничной.
Мистрис Алиса, успевшая уже снять украшения и сменить наряд на более простой, встретила своего друга с печальной улыбкой. Сметливая Эффи попросила разрешения удалиться в прилегающую комнату, якобы для того, чтобы поправить смятую постель, на которой девушку лежала некоторое время после возвращения из церкви. Когда молодой шотландец и купеческая дочка остались наедине, в комнате повисла неловкая тишина. Молодые люди стояли друг против друга, потупив взгляд. Достаточно долго никто не решался начать разговор. Первой нарушила молчание Алиса.
– Я очень рада, Мастер Лангдэйл, – сказала она сдержанным, хотя и искренним голосом, – что король подписал прошение о вашем помиловании, а также восхищаюсь вашей отвагой и проворностью, проявленными при спасении вашего старого учителя.
– Благодарю вас, мистрис Алиса, – также натянуто ответил Ронан.
– И что же вы теперь собираетесь делать?
– Мои планы неизменны: завтра я, как давно уже решил, отплываю в Китай, – твёрдо сказал юноша и с горечью в голосе добавил: – И право слово, у меня нет ни малейшего желания возвращаться обратно. Но прежде всего мне приличествует поблагодарить вас от всего сердца за неоценимую помощь в подготовке моего спасения. Если бы не вы, моё тело уже стало бы кормом для червей.
– Нет, что вы, Мастер Лангдэйл, – возразила девушка. – Вы обязаны своим избавлением прежде всего отцу Лазариусу и славному Эндри.
– Ваша скромность похвальна, мистрис Алиса… Но я допустил ошибку и спешу исправиться, ибо в свою очередь мне долженствует принести вам свои поздравления с удачной помолвкой, – с горькой иронией произнёс юноша и церемонно поклонился, пряча промелькнувшую на лице чёрную тучу. – Надеюсь, вы будете счастливы в союзе с этим человеком.
При этих словах девушка, скрывавшая дотоле своё смущение и горе под маской холодной вежливости, вдруг потеряла над собой власть и, не в силах вынести горьких и язвительных слов Ронана, отвернулась от него, подняла руки к лицу и, судя по содрогавшимся плечам, беззвучно зарыдала.
– О, простите, милая Алиса, – растерянно сказал Ронан, – если я оказался настолько глуп и неотёсан, что чем-то обидел вас. Я готов сделать всё на свете, чтобы загладить мою вину. Но объясните, ради бога, чем вы расстроены.
– Глупый и жестокий! – вдруг выкрикнула девушка, поворачивая искажённое горем лицо. – Неужели ты не понимаешь, что к этому мерзкому холую я питаю лишь ненависть и отвращение? Разве твоё сердце столь чёрство, что не подсказывает тебе, как горько и обидно мне выслушивать подобные поздравления из уст человека, которого я… – Алиса на миг замялась, – которому, как я полагала, я была не безразлична?
При этих отчаянных словах пелена обиды и недоверия упала с глаз юноши. Как мог он усомниться в её чувствах! Как будто ими самими возведённая между собой стена вдруг рухнула. Никогда ещё Алиса так открыто не говорила о своих чувствах и о надежде на их взаимность.
– Алиса, дорогая, вероятно, глупая ревность затуманила мой рассудок. Но посуди сама, что мог я подумать, когда, вернувшись в Саутворк, узнал о твоей помолвке с этим негодяем? – Ронан встал на колени, схватил руку девушки и прислонил к своим губам, считая себя ужасно виноватым и недостойным чего-то большего, а также сдерживаемый правилами приличия.
– Так жестокосердно распорядился мой батюшка, – грустно молвила девушка. – Я противилась этому всеми возможными способами, но, похоже, лишь навредила себе и ускорила эту злосчастную помолвку. Надо признаться, что утром у меня было огромное желание убежать из дома и с Моста броситься в Темзу, только бы не достаться этому мерзавцу. Даже страх совершить ужасный грех и вместе с телом погубить и душу не останавливал меня. И лишь мысли об одном человеке, которой тебе знаком лучше всех, уберегли меня от столь отчаянного шага.
– О горе мне! – в отчаянии вскричал Ронан. – Я мог убить этого человека сегодня на церковном кладбище, и никто не узнал бы про это, а мог бы и завтра – в честном поединке, и избавить тебя от его домогательства. Но я… я отказался от всего этого, потому что… – юноша конфузливо замолк, чувствуя себя предателем.
– Я знаю, Ронан, – печально произнесла девушка и положила другую руку ему на голову, ласково теребя вихри тёмных волос. – Ты слишком благороден, чтобы убить безоружного, и тебя тянет в далёкие моря, открывать новые земли. И что для тебя судьба скромной девушки из Саутворка?
– Не говори так, дорогая моя Алиса! – взмолился Ронан. – Был бы у меня ещё хотя бы один единственный день, и у этого негодяя осталось бы два пути: либо умереть в честной схватке, либо отказаться от помолвки. В любом случае ты была бы вновь свободна, а я попытался бы во время путешествия умилостивить твоего строгого батюшку и попросить твоей руки, в чём у меня был бы хороший союзник в лице сэра Хью.
– Но у тебя нет этого дня, – отрешённо произнесла Алиса. – Это я во всё виновата, что так неумело попыталась вывести Бернарда на чистую воду. Ты уплывёшь, а этот мерзкий человек останется здесь, в этом доме. И каждый божий день мне придётся выслушивать его лукавые речи.
Девушка горестно вздохнула. Она и сама не осознавала, зачем говорила эти слова. Но вместе с ними в душу Ронана словно змея закрался искусительный помысел: отказаться от плавания и остаться в Лондоне, заставить подлого Бернарда отречься от помолвки и охранять Алису, покуда не вернётся из путешествия её отец, а потом попросить у Габриеля Уилаби руки его дочери. Не может быть, чтобы командор и Ричард Ченслер тотчас не нашли для плавания другой, более достойной ему замены – в Редклифе по берегу слоняются десятки, а то и сотни наторелых моряков, желающих устроиться на какое-нибудь судно. Ну и что, если ему не придётся открывать новые земли и исследовать далёкие моря? Зато у него будет возможность почти ежедневно видеться с Алисой, слушать её весёлый голосок, любоваться её неотразимой красотой и вместе с ней строить планы на будущее. Он пойдёт к доктору Ди и примет любезное предложение этого великого учёного стать его помощником. А главное, он будет рядом с Алисой, с которой сможет видеться каждый божий день.
Такие мысли или им подобные сладким ядом разливались в сознании молодого человека, подтачивая его прежнюю решимость. Былые планы и мечты оказались в тени пылкой юношеской страсти и уже не казались ему столь притягательными и окрыляющими как ранее. Но кто осмелится осуждать пылкого юношу? Разве что какой-нибудь бесчувственный стоик, который под спудом лет, невзгод и мнимого аскетизма зачерствел в своих эмоциях и не в состоянии понять волнений молодой души?
– Мистрис Алиса, – начал Ронан, безотчётно пытаясь за возвышенностью речи скрыть свою растерянность и нерешительность и переложить ответственность за принятие решения на хрупкие девичьи плечи, – одно только ваше слово и до конца завтрашнего дня вас не будет ничего связывать с ненавистным нам обоим клерком!
Мастер Бернард даже не подозревал, как близок в этот миг он был к бесславной смерти или же позору и унижению. Долгие минуты Алиса молчала, борясь с противоречивыми чувствами.
– Я помню, Ронан как ты мечтал об этом путешествии, – наконец произнесла девушка, и в голосе её звучала печальная нежность. – Ты готовился к нему, учился наукам вместе с капитанами у доктора Ди, грезил морем и новыми землями. Неужели ты думаешь, что у меня хватит духу лишить тебя этой мечты? Нет, я не стану на пути твоих великих планов и не буду препятствовать твоим намерениям. Но я каждый день буду вспоминать о тебе с лаской и нежностью, которыми переполнено моё сердце. Я буду неустанно молить Господа о твоём благополучном возвращении. Я буду терпеливо выносить присутствие в доме ненавистного Бернарда и при каждом случае выказывать ему моё презрение и отвращение.
Не в силах более совладать со своими эмоциями, Ронан поднялся с колен и с трепетом посмотрел на девушку. Алиса пришла в замешательство от его благодарного и одновременно такого пламенного взора и в смущении потупила глаза, но через миг вновь подняла их и ответила юноше таким же страстным взглядом. Они оба не успели опомниться, как нежный поцелуй и пламенные объятия скрепили взаимную немую клятву.
– Ах, что я сделала? – опомнившись, в страхе сказала Алиса. – Я пошла наперекор воле моего батюшки! Если узнают, что я нарушила помолвку с Бернардом, я буду обесчещена, а дом моего отца посрамлён.
– Ты поступила по велению сердца, любимая моя, – ответил Ронан. – Никто не узнает о нашем тайном обете. А когда я вернусь из плавания, я добьюсь, чтобы эта злосчастная помолвка была расторгнута самим же Бернардом… или ему придётся умереть.
Не успел ещё Ронан закончить фразу, как раздался негромкий стук и в дверной просвет протиснулась плутовская мордочка Эндри.
– К кому это ваша милость так добры, что желаете смерти? – беспардонно поинтересовался паренёк.
– Ты что же, негодник, подслушивал! – прикрикнул Ронан в надежде грозным тоном скрыть своё смущение.
– Да он просто несносный мальчишка ваш слуга, Мастер Лангдэйл, – с той же целью сердито сказала Алиса.
– Ей-ей, как можно, сэр и мистрис, – с хитринкой в лице ответил Эндри. – Да говоря по правде, ваша милость, пусть лучше ушки на макушке будут у меня, чем у хозяина этого большущего дома. Между прочим, это он послал меня с просьбой… нет, я бы сказал, с приказом укоротить тут ваши поздравленьица и указанием своей дочке немедля выйти к жениху и гостям. Мастер Габриель Уилаби сказал, что это просто ни в какие ворота не лезет. Мне, правда, невдомёк, что он имел в виду: то ли огромный, заставленный яствами и серебряной посудой стол, то ли свои раздутые от гнева и недовольства щёки.
Ронан переглянулся с девушкой: и в самом деле, они так неприлично долго находились вместе, что это выходило за рамки благопристойности.
– Эффи, – громко позвала девушка, – выйди и приведи меня в порядок. Мне сию же минуту надо идти вниз.
Дверь в спальню мгновенно отворилась, как будто Эффи стояла прямо за ней.
– Иду, госпожа, иду. А то ваш батюшка дюже серчать станет. Ведь и в самом деле, ни в какие ворота не лезет так долго рассыпаться-то в поздравлениях друг дружке.
– Как! Ты разве слышала наш разговор? – удивилась Алиса. – А я всегда полагала, что у тебя слух неважный.
– Все говорят, что неважный, да я и сама так думаю, – согласилась старая горничная. – А слышала или не слышала – какая уж тут разница? И так догадаться нетрудно.
Пока горничная за ширмой прихорашивала свою молодую госпожу, припудривая ей личико и поправляя складки платья, Ронан вдруг громко сказал:
– Эндри, мне пришло на ум, чем тебя занять в моё отсутствие. С позволения мистрис Алисы я хотел бы, чтобы ты продолжал выполнять свои обязанности пажа – но уже при хозяйке этого дома, и был бы также верен и предан ей, как если бы ты служил мне самому. Мне думается, такое поручение будет тебе более по вкусу, нежели дожидаться в Рисли-Холл моего возвращения из плавания.
– Тем паче, что хозяин Рисли подыскал себе нового служку – трусливого Тома, у которого душа в пятки уходит уже при виде небольшой рощицы, – ответил Эндри, не скрывая насмешки.
– Я уверена, что у нас с Эндри будут прекрасные отношения, – в свою очередь сказала из-за перегородки Алиса. – Мы ведь так много пережили вместе. Вы не поверите, Мастер Лангдэйл, но мне он стал как младший брат.
Ронан понял, что находиться здесь дальше уже совсем неприлично и пора бы вернуться в залу к гостям и хозяину, и он с огромным нежеланием покинул покои Алисы. По дороге в гостиную Эндри сообщил своему господину, что они с Дженкином уложили отца Лазариуса на его, мастера Ронана кровать и сделали всё возможное, чтобы выходить святого отца, но, несмотря на всю заботу, старец хрипит и всё ещё не в состоянии говорить, однако смог написать на бумаге, чтобы мастер Ронан не отправлялся в путь, не повидав его.
Войдя в гостиную, посреди которой был накрыт большой стол, за которым все уже заняли свои места, юноша извинился перед хозяином и гостями за долгое отсутствие, сославшись на желание мистрис Алисы узнать все подробности его последних приключений. Однако от Ронана не укрылась тень угрюмого недоверия в глазах Габриеля Уилаби, и юноша просто спиной чувствовал на себе злой и трусливый взгляд Бернарда.
Габриель Уилаби, как и подобает хозяину дома, занимал место во главе стола, будто на троне, восседая на массивном стуле с высокой, обитой мягкой тканью спинкой и резными подлокотниками. По правую руку от него сидел Мастер Бернард, смущённый тем, что место мистрис Алисы рядом с ним до сих пор пустовало. Ронана негоциант распорядился посадить с левой стороны стола, прямо напротив тех мест, где рядом с Мастером Бернардом должна была сидеть дочь негоцианта: вероятно, это было сделано нарочно для того, дабы дать понять Мастеру Лангдэйлу, что воля отца в этом доме законна и нерушима, а также чтобы он, Габриель Уилаби, мог бы понаблюдать за молодым шотландцем и своей дочерью, дабы убедиться или развеяться в своих подозрениях, вызванных у него опрометчивыми словами Эффи.
Едва юноша уселся на своё место, он тут же вперил взгляд в Мастера Бернарда, как будто желал им испепелить своего соперника. Однако клерк умышленно отвернулся и о чём-то говорил своему патрону и будущему тестю.
Вскоре в гостиную вошла мистрис Алиса. Её вид не мог не вызвать восхищения у присутствующих. Все сразу же обратили внимание на её сияющие глаза и кроткую, нежную улыбку, что так разнилось с её холодным и безучастным видом в церкви. Такое её преображение не могло не вызвать большого числа комплиментов и любезностей со стороны изумлённых гостей. Взгляд почтенного негоцианта тоже смягчился, и он глядел на свою дочь с любовью и лаской, полагая, что краткий отдых умиротворил её душу, и девица начинает уже смиряться со свершившейся помолвкой. Наверное, лишь сам жених не разделял всеобщего восхищения. Мастер Бернард смотрел на свою невесту недоумённо и настороженно, бросая взгляд то на неё, то переводя его на шотландца, то снова на мистрис Алису, при этом хмурясь всё сильней и сильней.
Не стоит, наверное, подробно описывать сам ужин, ибо кушанья были превосходны, а вина восхитительны, как и подобает подобному торжеству в доме одного из богатейших лондонских купцов. Серебряные кубки чаще поднимались за пригожесть и обворожительность невесты, раз или два – и то, с подачки отца Алисы, – за деловитые качества и успехи в коммерции её жениха, и пару раз – за удачный исход плавания почтенного Габриеля Уилаби и Мастера Лангдэйла. Ронан и Алиса, чувствуя на себе пристальное внимание её отца, не смели даже обменяться ни единым взглядом; и лишь когда провозглашался тост за невесту и всё взоры обращались на восхитительную девушку, Ронан присоединялся к всеобщему восторгу и мог вовсю полюбоваться её очарованием.
Было ещё достаточно светло, когда в дом зашёл человек в куртке лодочника, и сказал Габриелю Уилаби, что коли тот желает попасть нынче в Редклиф, то сейчас самое время отправляться, покудова не совсем темно и прилив не начался. Почтенный купец распрощался со своими друзьями, расцеловал Алису, с надеждой поглядел на Мастера Бернарда и в сопровождении лодочника, тащившего дорожный сундук, и Дженкина Гудинафа, взявшегося проводить кузена своего хозяина до корабля, покинул свой дом.
Стол ещё украшали бутылки и графины, чаши и блюда полны были еды и закусок, а потому гости не спешили расходиться. Разговор стал более непринуждённым и весёлым, видимо, по причине отъезда хозяина дома и уже поглощённого количества вина. В центре всеобщего внимания снова оказалась мистрис Алиса, как единственная представительница прекрасного пола на этом пиршестве, если не принимать во внимание двух совсем молоденьких прислужниц да старую Эффи, которая то прислуживала своей госпоже, то скромно приседала за дальним краем стола.
Девушка отвечала всем с уважением и должным почтением, как самое молодое и беззащитное существо в этой мужской компании, но в то же время в словах её звучала твёрдость и уверенность хозяйки дома. Алиса сыграла пару пьес на вёрджинел, но мелодии были не совсем весёлыми, как, впрочем, и сама мистрис Алиса, чьё радужное настроение в начале вечера уступило теперь место тому состоянию, которое принято называть светлой грустью. Гости резонно сочли это за усталость и тоску от расставания с отцом. Однако Ронан понимал тайный смысл её настроения совсем иначе.
Чтобы помочь девушке и отвлечь от неё внимание, он завёл разговор о предстоящем плавании и говорил настолько пылко и интересно, что вполне справился со своей задачей, в то время как мистрис Алиса могла немного отдохнуть в сторонке. Своей увлечённостью юноша, казалось, настолько заразил присутствующих, что в гостиной только и говорили теперь что о морских плаваниях и кораблях, новых открытиях и географии, Старом и Новом Свете, волшебной Индии и призрачных для англичан Пряных островах.
Что до Мастера Бернарда, то в какой-то момент (дело уже было за полночь) один из купцов, изрядно уже захмелевший, пожелал освежить горло и не нашёл ничего лучше, как по ошибке, вместо помолвленных, предложить тост за новобрачных; все гости, разумеется, смутились и поискали глазами помолвленных, любопытствуя, как те воспримут такую оплошность гостя, но к своему удивлению, Мастера Бернарда в комнате не обнаружили. Клерк, на самом деле, после отбытия своего патрона почувствовал себя совершенно потерянным и забытым. За весь вечер невеста не обмолвилась с ним ни словом, несмотря на все его многократные попытки заговорить с ней. Кто-то из купцов, быть может, и завязал бы с ним беседу о торговых делах, но когда Мастер Лангдэйл принялся говорить о плавании, про бедного жениха и впрямь забыли. Недовольный и обиженный Мастер Бернард, к тому же до сих пор опасавшийся ретивого шотландца, предпочёл незаметно выскользнуть из гостиной и отправиться к себе домой, от злости и досады кусая по дороге губы.
Была уже поздняя ночь или, правильнее сказать, раннее утро, когда пиршество завершилось. Лишь один достопочтенный пастырь отправился к себе домой, поскольку жил неподалёку и был почти трезв; остальных же гостей уложили отдыхать по разным комнатам этого большого купеческого дома. Ронан направился в свою комнату и застал там спящего старца и прикорнувшего на лавке около него Эндри, который, услышав шаги, тут же проснулся, продрал глаза и принялся ворошить угли в камине. Юноша поинтересовался у паренька о самочувствии святого отца, однако в ответ услышал голос самого Лазариуса:
– Слава всевышнему! – с этими словами старец сел в кровати, а мальчишка заботливо подложил подушки ему под спину. – Эндри уже пояснил мне, каким образом я потерял чувства в пеньковой петле и вновь обрёл их в этой уютной комнате. Видно, на то была воля Божья.
Страшные багровые полосы и ссадины на шее у старика, тихий звук его хриплого, затруднённого голоса свидетельствовали о недавно перенесённых им муках. Ронан присел на кровати и принялся в самых тёплых словах выражать благодарность своему учителю.
– Нет, сын мой, – возразил старец. – Благодари, прежде всего, Господа Бога нашего, ибо это он избрал меня, сего отрока и некую девицу орудиями спасения тебя от злейшего врага.
Юноша кивнул Эндри, и тот послушно выскользнул из комнаты.
– Мне известно наверняка, что встречу в таверне и отравление благородного Толбота подстроил злобный Фергал, – задумчиво произнёс юноша. – И в этом также замешан жених мистрис Алисы, гнусный Бернард.
– Так он уже её жених, – сдвинув брови, молвил старец. – Надеюсь, твоя страсть к этой девице и ревность не толкнули тебя на необдуманные поступки? Иногда и люди много старше тебя теряют рассудок, прельстившись женскими чарами.
– Что вы, святой отец, – ответил Ронан, слегка покраснев и немного лукавя. – Как я могу переступить границы благопристойности! И уж тем более, я не намерен вновь лишаться свободы, столь легко потерянной и так дорого приобретённой, чтобы по-подлому умертвить соперника и вновь оказаться вне закона. Сегодня я покидаю Англию на великолепном корабле, оставляя позади все беды и несчастья.
– Хотел бы я, чтобы так оно и было, сын мой, – серьёзно молвил старец. – Но что-то подсказывает мне, что тебе ещё предстоит хлебнуть лиха.
– Ну, конечно, святой отец, у меня нет никаких сомнений насчёт предстоящих тягот морского путешествия, – согласился Ронан. – Я знаю, на что иду, и смело гляжу вперёд.
– Не о том веду я речь, не о том, – продолжил Лазариус, – а о людской злобе и коварстве. Раньше у тебя был один кровный враг, а ныне уже двое.
– Вы, верно, имеете в виду коварного Фергала и этого трусливого счетовода? – предположил юноша. – Так, когда я вернусь из плавания – клянусь честью! – я разберусь с ними обоими: хоть вдвоём, хоть поодиночке.
– А поднимется ли рука твоя на брата твоего? – сурово вопросил старец, испытующе исподлобья глядя на юношу.
– Брата? – немало удивился Ронан. – У меня нет ни братьев, святой отец, ни сестёр, и вам это прекрасно известно.
– Моя память ещё не настолько плоха, чтобы я забыл твои рассказы о своей семье. О, блажено было то время, проведённое нами вместе под монастырскими сводами! Но, воистину, ныне мне известно и большее. И я не смею сокрыть правду от тебя, как бы горька для тебя и жестока она ни оказалась, ибо скрывать правду ничем не лучше чем говорить ложь, – молвил Лазариус, и всегда серьёзное лицо его стало ещё серьёзней. – Так, внимай же, сын мой: Фергал, лукавый и жестокий Фергал, это исчадие ада, он – сын твоей матери!
Ронан ужасно побледнел и недоверчиво поглядел на своего старого наставника, не в силах осознать смысл сказанного – так безумна и чудовищна была эта мысль!
– Нет, этого не может быть, святой отец, – с мягкой улыбкой произнёс юноша, подумавший про себя, что жестокие лишения и страшные испытания повредили рассудок его старого наставника. – Моя матушка была самой благочестивой леди и самой верной женой на свете. Насколько мне ведомо, у моих родителей до меня родился мальчик, мой старший братик, но – увы! – он прожил совсем немного. Чтобы Фергал, этот подлый убийца и интриган, был моим братом! Нет, мой разум отказывается в это верить.
– Увы, сын мой, это так, – с суровой настойчивостью продолжил Лазариус. – Я разумею сколь тяжко тебе в это поверить. А судя по твоему смущённому лику, ты, верно, полагаешь, что старик тронулся рассудком? Но нет! Моя голова так же ясна, как и в те времена, когда я был в твоих годах. Так, послушай же, как я пришёл к такому страшному выводу. Мне пришлось провести много дней в обществе славного Эндри, чьим заботам я во многом и обязан своим выздоровлением. Этот разговорчивый мальчик поведал мне одну страшную историю, которую в вашем селении рассказывают под покровом ночи и вдали от чужих ушей. За несколько лет до твоего рождения горские разбойники похитили леди Кентигерну, и прошло несколько дней, прежде чем за выкуп они вернули её лорду Бакьюхейду. А вскоре молодая жена оставила замок, чтобы якобы навестить своего родителя и родственников, и вернулась лишь через несколько месяцев… Тем временем молодой лорд с отрядом ратников разыскал нечестивцев, и страшная голова их главаря с рыжей шевелюрой долго высилась над вратами вашего родового замка. Я вспомнил странный облик Фергала, в лице которого, несмотря на всю вашу непохожесть, всё же можно отыскать некое сходство. Мне пришла на память его скрытая, необъяснимая ненависть к тебе. Я сопоставил возраст, время и мне всё открылось… Подлый разбойник надругался над леди Кентигерной, и чтобы сие бесчестие не вышло на свет божий, молодой лорд отвёз свою супругу в Горную страну, где она и разрешилась от позорного бремени. Ребёнка отдали на воспитание старой сивилле, промышлявшей знахарством, которая и передала ему часть своего умения. А как он очутился в монастыре, ты уже знаешь.
– Но в чём причина его ненависти ко мне? – спросил ошеломлённый Ронан, для которого услышанное поистине стало настоящим потрясением. – Зачем он хочет погубить меня?
– Хоть мне и трудно проникнуть в тайны души человеческой, но мне думается, что каким-то образом он узнал секрет своего происхождения, и, злобный и дикий по своей природе, проникся страшной завистью к тебе, дворянину и законному наследнику титула и владений, и чей отец так страшно отомстил его отцу. Одно это могло бы объяснить его беспричинную к тебе злобу. Каковы же прочие его побуждения известно лишь тому, кто вселил в него все эти злые чувства и чёрные намерения – ангелу тьмы.
– Что ж, у меня будет предостаточно времени поразмыслить об этом нежданном родственнике, – сказал Ронан, вспомнив о своём совсем уже скором отплытии. – Быть может, за время моего отсутствия и Фергал одумается. Но я непременно разыщу его по возвращении и поговорю с ним открыто, прежде чем решать, как с ним поступить.
– Берегись, сын мой, и не будь самонадеян, – предупредил старец. – Помни, он весьма коварный человек, на которого уже пала кровь Томаса Толбота, и в преследовании тебя он ни перед чем теперь не остановится.
– Ну, на ближайшие месяцы, а то и целый год я от него уж точно отделался, – с тайным облегчением заявил Ронан. – А каковы же ваши планы, святой отец? Ведь Англия отвернулась от истинной веры, и здесь вам не найти приюта. Монастыри давно все закрыты, опустошены и разграблены, а на монахов смотрят как на бездомных собак и подвергают гонениям. Мне думается, вам стоит перебраться на континент, например, в Италию, где незыблема истинная вера и процветают науки.
– Спасаться бегством? Нет, сын мой! – с необычайной твёрдостью, насколько это позволял его слабый и хриплый голос, ответил старый монах. – Мысль о моём воспитаннике, ныне поднявшемся к высотам духовной и государственной власти, не даёт мне покоя. И разве не должен учитель поддержать веру ученика своего и укрепить дух его, когда того искушают золотом и удовольствиями?
– Если я не ошибаюсь, вы имеете в виду архиепископа Сент-Эндрюса? – сказал Ронан.
– Да, сын мой, я отправлюсь на север, в Шотландию, – подтвердил Лазариус.
– В Шотландию! – изумился юноша, не скрывая своей тревоги и взволнованности. – Но вспомните, что вы там претерпели прошлой осенью! Вас снова схватят и упрячут в какое-нибудь подземелье, откуда вам уже не удастся выбраться тем чудным образом, что из подвала в Пейсли.
– Может быть и так, сын мой, ибо неисповедимы пути Господни, – смиренно молвил старец. – Но должно мне встретиться с архиепископом, глянуть ему в глаза. Не может того быть, чтобы меня мучили по его повелению. А ежели ослабла его вера, то кто, как ни я может поддержать стойкость его духа!
Ещё некоторое время провёл Ронан с отцом Лазариусом, стойко выслушивая его напутствия и наставления, хотя душой он был уже на корабле. Чувствуя нетерпение юноши, старец прервал свою прощальную речь и благословил юношу по католическому обычаю, осенив его своим нательным крестом и прочитав молитву над его склонённой головой…
Уже начинал заниматься рассвет, и юноше нужно было спешить, чтобы успеть в Редклиф к восходу солнца. А ведь он ещё не успел попрощаться с Алисой! Опасаясь, что мучительная сцена расставания могла чересчур его задержать и, быть может, даже вновь поколебать его решимость отправиться в плавание, Ронан написал девушке краткую записку, в которой сетовал на необходимость немедленного убытия, клялся ей в верности до гроба и просил её помощи в отправке отца Лазариуса в Шотландию.
Затем Ронан разыскал Дженкина, который по-походному дремал в хозяйском кресле за ещё неубранным столом в гостиной. Ординарец живо вскочил и с готовностью отвёл юношу на пристань, где те же лодочники, что отвозили в Редклиф купца Габриеля Уилаби, теперь приняли в свой ялик другого пассажира и вновь отправились по старому маршруту.
Когда первые лучи восходящего солнца заискрились на лёгкой речной зыби, Ронан уже взбирался на борт галеона «Эдвард Бонавентура».
Глава LXXIII
Отплытие
Наш герой так спешил оказаться на борту своего корабля, что прибыв в бухту Редклифа и вскарабкавшись по свисавшему чуть ли не до самой воды трапу, не обратил ни малейшего внимания ни на суету на другом судне флотилии – галеоне «Бона Конфиденция», ни на группу моряков с этого корабля во главе с капитаном Дарфуртом, высадившуюся на пристани и что-то живо обсуждавшую. Юный шотландец, всегда любознательный и дотошный, ныне уже безотчётно подчинился строгому корабельному порядку и дисциплине. Чувствуй он себя более непринуждённым и прикажи лодочникам пристать к пристани, чтобы узнать, в чём там дело, множество жизней, возможно, было бы спасено, и несчастных миновала та страшная участь, которая постигла их в дальнейшем, да и судьба самого Ронана, наверняка, сложилась бы иначе. Но, увы! провидению угодно было допустить эту роковую оплошность и дать свершиться дьявольскому злу…
Ронан доложил о своём прибытии капитану Бэрроу, который выслушав краткий рассказ юноши, взялся при первой возможности повторить его командору и приказал матросу не откладывая приступить к своим обязанностям. В чём заключаются эти обязанности, Ронан узнал у молодого моряка по имени Вилли, которому капитан Бэрроу пару дней назад поручил взять опеку над Роджером Уэлфортом и научить его управляться с такелажем и прочим премудростям морского дела. Несмотря на свою молодость – а был он года на три моложе Ронана, – среди прочих матросов галеона Вилли считался опытным и знающим моряком. Поскольку Ронан был отличным учеником, то поэтому за первый день их знакомства шотландец постиг почти всё устройство корабля, постарался выучить названия многочисленных элементов рангоута и такелажа – хоть это и было занятие, надо сказать, не из лёгких, запомнил основные корабельные команды и приобрёл множество иных ценных познаний, необходимых каждому моряку…
Ронан застал Вилли в трюме позади фок-мачты, где юный моряк привязывал канат к запасному якорю.
– Эй, Уэлфорт или как там тебя ещё, куда ты вчера подевался, чёрт возьми? – спросил Вилли, увидев спускавшегося в трюм Ронана.
– Хотел уладить одно дельце, а пришлось – целых три, – бодро ответил молодой шотландец.
– А всё же, как же тебя теперь изволишь величать? – неожиданно спросил моряк. – Уэлфорт или Лангдэйл, Роджер или Ронан?
Ронан изумлённо уставился на товарища – откуда ему было известно его истинное имя?
– Теперь, впрочем, все равно, – ответил шотландец. – Меня с детства звали Ронан Лангдэйл, но Мастеру Ченслеру имя это чем-то пришлось не по вкусу и он окрестил меня по-другому.
– Верно, то было провиденье Господне, – как бы невзначай заметил Вилли. – Иначе у тебя были бы большие шансы колыхаться давеча на перекладине, словно марселя и брамсели на реях во время полного штиля.
– Бог ты мой! Но откуда тебе так много про меня известно? – ещё больше удивился Ронан.
– Акула в жабрах принесла, – уклончиво ответил Вилли и не преминул вновь озадачить товарища: – Я же не спрашиваю, приятель, с какой стати ты по Редклифу с племянницей нашего командора под ручку ходил… Ну, да ладно, двигайся сюда и гляди, как перлиневый узел вязать, да запоминай хорошенько. Коли хочешь настоящим моряком стать, тебе ещё не меньше двух дюжин узлов толком знать надобно. – Вилли распустил недоделанный узел, и принялся вязать его заново.
– А скажи, дружок, когда мы сегодня отплываем и скоро ли будем в море? – поинтересовался юноша, присаживаясь около запасного якоря. Хотя ему очень хотелось выведать причины такой осведомлённости молодого своего товарища, но пришлось подождать ещё несколько дней, прежде он уразумел, в чём всё дело.
– Эка, не терпится ему в море выйти, – ответил Вилли. – Да при таком безветрии мы будем целый месяц из Темзы на одном фоке вылазить, марсели-то и брамсели в таком узком фарватере уж не никак не распустишь, а то, как шквал неожиданно налетит и бросит нас на мель, в этой речке ведь особо не развернёшься. Глядишь, ещё и верповать придётся – для этого-то мне и поручили этот вот верп готовить. А вот как отлив начнётся, так всей командой и станем якорь вытягивать. Дай-то бог до вечера до Детфорда доползти.
Хотя Ронан ещё и не понимал смысла некоторых морских словечек, которыми так и сыпал Вилли, но все едино в его ушах они звучали сладкой музыкой – ведь он стал уже моряком и выходит сегодня в первое плавание! Молодой Вилли был пока единственным членом команды, с которым сошёлся Ронан, не принимая в расчёт кормчего флотилии Мастера Ченслера и капитана корабля Стивена Бэрроу, к которым он, впрочем, теперь должен был проявлять должное почтение и послушание. Как мы помним, молодой шотландец успел провести на борту только один день до того момента, когда прибыл Дженкин с бумагой о его помиловании. В тот единственный день он не отходил от Вилли и даже успел с ним подружиться, хотя с другими матросами, которые, как ему казалось, смотрели на него косо и с пренебрежением, Ронан почти не разговаривал – возможно, из-за робости, присущей обычно новичкам, а также по причине не прошедшего до конца страха: ведь, как-никак, он был тогда ещё беглым висельником. Именно в обществе этого молодого моряка и увидал его Фергал, залезший на дерево на берегу…
После того, как верп был готов и Ронан сам несколько раз попрактиковался в завязывании каната перлиневым узлом, они сели передохнуть и Вилли поделился с приятелем последней новостью, которая этим утром мгновенно разнеслась по кораблям торговой флотилии, ибо моряки, как известно, большие любители посудачить. Он сообщил, что накануне отплытия с «Бона Конфиденция» пропал помощник кока, которого прямо как водой смыло. По словам Вилли, вечером всем матросам разрешили последний раз отправиться на берег, дабы на оставшиеся денежки в прибрежных тавернах вдоволь вкусить смачных яств и всласть выпить доброго вина и эля – ведь одному богу известно, когда им вновь выпадет такая возможность. И лишь под утро на галеоне «Бона Конфиденция» хватились помощника кока, которого с вечера никто не видал и не заметил, когда и как тот исчез. Сундучок пропавшего остался на корабле, а потому все посчитали, что с беднягой приключилось что-то худое. На берег была отправлена команда матросов, и те в предрассветной мгле обшарили все ближайшие таверны, выспрашивая, не видел ли кто этого матроса, а также высмотрели все канавы и рытвины вдоль ближайших улочек, куда мог бы незамеченным свалиться пьяный матрос. Но никаких следов пропавшего помощника кока найдено не было, и капитану Дарфурту пришлось самолично ехать на берег, чтобы немедля найти замену пропавшему. Эта загадочная история лишь чуть позабавила Ронана, который, разумеется, и предположить не мог, как сильно она его касается.
После обеда матросам была выдана парадная одежда, отличавшаяся от обычного их одеяния узкими кожаными колетами, надетыми поверх фуфаек из некрашеной шерсти, и высокими медвежьими шапками. На мачтах всех трёх галеонов подняли английские стяги и королевские вымпела. Всё предвещало скорое отплытие. На берегу уже собралась большая толпа любопытных, чтобы глянуть, как флотилия из трёх больших новеньких кораблей отравится на поиски неизведанных морских путей.
В то время как советники плавания общим количеством в двенадцать человек, среди которых Ронан различил сэра Хью, Ченслера и трёх капитанов, отправились на берег для короткого совещания, команды судов торжественно были выстроены на палубах, приветствуя таким способом управителя компании Себастьяна Кабота, который в эти минуты давал последние напутствия тем, кому предстояло руководить плаванием. Ронан стоял рядом с Вилли, благодаря чему был в курсе всего происходящего. По словам молодого моряка, сейчас Кабот должен был вручить членам совета устав и инструкции для руководства плаванием, которые впоследствии раз в неделю будут читаться всем командам для должного уяснения и запоминания. Также Вилли не преминул сообщить, что утром на «Бона Конфиденцию» взяли нового помощника кока, поскольку старого так нигде и не сыскали. Но Ронана это уже совсем не интересовала – ведь сейчас, с минуты на минуту начнёт сбываться его мечта, он отправится в далёкое морское плавание, и все его мысли были только об этом.
Вскоре руководители экспедиции возвратились в лодках на свои корабли. Стивен Бэрроу, поднявшись на борт, глянул в сторону, где стоял Ронан с товарищем, еле заметно кивнул им, затем что-то сказал боцману, и тот принялся руководить подъёмом якоря. Процедура эта, надо заметить, была в то время весьма трудоёмкая, потому как до такого простого устройства как якорный шпиль ещё не додумались и якоря приходилось вытягивать канатом вручную. Для этой задачи боцман отрядил больше половины всех матросов корабля, в числе которых оказался и Ронан. Эта была прекрасная возможность для новоиспечённого матроса проявить необыкновенную свою силу и проворство, которые так ценятся среди простых матросов. И, надо сказать, наш герой не преминул воспользоваться этим шансом, работая плечом к плечу с другими матросами. А как известно, ничто не объединяет людей так как совместный труд, когда тела движутся в едином ритме, а мышцы слаженно сгибаются и разгибаются в общем такте. Конечно, прошёл ещё не один день, прежде чем Ронана приняли в матросское братство и стали считать своим, но поднятие якоря в Редклифе стало первым к тому шагом.
Погода стояла отменная: дул лёгкий западный ветер, по лазурному небосводу плыли пушистые облака, берега Темзы зеленели свежей листвой, цветущими садами и весёлыми лужайками. Первым поднял парус флагманский корабль «Бона Эсперанца». Он медленно выдвинулся на середину Темзы и подхваченный отливом и попутным ветерком неспешно пополз вниз по течению. На расстоянии одного фурлонга за ним последовал «Эдвард Бонавентура» с нашим героем на борту. «Бона Конфиденция» замыкала эту величественную процессию. До моряков доносились радостные крики и добрые пожелания, которыми их провожали люди на берегу. Мальчишки, весело галдя и подпрыгивая, бежали вдоль берега вслед за великолепными кораблями. А некоторые зрители, упоённые зрелищем, сели в лодки и ялики, и целая флотилия этих судёнышек, словно рыбий косяк вокруг больших китов, окружила торговые корабли и следовала за ними чуть ли не до самого Детфорда.
Ронан с наслаждением глядел, как более опытные матросы отдают грот, стараясь запомнить всё, что они делали, и предвкушая, как и ему, несомненно, вскоре будут поручать работать со снастями. Он смотрел на надуваемое ветром полотнище паруса, на реющие на стеньгах флаги и вымпела, на колдовавших у колдерштока квартирмейстера со своим помощником. Юноша озирался по сторонам и не мог поверить во всё, с ним происходившее. Как, неужели это он – человек, заклеймённый слепым и безжалостным правосудием как убийца, презираемый почти всеми, кроме самых близких друзей, и обречённый на позорную смерть, встреча с которой казалась ему неминуемой ещё четыре дня назад, – так неужели это он сейчас вдыхает полной грудью свежий речной воздух и плывёт вдаль на этом дивном, большом корабле, чтобы обогнуть в итоге полсвета! Восторженная улыбка не сходила с лица Ронана Лангдэйла. В этот момент он забыл обо всём на свете, ибо мечта его стала явью.
Ближе к вечеру ветер совсем стих, паруса обвисли, и они двигались только благодаря продолжавшемуся отливу. К счастью, до Детфорда оставалось не больше трёх-четырёх фарлонгов и мачты стоявших там судов уже были хорошо видны. Поравнявшись с этим городком, корабли флотилии бросили якоря. На корме, баке, а также марсе грот-мачты каждого корабля зажжены были фонари, а команды после первого дня плавания отправились ужинать. Ничего нет удивительного в том, что сразу после незамысловатой матросской трапезы Ронан завалился на свою матросскую койку и тут же крепко уснул, несмотря на царивший в тесном кубрике шум и гвалт – ещё бы! ведь он почти не спал последние две ночи…
На следующий день во дворце Плацентия в королевских покоях Эдвард Шестой, с горящими глазами на тонком исхудалом лице, восседал на придвинутом к окну кресле. Рядом стоял его самый искренний и преданный друг – Генри Сидни.
– Когда же они проплывут, Генри? – с нетерпением спросил юный король, привставая с кресла. – Колокол давно уже пробил полдень, и тень от дворцовой башни уже коснулась воды.
– Вы непременно их увидите, мой государь, и полюбуетесь плавным изгибами корпусов, высокими мачтами и гордо реющими стягами вашего государства и его прославленного монарха, – ответил вельможа, вновь мягко и неспешно усаживая короля в кресло. – Не тратьте пока силы, я дам вам знать, когда они будут в видимости дворца. Ещё вечером я различил в темноте корабельные огни вверх по реке, а нынче утром с дворцового причала я заметил вдали, напротив Детфорда, их мачты и корпуса. Уверяю вас, то будет величественное зрелище, когда эти прекрасные галеоны проплывут по Темзе мимо окон вашего дворца. Наберитесь терпения, ваше величество, отлив уже начался.
Эдвард откинулся на спинку кресла и издал горестный вздох, в котором Сидни почудилась невыразимая тоска человека, предугадывающего свою скорую участь, а также тихая зависть к тем здоровым и сильным людям, которые отважно сейчас отправлялись на открытие новых морских путей.
Генри Сидни стоял подле короля, поглядывая то на его лик, на котором уже отчётливо лежала тень смерти, то в окно, за которым виднелась речная гладь. В это время в комнату вошёл доверенный королевский лакей и кивнул головой молодому вельможе. То был условленный сигнал, которым Сидни просил известить его о появлении кораблей флотилии.
– Они приближаются, мой государь, – произнёс вельможа и помог королю подняться с кресла.
Эдвард встал у окна и обратил свой горящий взор на Темзу, по которой один за другим мимо королевского дворца медленно и величественно двигались три корабля. Их команды в парадной одежде торжественно расположились на палубах, каждый на своём месте, лицом к окнам дворца Плацентия. Офицеры и купцы стояли на кормовой части кораблей, возвышавшейся над палубой на шесть или семь, а то и целых десять футов. Матросы, свободные от главных обязанностей, разделены были на три, примерно равные группы: одна занимала место на верху носовой надстройки, другая выстроилась на палубе между фок и грот-мачтами, а оставшиеся матросы расположились на вантах и марсах.
– Посмотри, Генри, как бесподобны эти корабли, какие бравые люди стоят на их палубах и как торжественен их вид! – воскликнул Эдвард, не в силах совладать со своим восторгом, и тут же от столь сильного напряжения голоса его пробил зловещий кашель, так что Сидни был вынужден вновь усадить короля в кресло…
Поскольку из-за слабого ветра корабли двигались слишком медленно, то у Ронана было достаточно времени, чтобы со стороны речной глади полюбоваться окружённым парками королевским дворцом. Чем-то он напомнил ему резиденцию герцога Нортумберленда – дворец Элай на берегу реки Флит, главное здание которого тоже вытянулось вдоль берега. Но по сравнению с мрачными герцогскими чертогами дворец Плацентия выглядел куда более авантажней, так же как и величавее смотрится Темза по сравнению с Флитом, и, сложенный из красного кирпича, казался более интересным и весёлым со своими разномастными башенками и шпилями, на самой высокой из которых развевался королевский стяг.
Со своей стороны, жаждая насладиться сим величественным зрелищем, десятки людей в великолепных костюмах и пышных платьях высыпали на дворцовый балкон, который не мог вместить всех желающих, а потому многие окна были распахнуты настежь и люди высовывались оттуда и размахивали шляпами, цветными лентами и платками.
Многочисленные дворцовые слуги, лакеи и прочая дворцовая челядь, которым по их статусу не пристало лезть впереди вельмож, сановников и придворных дам, но которые были не менее любопытны, чем их господа, выбежали на берег, усеяли весь дворцовый причал, грозивший рухнуть в воду под тяжестью стольких людей, а некоторые, наиболее ловкие и проворные из простых слуг побежали вдоль берега, туда, где к воде примыкал парк, и забирались на кроны деревьев, откуда радостными восклицаниями приветствовали моряков.
Наверное, около часа флотилия продолжала неспешно и торжественно продвигаться вдоль величественного фасада и дворцового причала, где множество людей не переставали салютовать отважным морякам и весёлыми криками, и летящими вверх шляпами.
«А ведь где-то за этими стенами находится его августейшее величество, английский король, а по сути, бедный благочестивый мальчик, чьё милосердие спасло жизнь отцу Лазариусу и мне, но и на день не продлит его собственную», – подумалось вдруг Ронану, и эта мысль острой жалостью пронзила его душу.
В этот самый момент раздался пушечный выстрел.
– Мой государь, они салютуют вам, – сказал Сидни, глядя в окно.
Эдвард попытался приподняться, как бы пытаясь ответить на приветствие моряков, но тщетно – без помощи своего друга ему было уже не справиться. Генри Сидни скорее почувствовал, чем заметил это движение короля и тут же предложил свою помощь. Но юный монарх, грустно улыбнувшись, лишь покачал головой.
– О, Генри, милый мой Генри, с каким удовольствием я поменял бы сейчас это резное дубовое кресло с королевскими вензелями и весь мой дворец на палубу корабля и с какой готовностью сменил бы усыпанную драгоценными камнями корону на простую матросскую куртку!
– Подумайте, что вы говорите, ваше величество! Ведь вы властитель могущественной державы, – с недоумением возразил молодой вельможа.
– Ах, Сидни, как ты не уразумеешь мои слова, – печально молвил Эдвард. – Ну, скажи, к чему мне теперь власть, могущество и всё моё королевство, которые скоро исчезнут для меня в тёмной пустоте небытия. Не лучше ли быть простым, пышущим здоровьем, беспечальным моряком, лазить по вантам и поднимать якоря, тянуть канаты и грести вёслами, вдыхать солёный морской воздух и наслаждаться небом, солнцем, звёздами, облаками? Боже, как тяжко осознавать, что скоро моя жизнь погаснет как звезда на утреннем небосводе. А мне ведь всего лишь пятнадцать лет, Генри! Клянусь тебе, я с радостью отказался бы от всего, чем облекло меня рождение, и претерпевал бы все лишения нелёгкого матросского ремесла, лишь бы испытывать великое счастье бытия!
– Я с готовностью отдал бы свою жизнь, чтобы продлить годы моему государю! – пылко и вполне искренне сказал царедворец, в горячем порыве встав на колено перед государём. – Я неустанно молю Господа смилостивиться над вашим величеством и даровать вам полное выздоровление на благо великой Англии и на радость всего нашего народа.
Сидни хотел было напомнить королю, что не пристало сыну великого Генриха падать духом в моменты тяжких испытаний, но взглянув на уставшее и бледное лицо монарха, осознал, что это всего лишь мальчик, несмотря на всё его величие и могущество, – мальчик, который не в силах примириться с мыслию о смерти…
А галеоны тем временем продолжали торжественно проплывать мимо дворцовых окон. И на палубе одного из них с ликом, полным восторженного упоения, крепко держась на ногах, стоял Ронан Лангдэйл, мастер Бакьюхейда, наследник шотландского баронства, а ныне матрос на английском торговом корабле «Эдвард Бонавентура».
Послесловие, которому надлежит быть предисловием
Наверное, название «послесловие» совершенно неправильно отражало бы суть этой главы, ибо, как явствует из её предыдущей соратницы, наше повествование вовсе не окончено, а является своего рода началом длинной и удивительной эпопеи. Здесь автор намеревается дать читателю некоторые необходимые пояснения и раскрыть иные накопившиеся неясности, и также с большим сожалением расстаться с некоторыми персонажами, с которыми читатель по той или иной причине уже не встретится в следующей книге – и было бы крайне несправедливо не упомянуть вкратце об их дальнейшей судьбе. А кроме того, в этом послесловии, которое на самом деле является предисловием, автор желает намекнуть на ожидающие впереди увлекательнейшие события, для которых эта первая книга служит своего рода беспритязательным прологом.
* * *
Для начала стоит вспомнить о бывшем иноке монастыря Пейсли, загадку рождения которого раскрыл благочестивый Лазариус и поведал о том своему ученику в момент их расставания. Вероятно, читателю не составило ни малейшего труда догадаться, что сталось с Фергалом. Действительно, каким-то образом ему удалось заставить исчезнуть помощника кока с «Бона Конфиденции». То ли в тот самый последний вечер, когда матросы пировали в береговых тавернах, Фергал подкупил его и за деньги уговорил убраться прочь из Редклифа, то ли он поступил с бедным моряком менее милосердно, чего также нельзя исключать, памятуя об умении травника составлять различные яды и участи Томаса Толбота, – обо всём этом наверняка сказать нельзя, и загадка исчезновения этого матроса так и осталась навеки тайной, разгадкой которой, впрочем, никто чересчур себя и не обременял. Но как бы то ни было, помощник кока исчез, и утром Вильям Ласси явился на пристань и предложил свои услуги капитану Дарфурту, спешно искавшего кем бы заменить исчезнувшего матроса. Фергал, выказал непомерное почтение капитану и проявил отменное умение подольститься, сочно расписал свои кулинарные способности и уверил моряков, что всю жизнь только и мечтал, чтобы плавать на кораблях и готовить матросам пищу. Так как время поджимало, то Корнелиасу Дарфурту не оставалось ничего другого, как принять Вильяма Ласси на борт помощником кока. К тому же этот новичок показался ему приветливым и простосердечным малым, который, судя по его горячему рвению отправиться в плавание, станет достойной заменой дезертировавшему матросу. Таким образом, Фергал добился своей цели попасть на корабль флотилии, дабы последовать за своим сродником на край света со жгучим и таинственным желанием убрать его со своего пути, в то время как ничего не подозревавший Ронан был всецело уверен, что надолго расстался со своим кровным преследователем.
Не ведала ничего о судьбе своего жениха и бедная Агнес. Назначенный им день свадьбы приближался, а от Вильяма не было ни слуху ни духу. Не на шутку встревоженная девушка вновь отправилась в домик в Свином переулке. Хозяйка жилища немало удивилась появлению Агнес, ибо по её словам выходило, что Мастер Ласси на следующий же день после их последней встречи навсегда покинул её уютный домик, щедро расплатившись с мистрис Питоу и объяснив своё убытие скорой свадьбой и сменой жилища на более удобное для семейной жизни. Агнес, весёлая и добрая Агнес, была достаточно крепка телом, чтобы не лишиться чувств при этом ужасающем известии, но слишком слаба духом, чтобы не заломить в отчаянии руки и не разразиться горючими слезами. Она ревела и рвала на себе волосы, а в кратких паузах успокоения тихонько подвывала, после чего начинала голосить с ещё большим отчаянием. Все её надежды на счастье, маленькое семейное счастье, рухнули в одночасье. А вместо них ужас позора и бесчестия заполонил опустошённую душу Агнес. Скоро все будут тыкать в неё пальцами, как на потаскушку, когда заметят её прибывающее чрево. Почтеннейшая матрона быстро догадалась в чём дело и ужаснулась при мысли о том, что скажут её соседи, если узнают, какую безнравственность она допустила под своим кровом. Она пригласила несчастную девушку к столу, чтобы за кружкой эля успокоить её и уговорить никому не сказывать в округе, как с ней обошёлся Мастер Ласси. Но Агнес в отчаянии махнула рукой и – к огромному ужасу уважаемой во всём приходе мистрис Питоу – в таком неопрятном виде выбежала из дому…
Не прошло и двух недель, а более точно – то было на день святого Дунстана, как Марта вновь зашла навестить свою подругу, жившую на Мосту. Она рассказала Анне о благополучном окончании злоключений благородного юноши, о чём она узнала у своего Джона – по её словам, достойнейшего и самого послушного (что для Марты было одно и то же) из всех мужей на свете. На это её товарка весело рассмеялась и заявила, что ей обо всём уже давно известно, и, как это принято среди близких подруг, распахнула свой сундук и принялась хвастать обновками и всякими пёстрыми побрякушками, которыми её отблагодарили якобы от имени их ночного гостя, ради спасения которого она по доброте душевной пожертвовала своими платьем и чепцом. Кинув слегка завистливый взгляд на обновы своей подруги, Марта ответила, что её старое платье вовсе не пропало, и достала его из своей корзинки, добавив с едва скрываемым сожалением, что теперь Анна вряд ли будет его носить, когда у неё появились более красивые одежды. Столь милая беседа закадычных подружек была неожиданно нарушена громкими криками на Мосту недалеко от жилища Анны. Был ясный майский вечер, и любопытство заставило подруг спуститься вниз. Люди спешили в сторону Церкви, и увлечённые толпой подруги пошли за ними. Вскоре, пройдя под аркой сего удивительного храма посреди реки, они оказались на открытом участке Моста, где и толпились все прибежавшие сюда люди, указывая руками в сторону пирса с восточной стороны. К окружавшему его заграждению из брёвен причалила большая лодка, и дюжий детина, с трудом перебираясь с одного столба на другой и еле удерживая равновесие, выносил на пирс какое-то безжизненное, изуродованное тело.
По словам очевидцев произошедшего, несколько минут назад то была ещё молодая девушка. Она поначалу долго стояла у парапета моста и смотрела на текшую из-под арки воду. Лицо у неё был крайне несчастное, и вообще по всему своему виду она походила на человека, вознамерившегося свести счёты с жизнью. К тому же, всем было известно, что Мост являлся излюбленным местом для самоубийц самого разного рода и звания; а уж коли кто решил покончить с собой, значит, у него на то были веские причины, и не пристало лишать его этого права, полагали законопослушные горожане. Потому-то никто и не пытался остановить эту девушку, хотя не трудно было догадаться наверняка, что было у неё на уме. Наоборот, прохожие даже останавливались и смотрели с нескрываемым любопытством, что же произойдёт, надеясь получить немалое удовольствие от этого жестокого зрелища – увы, таковы были немилосердные времена и нравы. Словом, вид этой несчастной не обманул чаяний прохожих, ибо, в конце концов, девушка собралась с духом, быстро перелезла через парапет и с высоты в двадцать футов бросилась вниз в манившие её к себе тёмные воды Темзы. Собравшиеся зрители получили даже большее удовольствие, на которое рассчитывали, ибо молодой самоубийце не суждено было захлебнуться в речной воде. Её ждала более страшная смерть, хотя мгновенная и потому менее мучительная: в тот самый миг, когда несчастная бросилась вниз, из-под арки вдруг неожиданно выскользнула лодка, и бедняжка плашмя упала на её острый форштевень, который убил сразу и молодую женщину, и плод её греха.
Читатель знает, кто был виной столь трагической кончины весёлой и доброй Агнес, и на кого немедленно должна была бы пасть кара Господня. Но, увы! зачастую преступления попускаются безнаказанными даже столь страшным грешникам, вероятно, предоставляя им возможность к раскаянию и исправлению. Воспользовался ли Фергал этим шансом, чтобы свернуть с пути зла на тропу добродетели, или же, напротив, продолжал множить людские несчастья и горе, о том читателю предстоит узнать из грядущего повествования…
* * *
Вспомним теперь про юного английского короля Эдварда Шестого, каковой мог бы стать одним из самых великих и мудрых английских правителей, если бы не его преждевременная кончина. День ото дня он с ужасом наблюдал за всё новыми симптомами приближающейся смерти – за утрудняющимся дыханием, за безобразно опухающими ногами, за покрывающими молодое тело язвами и за ужасным цветом зловонных птизм, выделявшихся из гортани при всё усиливающемся кашле. Ничто уже не могло спасти Эдварда. Смерть теперь казалось ему избавлением от физических страданий, и он жаждал её прихода. Юноша не прожил и двух месяцев после отплытия кораблей, уносивших его дружественное послание к заморским государям и правителям. Король Эдвард умер на руках своего давнего и преданного друга – Генри Сидни.
Этот блистательный вельможа ещё долго оплакивал своего молодого государя, сразу после смерти которого он надолго уехал в своё поместье в Кенте. Несмотря на узы родства с семьёй герцога Нортумберленда, этот вельможа пытался отстраниться от политических интриг своего тестя и таким образом избежал репрессий, которым подверглось семейство Джона Дадли со стороны пришедшей к власти Марии Тюдор. В годы её правления Генри Сидни даже получил значительные полномочия в управлении Ирландией и на этом поприще принёс много пользы. Королева Елизавета, сменившая через несколько лет на троне свою сестру, всегда питала благосклонность к сэру Сидни, памятуя о том, как он был дружен с её братом, и во многом доверяла его мудрости в ведении ирландских дел…
* * *
Было двадцать второе августа. Прошло всего полтора месяца со дня смерти юного короля, а так много всего случилось за это время. Молодую леди Джейн Грейн против её воли, но согласно завещанию Эдварда Шестого и настоянию Нортумберленда, провозгласили королевой Англии. Однако её правление не продлилось и десяти дней, ибо большинство знати и народа предпочитали видеть своей королевой Марию Тюдор.
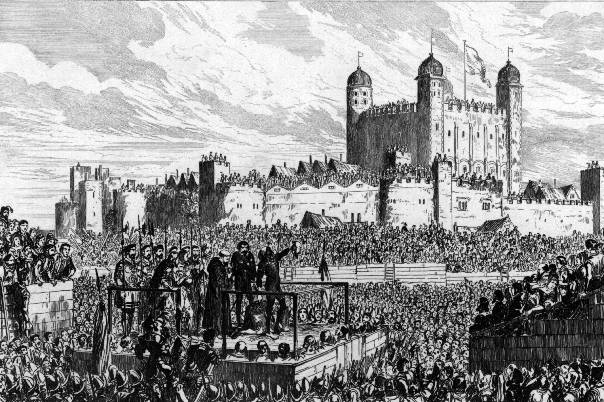
* * *
Мы надеемся, что читатель не забыл, как в утро побега Ронана из тюрьмы, перед выходом из неё он столкнулся с Овадией Гокроджером, которого, наоборот, стражники препровождали в это чистилище правосудия. Он провинился лишь в том, что на ярмарке на Хеймаркет показал обычный свой незатейливый фокус с исчезновением золотой монеты, которая «отправилась в запредельные сферы и находилась под действием магических чар». Но дошлый горожанин оказался не четой простоватому и доверчивому галантерейщику из Йорка и обвинил незадачливого чудодея в обмане. Поднявшийся шум собрал огромную толпу, Овадию схватили, обыскали и выяснили, что трансцендентная область находится в подкладке его рукава, после чего с почётом препроводили к мировому судье. Два месяца Овадия провёл в Ньюгейтской тюрьме, развлекая соседей по застенку своей болтовнёй и простенькими фокусами с подручными предметами. На судебном заседании в Олд-Бейли Овадия Гокроджер проявил чудеса изворотливости, заявил, что он намеревался покуражиться над потерпевшим и затем вернуть ему соверен. А чтобы доказать свою принадлежность к плеяде фокусников, которые зарабатывают на жизнь ловкостью рук и развлекают почтенную публику, он на глазах у судейских и присяжных каким-то умопомрачительным способом вытащил свои запястья из оков. Этот трюк немало удивил и позабавил присяжных, и они, будучи в приподнятом настроении, единогласно признали Овадию Гокроджера невиновным. Как сложилась дальше судьба этого невезучего факира, осталось неизвестным…
Поскольку мы вспомнили про Ньюгейтскую тюрьму, то негоже позабыть про алчного цербера из этого гостеприимного заведения по прозвищу Пёс Тернки. Несмотря на некоторые проблески человечности, случавшиеся с ним, правда, по большей части под влиянием получаемых им «умеренных воздаяний», главной чертой этого человека всегда было стяжание и нажива. Через три или четыре года, до мозга костей отравленный зловонными миазмами, царившими внутри Ньюгейтской ворот, и непомерной алчностью, ещё более усугублявшей страдания небогатых узников, он изволил, наконец-то, покинуть этот мир. После его смерти в каморке, которую Пёс Тернки занимал в полуподвале Ньюгейтских ворот, нашли ларь с увесистыми замками. Когда его вскрыли, то обнаружили, что он доверху наполнен серебряными монетами всех достоинств – от пенни до кроны, среди которых попадались также и старые золотые кроны и полукроны. Поскольку родственников у почившего не осталось, то все деньги по распоряжению лорда-мэра пошли на наём в Ньюгейтскую тюрьму тюремного лекаря, ибо условия пребывания там были столь плачевны, что многие узники не удосуживались дожить до судебной сессии…
* * *
Сын сэра Хью Джордж Уилаби после весёлого времяпрепровождения в английской столице вынужден был вернуться в Рисли-Холл. В Лондоне, в компании своего приятеля, наследник сэра Хью предавался кутежу и попойкам, посещал сомнительные заведения и разного рода увеселительные мероприятия: балаганы бродячих артистов, травлю медведей (которая ему понравилась куда больше чем преследование и травля быка, устраивавшаяся периодически в его родных краях), прыгал и танцевал вместе с молодыми горожанками вокруг майского шеста на Хеймаркет. Кроме такой, полной приятных удовольствий жизни, Джордж в компании своего гостеприимного друга Керзона посетил несколько респектабельных семейств с целью найти себе наконец-то невесту по душе, но здесь его, увы, ждало горькое разочарование, ибо городские девицы на выданье из богатых семейств мало чем отличались от сельских и были, как он когда-то говаривал Ронану про невест из окрестных поместий, чопорными и бестолковыми. Поэтому, будучи взрослым и самостоятельным человеком, через полгода Джордж Уилаби женился на премиленькой дочке капитана стражников из замка Ноттингема; она пусть и не имела значительного приданного, но зато обладала смазливым личиком, весёлым язычком и бойким нравом. Кстати, это именно Джордж Уилаби разыскал обитательницу Моста по имени Анна, чтобы отблагодарить за спасение своего друга Лангдэйла, и одарил её новым платьем, лентами, чепцами, всякими безделками и, быть может, ещё чем, о чём нам не известно…
Уместно заметить, что женитьбе Джорджа Уилаби немало поспособствовал Дженкин Гудинаф, которому сэр Хью поручил «присматривать за непутёвым мальчишкой и наставлять его на путь истинный». Поэтому, очутившись в Рисли-Холл, ординарец сразу дал понять Джорджу, что облечён властью его родителем и будет всячески противодействовать его легкомысленным поступкам и порочным связям. Джордж повздыхал, побренчал на цитоли и пришёл к философскому выводу, что пора беззаботной и разгульной юности закончилась, и вскоре, как было сказано выше, он женился…
* * *
Что сталось с праведным и учёнейшим старцем Лазариусом, доподлинно неизвестно. Мы можем лишь сообщить, что около месяца он прожил в Саутворке, пользуясь гостеприимством Алисы Уилаби, которая относилась к старому монаху с должным почтением и теплотой, несмотря на расхождения в религиозных воззрениях. Затем благодаря этой замечательной девушке Лазариуса взяли в качестве пассажира на одно торговое судно, отправлявшееся в Лейт с грузом квасцов, купороса, а также породистых жеребцов с одной фермы в Кенте. Как сложился дальше жизненный путь старого монаха, избежал ли он опасностей, виделся ли с архиепископом Гамильтоном и где он нашёл место своего последнего упокоения, выяснить не удалось. Однако, судя по тому религиозному стоицизму, который являл Джон Гамильтон все последующие годы своей жизни вплоть до самой смерти, мы вправе предположить, что столь самоотверженное служение своей вере было подкреплено прочной духовной поддержкой, основа которой была заложена, как мы знаем, и, вероятно, оказывалась в дальнейшем благочестивым отцом Лазариусом.
В 1560 году католицизм в Шотландии был свергнут, аббатство Пейсли разграблено, а его аббату едва удалось спастись от беснующейся толпы. Тем не менее, в это неспокойное время Джон Гамильтон продолжал ревностно служить делу католической церкви, за что он подвергался гонениям и даже тюремному заключению. Значимую поддержку сей прелат гонимой церкви нашёл в лице вернувшейся из Франции королевы Марии Стюарт, верным сторонником которой он являлся до последнего своего дня, который настал через два года после поражения войска королевы и бегства её из Шотландии. Джон Гамильтон был захвачен правительственными войсками в замке Дамбартон, обвинён в организации убийства регента Мерри, что он непоколебимо отрицал, и через три дня без излишних судебных проволочек и разбирательств в своём епископском облачении был повешен на рыночной площади Стёрлинга.
Что касается его кровного брата Джеймса Гамильтона, герцога Шательро, то он продолжал выказывать себя истым политиком и успел до конца жизни ещё не раз поменять цвета, руководствуясь своими честолюбивыми амбициями и никогда не забывая о своих претензиях на шотландский престол. Если читателя не интересуют некие подробности дальнейшей жизни этого честолюбивого и надменного, но в равной степени слабохарактерного и вилявого сановника, то он может невозмутимо пропустить следующий абзац.
Когда в Англии после смерти Эдварда Шестого на престол взошла католичка королева Мария Тюдор, недолюбливавшая герцога Шательро за его непостоянство и ненадёжность, он потерял также ценность и для французов, более полагавшихся на Мари де Гиз. А посему по этим причинам в 1554 году шотландский парламент лишил Джеймса Гамильтона должности регента и передал её королеве-матери. Во время разразившейся в стране в 1559 году протестантской революции Джеймс Гамильтон изначально выступал посредником между враждующими партиями, но, всё ещё лелея мечту о шотландской короне, постепенно склонился на сторону протестантских лордов, которые подкупили его обещанием помощи в устроении брачного союза между сыном Шательро и новой английской королевой Елизаветой Первой, что значительно преумножало бы шансы герцога на шотландский престол. Несмотря на смерть Мари де Гиз и приход в 1560 году в Шотландии к власти протестантов, Шательро оказался не у дел, ибо в Шотландию из Франции вернулась овдовевшая, но молодая и красивая королева Мария Стюарт, а Елизавета Тюдор окончательно отвергла в качестве возможного супруга сына Шательро, молодого графа Аррана. После неудачного протестантского восстания, клан Гамильтонов впал в немилость и Шательро вынужден был перебраться на время в свои французские владения. После свержения с трона Марии Стюарт и прихода к власти протестантского регента графа Мерри герцог вновь вернулся в Шотландию, но, прельщённый планами женитьбы на свергнутой шотландской королеве другого своего сына (ибо первый, граф Арран, ранее потерял рассудок от неразделённой любви к Марии Стюарт), примкнул к партии её сторонников. Даже после военного поражения этой несчастной королевы и бегства её в Англию, герцог Шательро, сам уже немощный телом, покровительствовал своим сыновьям и родичам в вооружённом сопротивлении властям, за что провёл некоторое время в тюрьме. Такая вооружённая конфронтация Гамильтонов и их союзников с правительством продолжалась вплоть до 1573 года, когда на условиях полного прощения и возврата конфискованных земель – со стороны правительства, и признания королём сына Марии Стюарт маленького Якова Шестого – со стороны Гамильтонов и их союзников, был наконец заключён мир.
Таким образом, герцог Шательро, обманчивый и непостоянный, тщеславный и вероотступнический, мирно умер в своей постели – через семь лет после того, как архиепископ Сент-Эндрюс, его благочестивый и оставшийся непоколебимым в своих убеждениях кровный брат был повешен словно мерзкий убийца.
Фулартон из Дрегхорна сразу после смещения своего патрона с должности регента, оставил службу у Джеймса Гамильтона и открыто встал на сторону протестантских лордов, благодаря чему вскоре смог заполучить значительную часть земель, принадлежавших кармелитскому монастырю в Ирвине и тем самым расширить своё поместье. Джон Фулартон продолжал при каждом удобном случае вспоминать про своего предка, королевского ловчего; и тяга эта к прислуживанию и близости к августейшим особам сохранялась и в его потомстве – так, при короле Карле Первом один из его сыновей получил должность первого джентльмена королевской опочивальни.
* * *
Ну вот, кажется, мы и распрощались с теми персонажами – насколько это позволили имевшиеся у автора сведения, – которым в следующей книге уже не суждено появиться, хотя каждый из них мог бы, несомненно, стать главным героем другого произведения; также мы чуточку приоткрыли дверцу к следующей книге. О чём она будет? Трудный вопрос для автора, ибо с одной стороны ему не стоит приподнимать полог таинственного грядущего, а с другой – он не вправе лишать читателя предвкушения будущих приключений и похождений своих героев.
Дошедшие до нас скупые строки историков об этом путешествии, – в котором принял участие наш пылкий и романтичный герой, а также его мечущийся и терзаемый сомнениями злокозненный родственник, и которое для одних окончилось трагически, для других – более благополучно, – не заменят художественного повествования, полного непредсказуемых поворотов сюжета и красочных описаний той эпохи. Смирится ли бедная Алиса со своей судьбой, будет ли лелеять надежду на скорое возвращение своего возлюбленного или всё будет совсем иначе? Не забудет ли её Ронан, очутившись в далёких землях, богатых очаровательными прелестницами? Какую же тайную цель преследует Фергал, пытаясь погубить своего единокровного брата, и в чём он, вполне вероятно, может преуспеть в конце концов? Что станется с отважными моряками, с бравым командором Уилаби, даровитым кормчим Ченслером и смелыми капитанами? Обо всём этом и многом другом автор обязуется поведать в следующих книгах.
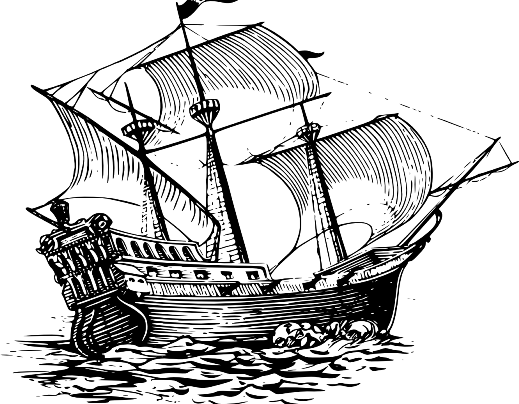
1 Приветствую во имя божие, сын мой (лат.)
2 ординарец (фр.)
3 Нет ничего сильнее молвы (лат.)
4 факте (лат.)
5 Поменьше слов (лат.)
6 брат помощник (лат.)
7 Но идущий за мною сильнее меня (лат.)
8 Звезды управляют людьми (лат.)
9 Бог правит людьми (лат.)
10 схоластика (лат.)
11 Наука существует, если дух уподобляется содержанию знания (лат.)
12 горы в районе Стёрлинга
13 озеро к северу-западу от Глазго
14 Речь идет о Commentariolus , рукописи, написанной великим учёным за 40 лет до описываемых событий.
15 Блажены миротворцы (лат.)
16 И коза неголодна и капуста цела – (фр.)
17 Не стыдись полюбить служанку (лат.)
18 В знании сила (лат.)
19 В знании опасность также (лат.)
20 Келсо и Мелроуз – богатые в те времена аббатства на юге Шотландии.
21 Мощи этого святого стали местом основания монастыря Пейсли в 1163 году, в 1219 году римский папа Гонорий III присвоил Пейсли статус аббатства.
22 старинное название гольфа
23 Этот остров считается колыбелью христианства в Шотландии.
24 Не произноси ложного свидетельства (лат.)
25 чифтан – вождь клана (шотл.)
26 sassenach – англичанин (гэльск.), название использовалось горцами для всех негорских народов.
27 Отче наш (лат.)
28 gentleman – так в старину в Британии назывались люди благородного происхождения.
29 учиться никогда не поздно (лат.)
30 Гостеприимство искупает дерзость (лат.)
31 caigh – так в те времена в Шотландии назывался теннис.
32 не лжесвидетельствуй (лат.)
33 Против смерти нет лекарств в садах (лат.)
34 Самая мелкая шотландская монета в XVI веке.
35 абака – использовавшие в средневековье счёты.
36 богословия (лат.)
37 Newfoundland – Впервые Найденная Земля.
38 северные берега Америки
39 Сегодня это море называется Гудзонов залив.
40 Ныне остров Гаити.
41 Merchants Adventurers of England for the Discovery of Lands, Territories, Isles, Dominions, and Seignories
42 Северное море называлось тогда Немецким-Germanicum.
43 Северный океан (лат.)
44 Edward Bonaventura – Эдвард Благое Предприятие (устар. лат. – итал.)
45 Bona Confidentia – Хорошая Вера (стар. лат. – итал.)
46 Bona Esperanza – Хорошая Надежда (стар. лат. – итал.)
47 Когда говорят пушки, музы молчат (лат.)
48 игра слов, chatter – болтать (англ.)
49 Auld Reekie – ласковое название Эдинбурга. Когда дома топили дровами и углём, над городом стоял дым – reek.
50 акведук (лат.)
51 вид города (лат.)
52 portas – ворота (лат.)
53 Le grand – большой, великий (фр.)
54 Le petit – маленький (фр.)
55 Старый собор сгорел в Большом лондонском пожаре 1666 года, был отстроен заново, но в другой архитектуре.
56 Ратушу Лондона издревле ассоциировали с этими двумя гигантскими статуями, которые и поныне стоят внутри Гилдхолла и выносятся оттуда для участия в ежегодном торжественном шествии, посвящённом избранию нового лорда-мэра
57 odore – запах (лат.)
58 Тайберн – место казни в старинном Лондоне.
59 Асмодей – один из самых злых демонов.
60 Бедлам – больница для сумасшедших в Лондоне, госпиталь святой Марии Вифлеемской, появилась в 1547 г.
61 Шотландские горцы испокон веков считали свинину поганой, нечистой едой.
62 Bouget – бадья (уст. англ.)
63 В ту пору каблуки были только на сапогах для верховой езды, чтобы крепче держатся в стремени.
64 девушка (гол.)
65 Музыкальный инструмент, предшественник клавесина.
66 земной шар (лат.)
67 Английская военная каракка, потоплена французами в 1545.
68 Английский военный корабль «Henry Grace a Dieu» обычно называли Great Harry.
69 излучина в устье Темзы
70 бог ветра (др.гр.)
71 Средиземном море (лат.)
72 бог западного ветра (др.гр.)
73 сегодня г.Ираклион
74 Так в XVI веке назывались северные регионы Африки.
75 Святой Николай считается покровителем моряков и купцов.
76 Последняя жена Генриха VIII, после его смерти вышла замуж за Томаса Сеймура.
77 философский камень (лат.)
78
В шутках стоит знать меру (лат.)
79 королева Мария (лат.)
80 Большой пёс (лат.)
81 Опыт – наилучший учитель (лат.)
82 Ничего из ничего не происходит (лат.)
83 бесполезная штуковина (лат.)
84 научный опыт (лат.)
85 ученик (лат.)
86 "Каждый человек ошибается, но только глупец упорствует в ошибке (лат.)", – фраза, приписываемая Цицерону
87 способ (лат.)
88 обсидиан (лат.)
89 лучшего восприятия (лат.)
90 т.е. болтаться на виселице в Тайберне
91 Благовещение Пресвятой Богородицы (лат.)
92 Персонаж древнегреческой мифологии, чудовищный двуглавый пёс, служил великану Гериону и сторожил его коров.
93 Бедлам – нарицательное название госпиталя святой Марии Вифлеемской, больницы для душевнобольных, основанной в Лондоне около 1547 г.
94 жизнь честных людей свободна от страха (лат.)
95 по существу (лат.)
96 Есть все основания полагать, что им тогда был сэр Роберт Броук, именитый английский правовед, благодаря своим талантам получивший протежирование самого Генриха Восьмого, а в 1545 году занявший должность Recorder of London – главный юридический пост в Лондоне, название которого было волюнтаристски переведено как судебный секретарь .
97 это важное обстоятельство (лат.)
98 на мой взгляд (лат.)
99 мотив (лат.)
100 неотъемлемое право (лат.)
101 защиты дела (лат.)
102 странным образом (лат.)
103 И в самом деле, один свидетель – не свидетель (лат.)
104 Однако у нас есть наглядное доказательство, что это умышленное убийство (лат.)
105 За и против (лат.)
106 Дело закончено (лат.)
107 общий итог (лат.)
108 кредит и дебит (уст. ит.)
109 Благочестивый иудейский царь, восстановил истинное богосужение и истребил все памятники и обряды идолопоклонства, тяжко заболел, горячо молился Господу и в третий день чудесным образом исцелился.
110 О святая простота! (лат.)
111 Барнаби Фитцпатрик – входивший в окружение молодого Эдварда юноша, до 1551 года был мальчиком для порки, затем король отправил его во Францию для образования.
112 На всё воля божья (лат.)
113 Кто знает, что ждёт нас завтра (лат.)
114 законнорожденными из рода Тюдоров (лат.)
115 Время никого (не ждёт) (лат.)
116 Время моё близко (лат.)
117 Благословляю (лат.)
118 Хвалим тебя Господи (лат.)
119 Приносим тебе величайшую благодарность, высокочтимый владыка (лат.)
120 И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим (лат.)
121 Уильям Уоллес – национальный шотландский герой, лидер борьбы за независимость, казнён в Лондоне в 1305 году.
122 законным путём (лат.)
123 денежный довод (лат.)
124 это не по закону (лат.)
125 нет правил без исключения (лат.)
126 Дело закончено, можно и расходиться (лат.)
127 Новый свет (лат.)
128 Богиня прощения (лат.), означало слово помиловать на документах.
129 с надлежащей обдуманностью (лат.)
130 намеренно (лат.)
131 действие против его свободы (лат.)
132 неправомерно (лат.)
133 напротив (лат.)
134 преступлением закона (лат.)
135 никто не несёт наказания (лат.)